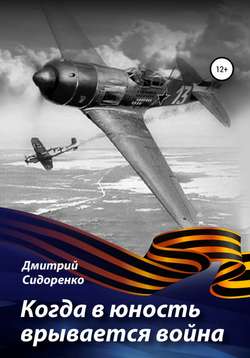Читать книгу Когда в юность врывается война - Дмитрий Григорьевич Сидоренко - Страница 13
Часть первая
Глава 12
ОглавлениеГармонь играла с перебором,
Толпился в пристанях народ,
А по реке, в огнях, как город,
Бежал красавец теплоход.
А. Т. Твардовский, «Кружились белые берёзки»
В академию нас ехало тринадцать человек – отличников спецшколы. В Астрахани мы погрузились на речной теплоход «Москва» и отправились по Волге. Академия находилась в г. Свердловске, она была эвакуирована из Москвы.
Теплоход медленно поднимался вверх по Волге. Нам отвели места третьего класса – корму, бак-палубу. Мы разместились на второй палубе, но время проводили больше на корме. Там вдвоем с другом мы любили пить чай в шлюпке. После селёдки чай был особенно вкусный, и на корме было замечательно: приятной вечерней прохладой обдавало лицо, внизу стучали гребные винты, а там, за кормой, бурлила и пенилась вода, и веером расходились к берегам волны. Долго, до поздней ночи, мы просиживали на корме, мечтая об академии, о своём будущем, любуясь ночными огнями и красотою Волги.
В Астрахани нам выдали форму спецшколы ВВС, а ботинок не дали, и мы босые, в полувоенной форме бродили по кораблю, привлекая внимание окружающих своим нарядом.
– Вот, примечайте: человек одет по последнему крику моды, – помню, сострил какой-то весельчак, указывая на меня пальцем.
На пристанях мы таскали у нерасторопных баб пирожки и арбузы, а совесть свою успокаивали таким философским заключением: «Когда бедный берет у богатого или голодный у сытого, то это не воровство, а простая делёжка».
Больше полумесяца мы плыли вверх по Волге, любуясь её красотой, затем по Каме; потом, сделав ещё одну пересадку, продолжили путь и, наконец, оказались в Свердловске, у цели. Это была Военно-воздушная ордена Ленина Академия Красной армии имени Николая Егоровича Жуковского. Выпускала она инженеров воздушного флота с воинским званием инженер-капитан. Срок обучения – шесть лет. В академии был подобран исключительно сильный профессорский состав. Здесь работали такие знаменитости как профессора Юрьев, Голубев, Бухгольц, трудами которых пользуются почти все ВТУЗы страны. Некоторые их труды популярны за границей. Отсюда вышли многие конструкторы современных самолётов – Ильюшин, Яковлев, Микоян и др.
Начальником академии был генерал-майор Соколов-Соколёнок – человек бывалый, заслуженный. Телосложением он был невелик, отсюда, говорят, образовалась вторая половина его фамилии. Заместителем по политчасти был генерал-майор Батов. В противоположность своему начальнику, это был пузатый человечек с заплывшими лицом и шеей. Вся эта масса держалась на чрезвычайно тонких ногах, и казалось, что эти ноги вот-вот сломаются, и всё тело рухнет. Но мужик он был толковый (недаром говорят: большой живот – признак добродушия), слушатель всегда мог говорить с ним свободно. За сердечную доброту и неподдельное участие к жизни слушателей в академии все звали его – батя. И видно было, что он гордится этим.
Совсем другой вид представляли слушатели. Это были худые, бледные, как тени, преимущественно в очках, люди. Их набрали в академию из третьих и четвертых курсов высших технических учебных заведений. Они были студентами, имевшими за плечами по пятнадцать лет непрерывной учебы. По сравнению с нами, загорелыми и обветренными на Волге, они казались совсем какими-то чахлыми и болезненными. С питанием здесь дело обстояло плохо.
– Вот таким будешь и ты через 6 лет, – острил мой друг, глазами указывая на самого длинного и бледного слушателя в очках.
Многие разочаровались. Я же решил учиться и принялся за подготовку.
Начались конкурсные экзамены. К конкурсу допускались только отличники спецшкол и студенты вузов. Конкурс был таков: из трех кандидатов – один был лишний. Экзаменующие профессора были очень принципиальны и крайне раздражительны, но счастливая звезда висела тогда надо мной – мне всё удавалось, и экзамены я сдал с успехом.
Затем была мандатная комиссия. Я вошёл в кабинет замполита.
– Гвардеец! – заревел генерал Батов, взглядом измеряя меня с ног до головы.
– Так точно! Будущий! – Он порылся в бумагах.
– На какой факультет пойдешь?
– Хотелось бы на факультет электроспецоборудования самолётов.
– Хорошо, будете там, – и дал знак удалиться.
Так я стал слушателем академии. Занятия задерживались. Нас использовали, как самых младших, для всяких подсобных работ.
Начальником курса к нам назначили приехавшего с фронта, но не сдавшего приёмных экзаменов, некоего лейтенанта Печёнкина.
В нашем воображении академия была чем-то недостижимым, возвышенным и культурным, но академические порядки, вернее беспорядки, вызванные, видимо, эвакуацией, разочаровали нас.
Хотя чтение лекций уже началось, нас часто отрывали на всякие работы: грузить дрова, поднимать моторы на третий этаж, и наша «слушательская будничная» песня звучала так: «Раз – два – взяли! Ещё – взяли!»
Посещение лекций считалось обязательным, но многие шли туда нехотя. В аудиториях было холодно, сидели в шинелях.
Первый курс факультета электрооборудования самолётов. ВВИА в эвакуации в г. Свердловск. 1943 г.
Короче, той организации, которая называется порядком, в Свердловске в академии не было. А что было в столовой, мне сейчас самому стыдно вспомнить. Пища делилась обычно так: хлеб резался на десять частей, причем при этом принимал участие весь стол, все десять человек. Таким же порядком разливались щи, вернее вареная капуста. Кроме капусты в разных видах, редко что изменяло наше меню. Затем всё это раскладывалось по кругу. Один отворачивался, а другой кричал: «Кому?» – и указывал на какую-нибудь порцию. Дальше раздавалось всё по порядку, по кругу. Позорно было то, что так пищу делили и офицеры – слушатели третьих и четвертых курсов. Наш пищеблок питался из местных ресурсов, но что могло быть тогда на Урале?! А из того, что давал нарком, добрая половина уходила на сторону. Помню один казусный случай. Однажды на какой-то «великий» праздник в нашу столовую на мясо привезли лошадь.
– Братцы, мясо! – воскликнул разливающий, мешая половником в кастрюле. Все десять вскочили посмотреть в кастрюлю, чуть не стукнувшись при этом лбами. Мяса был один кусок, круглый, похожий на колбасу. Как обычно, разделили его на десять частей и, как обычно, разгадали. И вот когда уже последний дожевал свою порцию и усердно облизался, кто-то смущенно сказал: «Братцы, заметил ли кто-нибудь, что в середине этого куска была дырочка?» Все сконфуженно засмеялись, догадываясь только теперь, что привезенная лошадь не была кобылой…
В этом долгом систематическом недоедании люди духовно опускались, становились крайне мелочными, грубыми и замкнутыми.
На голодный желудок трудно заниматься умственным трудом, неудовлетворённые материальные потребности не способствуют возникновению духовных.
Бытие определяет сознание – так трактует философия. Александр Суворов эту же мысль, между прочим, выразил совсем просто: «Путь к сердцу русского солдата лежит через желудок». Справедливость этих слов я хорошо прочувствовал на себе.
Однажды я заступился за товарища, невинно пострадавшего за то, что отказался отнести продукты не по назначению. Меня вызвал к себе в кабинет начальник курса.
– Мальчишка, – с усмешкой сказал он, – ты всё ещё ищешь правды, её нет. Есть хорошая украинская пословица: «Каждому рот дэрэ ложка суха. И хто я на свити, щоб жив без гриха!»
Я знал, что это говорит недалекий человек, но он говорил правду.