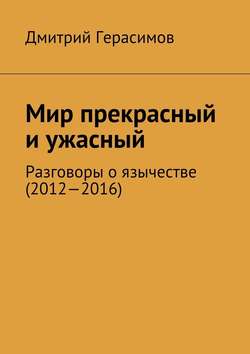Читать книгу Мир прекрасный и ужасный. Разговоры о язычестве (2012—2016) - Дмитрий Николаевич Герасимов - Страница 3
Язычество
ценностно-смысловые, культурные аспекты
О словах и ценностях и смыслах
ОглавлениеО том, что для «возрождения язычества» как культурного феномена недостаточно использовать те или иные понятия, термины или слова, взятые сами по себе – без их отнесения к стоящему за ними способу мысли (и что самое главное – организующим этот способ ценностям), и что, стало быть, главное различие между язычеством и тем, что его отрицает, заключается не в словах как простых именах (или обозначениях), а прежде всего в самой организации (или структуре) мышления, – о том мало помышляют сегодня, полагаясь в основном на субъективно-личностную интуицию и прямо утверждаемую неясность (многозначность) тех же самых вербальных выражений, способную вести при желании в любую сторону, сродни художественному творчеству. Однако приняв стезю «многозначности», тем самым ведь и язычество ограничивают игровой сферой искусства, низводя его до уровня субъективной (и в этом смысле, конечно, значимой) деятельности, в то время как для его подлинного, онтологического возрождения потребовалась бы настоящая семантико-лингвистическая революция, способная растопить аксиологически-нейтральный «лед» современности, возвращающая и восстанавливающая прежде всего ценностно-восприимчивое сознание «язычника». О необходимости такой радикальной перемены в мышлении свидетельствует несомненный факт глубочайшей укорененности в современном массовом сознании как специальных (т.е. имеющих специфически безразличную цель) слов и понятий, прямо мешающих его обращению к ценностям, так и множества напрямую не связанных с заложенной в них структурой мышления просто отвлеченных терминов, способных поддерживать в сохранном виде господствующий универсум одномерности, единственным действенным выходом за пределы которого как раз и оказываются живые ритуалы, обряды, практики современного язычества, первейшее предназначение которых в этом смысле – именно в восстановлении переживания вообще, непосредственного связывающего с природным миром и входящего важнейшей структурной компонентой в ценностно-организованное сознание любого «язычника».
Итак, вот термины первого уровня, которые не могут употребляться язычниками, не меняя их сознания в чуждом им направлении: грех (греховность – безгрешность), спасение (жертва – искупление), в которых происходит радикальное отделение человека от мира и его противопоставление миру. И далее, хотя и под большим вопросом (как «да» и «нет»): совесть (совестливость – бессовестность), вера (вера – безверие), дух (духовность – бездуховность).
Данные термины в своей совокупности характеризуют специально иудео-христианскую доктрину и являются деформирующими, с точки зрения природного мышления, конкретно-абстрактными, т.е. конкретными именами, относящимися к абстрактной (отвлеченной) действительности. Поэтому они носят дуалистический (антиномический) характер. Хотя получили распространение далеко за пределами иудео-христианской доктрины, они составляют ее сущность и ключевые моменты и не могут быть изменены. Как понятия (концепты), содержащие совершенно определенный и неизменный смысл, они являются словами-ловушками, используя которые, любой человек, в том числе язычник, принуждается мыслить в категориях иудео-христианства. Хочет он того или нет, но благодаря данным концептам его мышление неизбежно делается одномерно-дуальным, способным к восприятию библейского проекта в целом. И наоборот, способность обходиться без данных терминов при объяснении многосложной реальности мира и своего к ней отношения означает способность человека выразить адекватно языческое мировоззрение.
Следующие термины являются терминами второго уровня, т.е. терминами, допускающими как иудео-христианскую, так и языческую (ценностно-нагруженную в рамках непосредственного переживания) интерпретацию, а потому их использование со стороны язычников возможно, однако исключительно с оговорками и разъясняющими дополнениями: бог, личность, добро и зло, смысл жизни, самопознание, свобода и др. Данные термины являются абстрактно-конкретными, т.е. являются абстрактными (отвлеченными) именами, относящимися к конкретной действительности. Они возникли раньше, или параллельно с библейской доктриной, но после включения в иудео-христианский проект первоначально заложенный в них смысл кардинально изменился (сделался отвлеченным). В настоящее время они действуют, как и термины первого уровня, в качестве слов-ловушек, принуждающих мыслить по определенно заданной схеме. Чтобы избежать этого, необходимо делать разъясняющие оговорки. Например, «языческий» Бог, или смысл жизни «с языческой точки зрения».
Терминами, составляющими собственно языческое мировоззрение, являются конкретно-конкретные термины, т.е. понятия, несущие конкретную смысловую нагрузку и относящиеся к конкретной действительности – к вещам. Последние – суть эпифеномены сознания, в которых в равной мере присутствует как смысл (мышление), так и ценность (переживание). Проверить это можно, используя конкретные имена применительно к тем или иным языческим Богам и к соответствующим им мифологическим описаниям как вещам. В язычестве всякая реальность конкретна (быть реальностью и означает обладать конкретностью), и следовательно, ценностно насыщена. Абстрактные же (метафизические) понятия и суждения не выражают собой никакой реальности (кроме реальности отвлеченной), и потому являются бессмысленными (не относящимися к реальности мира и жизни) понятиями и суждениями. Вот почему все дуальные (парные) понятия, такие как «добро» и «зло», «истина» и «ложь», «красота» и «безобразие» и т. д. (а таковыми являются все наиболее общие понятия), не могут обозначать собой ценности. Добро могло бы быть ценностью только в том случае, если бы оно было ценно для нас безотносительно ко злу; соотносительность же его с последним прямо указывает на то, что оно в основе своей является отвлеченным смыслом (!), а не ценностью, и следовательно, не выражает собой конкретной реальности мира, определяемой языческим политеизмом (ценностно-смысловым «полиархизмом», или «полиархией»). Чтобы быть включенными в языческое мировоззрение, такие парные понятия (по сути, «антиномии» мышления) должны фиксировать равную ценность того, что они собой обозначают, т.е. в основе своей они должны перестать быть отвлеченными понятиями.
Но, как уже отмечалось, помимо чисто формального, логического разграничения используемых терминов (как определенных концептов, относимых к той или иной организации мышления), возможно интуитивное следование природному способу мысли, характерному для язычества – в чувственно акцентированных деятельностях и обрядовых практиках последнего. Принципиальное отличие языческого универсума мира и мысли состоит в опоре не только на смысл, но и на ценность. Языческий мир «населен» вещами, обладающими сразу «двумя сущностями» – не только сущностью мышления, но и сущностью переживания. Данное обстоятельство служило источником постоянного сопротивления навязанной «сверху» одномерной матрице ценностно-безразличного мышления, что проявлялось как раз в попытках переосмыслить изначально чуждые природному мышлению понятия, такие как «совесть», «дух», «спасение», «смысл жизни», «добро и зло» и т.д., в исконно языческом смысле. На уровне общих слов и понятий неизбежно происходила своего рода ползучая ценностная реабилитация язычества, хотя и в терминах, с самого начала для этого не предназначенных. В итоге христианство, само того не желая, предоставляло превосходно разработанный философский (умственный) аппарат в руки тех, с кем оно вело постоянную идейную борьбу.
Ныне языческий Ренессанс – это возрождение природного мышления и основанного на нем исконно языческого мировоззрения сразу и одновременно во всех областях человеческой деятельности – в религии, философии, науке, искусстве, политике и т. д. То есть это именно кардинальное изменение способа мысли, способа отношения к миру и человеку, возвращение ценностных традиций европейского мышления. При этом косвенным свидетельством начавшихся глубоких исторических изменений является резкое повышение идеологической активности иудео-христианства, направленное на борьбу с язычеством, как и с остатками политического и религиозного влияния ортодоксального христианства (так называемого античного, или языко-христианства), вобравшего в себя многочисленные «синкретические», этнические элементы, в которых (преимущественно в бессознательной форме) сохранилось древнее языческое наследие Европы.
Поэтому с точки зрения культурных перспектив языческого возрождения, следует различать два совершенно разных, даже взаимоисключающих отношения природного сознания к христианству, обусловленные двойственной (переходной от яхвизма к язычеству) природой последнего: есть (1) критика христианства слева, и есть (2) критика христианства справа. Абстрактная, крайне отвлеченная («вообще» и «в целом») либеральная, как и марксистская критика слева (вроде бессмысленных, априори недоказуемых, но зато эффектно звучащих обличений «церковь всегда преследовала ученых», «христианство – враг свободы личности» и т.д.), имеющая своей целью освободить место для еще более «отвлеченных от жизни», чем само христианство – иудео-христианства, христианских ересей, «ничтойности» яхвизма (религии древних евреев), секулярной морали, нигилизма и атеизма, в конечном счете, ослабляет не христианство, а язычество – как раз в том, в чем подлинное язычество и подлинное христианство (языко-христианство) совпадают – в их отношении к универсуму природной жизни. Вот почему, присоединяясь к критике христианства слева, некоторые язычники тем самым превращают родное язычество всего лишь в одну из маргинальных сект современного реформированного иудаизма. Только последовательная и четко сформулированная критика христианства справа (как общего с яхвизмом способа мысли, общих с ним нормативных требований, гносеологического монизма и вытекающей из него «духовности» и т.д.) позволяет избежать формального отождествления язычества с иудео-христианством, выявляя самостоятельную концептуальную позицию язычества, в том числе и в отношении культурных перспектив собственного возрождения. Отсюда фундаментальная роль правых идей и правого движения вообще в формировании язычества: именно правые (внутренне преображающим действием «назад», к «истокам») идеи делают современное «мейнстримовое» оккультно-магическое, во многом сформированное мистическим яхвизмом – каббалой, неоязычество в подлинном смысле природным Язычеством – неодномерным мышлением, сконцентрированным на прирожденной «сути» вещей, отброшенной иудео-христианством. И наоборот, несомненно обратное воздействие прирожденного сознания на формирование современных правых идей, которые обретают свою цельность и завершенность только в прямой связи с исконным языческим мировоззрением.
Последнее ведет к переосмыслению традиционно представленных религий, «вер» через их отношение к природному миру, чьи законы репрезентируют намерения Высших Сил: если Природа и ее законы признаются созданными высшей силой, то религия – всего лишь смертными людьми, которым свойственно ошибаться. Поэтому религия может быть полезной, но может и работать во вред обществу, особенно если она сознательно отрицает мир. Искренность молящегося раскрывается в соединении с Природой, в поклонении ее величию и таинственному порядку бескрайнего, макрокосма. Так мыслящий человек, с одной стороны осознает себя «никем», несущественной частицей перед ликом Природы, но с другой – обнаруживает в себе высшую ценность, ценность звена цепи всеобщей судьбы, без которого эта цепь разорвется. Так рождаются гордость и почтение. Так приходят к гармонии с природой, а с ней возвращаются сила, мир и уверенность.
Важным моментом критики справа является осознание господствующей ныне секулярной «морали» с ее ориентацией на ценностно-безразличные «права» и «свободы» отвлеченного «индивида» в качестве прямого наследника библейской религии или даже ее «максимума», и следовательно, препятствия столь же сильного или даже гораздо более сильного, чем само иудео-христианство. «Мораль» (не какая-то определенная, а мораль как таковая и «вообще», т.е. нечто предельно абстрактное, очищенное уже и от бога и от религии), в развитие собственных идей, заложенных в библейской идеологии, появляется только в XIX в. – с развитием капиталистических отношений, когда человек окончательно отрывается от семьи и рода, становясь «индивидом». Вот почему, вслед за Аленом де Бенуа, «можно сказать, без всяких парадоксов, что мир никогда не был настолько пропитан иудеохристианством, как сегодня»2, когда, как кажется, церкви пустеют, и вера в христианские догмы является минимальной.
В отличие от иудео-христианства, язычество не живет в искусственном мире культуры, совершенно оторванном и противопоставленном миру природы. Напротив, в язычестве человеческая культура, социум, история являются продолжением мира природы и его «частью». Ценности – это не нечто, отличное от вещей (не отвлеченные «идеалы»), а сами вещи – вещи, которые ценятся. В основе фундаментальных ценностей любой отдельно взятой культуры, составляющих ее уникальную особенность, лежит одна наиболее общая ценность, а именно ценность природной («от рождения») обусловленности вещей. Иначе говоря, ценность самой ценности (как способности к оценке), благодаря которой всякая культура существует. Обладать природой и означает обладать ценностью (в том числе культурной). Вот почему языческое возрождение не может рассматриваться в отрыве от глобальных природных изменений. Природа Земли меняется, ее изменения влекут за собой существенные перестройки в мышлении людей, восстанавливающие непосредственные отношения с живым миром (и как с «космосом» и как с «фюсисом»). Возрождая древние языческие культы (солнца, земли, стихий, рода), природное человечество действует в согласии с Землей как Живым Существом, в полном соответствии с этикой «благоговения перед жизнью» христианского мыслителя XX века А. Швейцера. Язычество опирается не на «научные» представления о мире, а непосредственно на сам Мир как полное Жизни Существо, которое только в этом случае отвечает ему взаимностью, весьма разумно отметая противоприродные, дегенеративные наслоения «ценностно безразличной» паразитической цивилизации и восстанавливая в истории цветущий, ценностно насыщенный природный мир человеческой культуры.
В ходе неизбежного восстановления языческого универсума отнюдь не ценности (как некие «центры силы») меняются, а лишь наше отношение к вещам, которые ценятся! Ведь ценности – это не смыслы или значимости, которые можно было бы произвольно менять, трансформировать, «постигать», а, повторим это, сами вещи, которые не подлежат какому-либо изменению. К примеру, родину (поскольку она ценится) изменить нельзя, но можно изменить свое отношение к ней, как к ценности. Такое отношение может стать более интенсивным и устойчивым (менее опосредованным какими-либо смыслами), или наоборот, более слабым, «мерцающим» (рационально отфильтрованным, доказательно «осмысленным»). Таким образом, проблема не только в ценностях (или вещах), или в природе, а и в нашей «субъективной» способности ценить, в том, насколько она развита и вообще самостоятельна по отношению к другой «субъективной» человеческой способности – способности к мышлению.
Смысл не выражает природу (порыв, жизнь, желание), он выражает мир как космос, порядок, взаимозависимость и подчиненность. Здесь абсолютная граница для смысла, его «предел». Чистый смысл, чистая логика – это мир без природы, без воли. Мир, обращенный против себя, мир гибнущий, деградирующий, распадающийся и разлетающийся – это мир, подчиненный исключительно смыслу, «необходимости». Напротив, именно ценность выражает собой природу (безотносительность, внутреннюю непосредственную данность каждой вещи для самой себя), т.е. ту часть существования, которая не подчиняется смыслу и которая «стягивает» мир невидимыми силовыми нитями воли. Воля движима ценностями, «силой притяжения» вещей. Можно сказать, ценности – это тяготение вещей и мира в целом, некий аналог физической силы притяжения, но применительно к сознанию. Причем каждая вещь обладает той или иной степенью тяготения (и, следовательно, пробуждения сознания). Благодаря смыслам мы, напротив, можем отгораживаться и отталкиваться от этой силы притяжения, зависать в пустоте и невесомости логического мира, т.е. безразлично к любым вещам. И таким образом перемещаться, не врастать целиком в ту или иную вещь, по сути, становясь ею, или тотально (до полной неразличимости) поглощаясь ею, а «скользить» в сознании от одних вещей к другим – от одних ценностей к другим. Различные ценности образуют разные «ландшафты» мира, каждое «место» вселенной населено своими собственными ценностями. Различные ценности – как звезды, созвездия и галактики, как самостоятельные центры и источники бесконечной силы. Каждая звезда бесценна и достойна ее посещения. Мир в целом – это бесконечное созвездие таких центров и источников силы притяжения («плюриверсум»). Но полное отгораживание смыслом от притяжения вещей (гипертрофия разума в ущерб переживанию), в конце концов, всегда оборачивается выпадением из мира – от «страдания» и «поиска смысла жизни» до полного «небытия», абсурда, разрушенной логики, конца сознания и существования. Вот почему так важно сохранять равновесие наших способностей (мышления и переживания, веры и воли). Потому что только через это равновесие реализуется жизнь мира и его вечное возвращение. Потому что только так мы пребываем в гармонии с миром. Это и есть язычество.
Поэтому, между прочим, стоит отметить, что так называемых плохих христиан, слывущих в жизни настоящими язычниками, нельзя относить к язычникам. В отличие от библейской религии, язычество отличается не абстрактной (догматической) «цельностью», а единством ценностного восприятия. Вот почему если рассматривать «двоеверие» не в конфессиональном, а в ценностном отношении, то оно оказывается не соединением (или объединением) христианства с язычеством, а самим христианством. Ведь христианство по своей сути и есть не что иное, как укоренившийся раскол, разделение, крайняя поляризованность и противопоставленность. Христианин по определению движется в линиях расщепленного сознания, никакой единой и целостной реальности для него не существует и существовать не может. Мир с самого начала оказывается для него разделенным на «внутреннее» и «внешнее», «творца» и «тварь» и т.д., на (1) отношение к смерти (с иудео-христианской диалектикой греха, спасения и воскресения) и отличаемое от него и неизбежно-попускаемое «языческое» (2) отношение к жизни со всеми заключенными в ней радостями и горестями.
В противоположность этому, в язычестве и жизнь и смерть принадлежат одному миру и обладают одной нераздельной ценностью. Языческий Герой, не страшась смерти, преодолевает жизненные препятствия, потому что смерть (наряду с жизнью) не является для него чем-то, отличным от существующего мира, и, во всяком случае, ничем «не хуже» жизни, поскольку всегда является началом новой жизни. В отличие от христианского «святого», погибая, языческий Герой не нарушает божественного (священного) порядка мира, а напротив, наиболее полно воплощает его в себе, даже смертью своей говоря торжественное «Да» миру! Героическое значит совершенное по природе – именно в героическом природа достигает своего совершенства. Путь Героя, вступающего в светлую обитель Богов, и действующая природная стихия – это одно и то же…
2
Бенуа Ален де. Как можно быть язычником. М.: Русская Правда, 2004. С. 233.