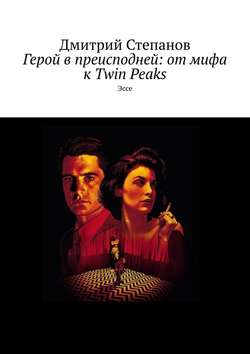Читать книгу Герой в преисподней: от мифа к Twin Peaks. Эссе - Дмитрий Николаевич Степанов - Страница 5
Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks»
Хитрец, ненавистный богам
ОглавлениеКлассическим примером воина-шамана в героическом эпосе является кельтский Кухулин. Он одинаково искусен в воинском искусстве и магии: «Многим был славен Кухулин. Славился он мудростью, доколе не овладевал им боевой пыл, славился боевыми приемами, умением игры в буанбах и фидхелл, даром счета, пророчества и проницательности.» Сын бога Луга и смертной Дехтире, Кухулин уже в раннем возрасте проявляет свои богатырские способности: в инициационных состязаниях он побеждает всех юношей, бросившихся на него, чтобы «убить» его; голыми руками разрывает чудовищного пса кузнеца Кулана – пса, пришедшего в кельтском эпосе на смену инфернальным чудовищам, охранявшим вход в потусторонний мир, – за что получает имя Кухулин, т. е. «Пес Кулана» (с рождения его звали Сетанта, от слова set – путь, дорога).
Во время инициационного похода в чужие земли Кухулин хитростью избавляется от сопровождающих его воинов и один набрасывается на врагов. Во время схватки он впадает в экстатическое состояние – «бешенство героя», сокрушает своих противников и возвращается в таком состоянии к соплеменникам, которым стоит не малых трудов, чтобы остудить бешеного героя (в сагах Кухулин часто называется «оборотнем» и «безумцем»): «Тут в первый раз исказился Кухулин, став многоликим, ужасным, неузнаваемым, диким. Вздрогнули бедра его, словно тростник на течении, или дерево в потоке, задрожало нутро его, каждый сустав, каждый член. Под оболочкою кожи чудовищно выгнулось тело, так что ступни, колени и голени повернулись назад, а пятки, икры и ляжки очутились впереди… Меж тем обратилось лицо его в красную вмятину… Громовые удары сердца о ребра можно было принять за рычание пса или грозного льва, что напал на медведя. Факелы богинь войны, ядовитые тучи и огненные искры виднелись в воздухе и в облаках над его головой, да кипение грозного гнева, поднимавшееся над Кухулином… Геройское сияние исходило со лба Кухулина, длинное и широкое, будто точильный камень воина… В самый центр войска врубился Кухулин и окружил его огромным валом трупов».
Кухулин, сразивший чудовищного пса.
Повзрослев, Кухулин сватается к Эммер, дочери короля Форгала. Последний ставит перед героем трудную задачу – отправиться к хтоническим девам Скатах, дабы научиться у них воинскому искусству. Путь к острову Скатах ведет через Мост Лезвия (подобные мосты – традиционный мотив перехода из мира людей в царство мертвых). Герой трижды пытается перейти через мост, но тщетно. Только впав в состояние боевой ярости, Кухулин преодолевает инфернальный мост (экстатическое состояние как способ проникнуть в потусторонний мир). В преисподней Кухулин обучается боевому искусству, чудесным приемам, одолевает в поединке чудесную деву Айфе и спит с ней, получает от Скатах пророчество о своей судьбе. Вернувшись домой, он силой отнимает у Форгала его дочь и женится на ней. Все это подготавливает героя к его главному подвигу – он в одиночку, пока его соплеменники поражены чудесной болезнью, противостоит войскам четырех ирландских провинций. «Я один у брода, от войска вдали, на самом краю Великой Земли», – говорит о себе Кухулин (мотив одинокого героя у «бездны мрачной на краю»).
В классическом эпосе шаманские черты героя рационализируются. Сверхъестественные способности переосмысливаются соответственно контексту (оборотничество героя становится искусством маскировки и перевоплощения, магические средства представляются как фокусы и трюки, чудеса – как следствие хитрости и обмана). Акцент делается на храбрости и своеволии героя. «Героическое бешенство» выражается не как экстатическое состояние, позволяющее преодолевать границы миров, а как состояние героя, переживаемое им в силу вполне объективных причин.
«Илиада» не случайно начинается словами: «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына, Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал: Многие души могучие славных героев низринул В мрачный Аид…» Из-за произвола Агамемнона – отнятия Брисеиды – Ахилл оскорблен и отказывается сражаться за ахейцев. Он взывает к божественной матери, чтобы та заступилась перед Зевсом за попрание его чести. Внимая Фетиде, Громовержец дарует троянцам победы до тех пор, пока они не почтут Ахилла. Ахейцы терпят тяжкие поражения, Агамемнон даже предлагает бежать, но мудрый Нестор предлагает умилостивить гнев Ахилла. И царь соглашается с ним, ибо «муж тот стоит дружины большой», как кельтский Кухулин.
Гнев Ахилла. Картина Шарля Куапеля. 1737 г.
«Неистовый» Ахилл отвергает дары, он ждет полного поражения ахейцев, и только гибель его друга Патрокла от руки Гектора возвращает его на поле брани. Чувство оскорбленной чести сменяется «бешенством героя», осуществляющего месть врагам. По словам Ю. В. Андреева, «впадая в состояние неистовства, эпический герой полностью теряет контроль над собой и своими поступками. Никакие человеческие чувства, нравственные запреты, увещания друзей и близких уже не имеют доступа к его сердцу. В таком состоянии он не останавливается и перед самыми страшными деяниями, вызывающими ужас и отвращение у других, более спокойных и благоразумных людей, неспособных подняться до такого высокого накала страсти. Так, Ахилл, охваченный скорбью о погибшем друге Патрокле и жаждущий сполна расплатиться с его убийцей, привязывает труп поверженного им Гектора к своей колеснице и демонстративно протаскивает его по земле перед стенами Трои на глазах у его родных и друзей. Он недрогнувшей рукой умерщвляет на похоронах Патрокла двенадцать пленных троянских юношей. В обоих случаях поэт, как может показаться, не одобряет поведение своего героя, предваряя его поступок одной и той же фразой: Ахилл «недоброе в сердце замыслил». Но эти его слова не стоит принимать всерьез, ибо и здесь герой все еще остается в состоянии владеющего им неистовства и дает полную волю переполняющей его до краев «священной силе», которая… может быть и благодетельной, и смертельно опасной для всех, кто его окружает, а сам Гомер, повинуясь внушению Музы, продолжает воспевать «гнев» «непреклонного и пламенного мужа».
В основе «Илиады» лежит рационально осмысленный мифологический мотив возвращения похищенной жены из преисподней. Царство мертвых в поэме сменил вражеский город, инфернальных чудовищ – могучие герои троянцев (прежде всего, конечно, «мужеубийца» Гектор). Мифологичен и способ, по средствам которого ахейцы проникают в Трою. В «Одиссее» слепой аэд Демодок поведал о том, как «в море отплыли данаи, предавши на жертву пожару Брошенный стан свой, как первые мужи из них с Одиссеем Были оставлены в Трое, замкнутые в конской утробе, Как напоследок коню Илион отворили трояне. В граде стоял он… После воспел он, как мужи ахейские в град ворвалися, Чрево коня отворив и из темного выбежав склепа». Троянский конь – это изначально мифологический образ, осмысленный рационально. Он совмещает в себе и образ чудесного коня, доставлявшего героя архаического эпоса (и богатырской сказки) в царство мертвых, и представление о чудовище, которое поглощало богатыря, обнаруживавшего в его чреве иной мир и высвобождавшегося из чрева, вспоров чудовищное брюхо. Мифологический образ в классическом эпосе был осмыслен как предмет военной хитрости. Забавны в этой связи попытки позднеантичных, средневековых и даже современных авторов объяснить рационально образ троянского коня.
Основа «Одиссеи» тоже вполне мифологична. Мотив возвращения героя из преисподней представлен в поэме в менее рационально переосмысленной форме, чем мифологический мотив возвращения жены в «Илиаде». Сам Одиссей сохранил в себе черты архаического образа воина-шамана. Он спит с богинями (мотив чудесной жены), общается с богами, спускается в Аид и беседует с душами мертвых; он останавливает ахейцев, пытавшихся бежать с поля боя (шаман в традиционном обществе занимался, в частности, психологическим настроем воинов на предстоящие битвы), дает мудрые советы и прибегает к хитрости. Эпитеты Одиссея в эпосе дают исчерпывающую характеристику героя: многоумный, многоопытный, всех превосходящий советами и словами, мыслями богам подобный, многохитрый выдумщик, несчастнейший, обездоленный и злополучный, дивный, божественный, великосердый, благородный, бесстрашный, светлый, разрушитель городов, многославный и, наконец, львинодушный (эпитет, которым в «Илиаде» наделен лишь Ахилл, а в «Одиссее» также Геракл).
Одиссей в царстве Аида. Картина Уильяма Флинта.
Несмотря на все эти эпитеты Одиссея, позднеантичная традиция изображала его скорее плутом и хитрецом, чем героем. Некоторые авторы вспоминали в этой связи о том, что миф называл настоящим отцом Одиссея не Лаэрта, а Сисифа, который, по Гомеру («Илиада», VI, 153), был хитрейшим из людей. Связь Одиссея и Сисифа действительно не случайна, но «родственны» они изначально не вследствие своей хитрости. Согласно мифу, Сисиф обманом заковал бога смерти Танатоса в цепи, не позволив тому осуществлять свою «жатву». По другой версии, он хитростью пленил самого Аида. В отсутствие Танатоса люди перестали умирать. Обеспокоенные боги послали Ареса, божество войны, к Танатосу, тот освободил его и низвергнул душу Сисифа в Аид. Но и здесь хитрейший из людей провел богов. Сисиф запретил своей жене совершать погребальные обряды. Аид и Персефона, не дождавшись погребальных жертв, разрешили умершему вернуться домой, чтобы наказать жену. Несколько лет хитрец прожил на земле, пока боги не обнаружили его отсутствия в царстве мертвых и не послали за ним Гермеса. Сисиф, таким образом, – богоборец и хитрец, сумевший обмануть смерть (пусть и на время), единственный человек, вернувшийся на землю из Аида. Подобным же образом характеризуется и Одиссей, вернувшийся из преисподней к жене и сыну, в частности, благодаря своей хитрости.
Хитрость Одиссея подчеркивает в нем шаманские черты. Герои классического эпоса прямолинейны и бесхитростны, как Ахилл. В отличие от них воин-шаман не чужд искусству иллюзий и обмана. Шаманские легенды полны историй о том, как, спустившись в царство мертвых, кам вызволял души сородичей из лап чудовищ с помощью хитрости и всевозможных уловок. Кроме того, чудесные подвиги воина-шамана в позднем эпосе рационально переосмыслялись как хитрые проделки и обман. Хитрость Одиссея – не плутовство, а переосмысленное шаманское искусство. Она сродни хитрости Хун-Ахпу и Шбаланке, одержавших верх над владыками преисподней.
Гомеровский Одиссей – несчастнейший из людей. И. В. Шталь отмечала: «Одиссей – „самый злосчастный среди всех мужей“ (Од., XX, 33) … Одиссей, в основном, – величайший страдалец на земле. „Ни один из ахейцев столько не снес, сколько снес Одиссей. Неисчислимые беды пали на долю ему, а мне по испытанном друге горькая скорбь“, – горюет по Одиссею Менелай, и мнение Менелая – мнение эпоса». Возможная этимология имени Одиссей («Страдающий», «Ненавистный» богам) также указывает на его трагическую долю. Одиссей скорее может быть соотнесен с ветхозаветным Иовом, чем с тем бесчестным плутом, которым изображает его позднеантичная традиция. С той только разницей, что образ Одиссея более глубок и многогранен, чем образ ветхозаветного праведника (характерно, что политика современного государства Израиль больше соответствует архетипу Одиссея, чем вечному образу Иова, с которым ассоциировался еврейский народ в прошлом). Впрочем, возможно, я пристрастен к Одиссею; он и для меня – наиболее значимый герой мировой литературы.
Шаманскую сущность имеет и характерная особенность Одиссея, резко отличающая его от других эпических героев. По словам И. В. Шталь, «Одиссей – герой исключительный даже среди прочих гомеровских героев… Он подчеркнуто „одинокий“ герой… Но „одинокий“ герой Одиссей в некоем свойстве, некоем качестве, приведенном в соответствие с эпическим идеалом, именно в „хитрости“, равен богам и, видимо, превосходит богов». Это одиночество героя в силу его дара подчеркивает его близость образу шамана с его чуждостью миру людей в силу его дара. Здесь берет начало социальная отчужденность, обусловленная творческим даром, героев европейского романтизма, мифопоэтической модернистской прозы, культовых героев массовой культуры XXI века (достаточно упомянуть фразу Ганнибала Лектера, обращенную к преследователю чудовищ Уиллу Грэму (сериал «Hannibal»): «You are alone because you are unique.»).
Одиссей и Кирка. Картина Бартоломеуса Шпрангера.
Еще одна черта Одиссея, характеризующая его как воина-шамана, – его богоборчество. Именно герои архаического эпоса – герои-шаманы – бросают вызов богам, как все те же Хун-Ахпу и Шбаланке или, скажем, Эр-Соготох, размышлявший о том, что «если бы все демоны, живущие в преисподней, пришли к нему, то он раздавил бы их, как мух, а если бы боги вздумали воевать с ним, то и им досталось бы порядочно». Одиссей, по сути, сам бросает вызов Посейдону, называя ослепленному им сыну бога свое имя. Кирка возражает Одиссею на его стремление противостоять Сцилле и сразить ее: «О необузданный! Снова труды боевые и битвы в мыслях твоих! Уступить и самим ты бессмертным не хочешь!» (Од., XII, 116—117)
В классическом эпосе богоборчество героя сменяется мотивом противостояния героя и тирана (конфликт Ахилла и Агамемнона в «Илиаде», Ильи Муромца и князя Владимира в русском эпосе и т. д.). В мифологической традиции, связанной с именем Одиссея, этот мотив представлен в зачаточной форме. Так, согласно мифу, Одиссей не желал идти в поход на Трою – ему не было дела до чьей-то сбежавшей жены, – поэтому, он прикинулся безумным (мотив «священного безумия») перед явившимися к нему ахейскими вождями: запрягши в плуг коня и вола, Одиссей отравился вспахивать свое поле, засевая его солью. Хитрость Одиссея раскрыл Паламед, положивший на его пути младенца Телемаха. Объехав ребенка, Одиссей сам себя разоблачил и вынужден был примкнуть к походу (сюжет несохранившейся трагедии Софокла «Одиссей безумствующий»).
В течение троянского стояния Одиссей часто возражает Агамемнону, и на фоне последнего выглядит настоящим героем ахейцев. Впрочем, хитроумный воин никогда открыто не противостоит Агамемнону. Его неистовый героический нрав проявляется там, где попирается его честь, – в отношении женихов, разоряющих его дом в отсутствие хозяина. Здесь его гнев столь же безграничен, что и «гнев Ахилла». Ю. В. Андреев подчеркивал: «Гипертрофированное чувство чести, отличающее эпического героя от простых смертных, иногда делает его личностью, почти совершенно асоциальной. Уязвленное самолюбие, гнев, обида могут толкнуть его на самые страшные и безрассудные поступки, идущие вразрез с жизненными интересами его соплеменников и сограждан. Гнев Ахилла, оскорбленного Агамемноном в лучших его чувствах, ставит все ахейское войско на грань катастрофы. Гнев Одиссея, безжалостно истребившего весь цвет молодежи Итаки, провоцирует гражданскую войну в его родном полисе».
Это «самостояние» героя, обусловленное принципом «истина и честь превыше всего», вдохновляло вполне реальных людей: философов, воинов, жрецов античности. Некоторые из них отождествляли себя с героями греческого эпоса безосновательно, следуя лишь собственным иллюзиям; другие сравнивали себя с персонажами Гомера вполне обоснованно, самым острым образом переживая ситуацию «один против всех». «В сочиненной Платоном „Апологии“ – защитительной речи перед афинским судом присяжных, – писал Ю. В. Андреев, – Сократ сам без ложной скромности сравнивает себя с гомеровскими героями и, прежде всего, с Ахиллом, этим рыцарем без страха и упрека, смело идущим навстречу своей безвременной гибели. В понимании Сократа, жизнь настоящего философа, как и жизнь настоящего героя, – это вечный бой, в котором важно не потерять себя, не забыть о своем высоком предназначении… Сократ не только теоретически обосновал, но и сам стал живым воплощением совершенно новой версии героического идеала древних греков, в которой победа человека над самим собой, над своими слабостями и пороками значило гораздо больше, чем все победы мифических героев в их схватках с врагами, чудовищами и превратностями судьбы. Этот новый образец героизма произвел глубочайшее впечатление не только на современников афинского философа, но и на многие последующие поколения».