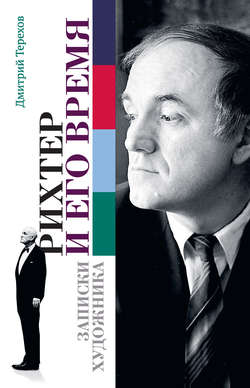Читать книгу Рихтер и его время. Записки художника - Дмитрий Терехов - Страница 9
I. Неоконченная биография. Факты, комментарии, новеллы и эссе
Глава пятая
ОглавлениеО матери. О музах
Это был дом радушный и открытый. Ведь не деньги и не общественный успех делают людей счастливыми. Здесь же нужно было только одно – чтобы все время что-то происходило.
Она принадлежала к тому типу русских женщин, который порождает только наша жизнь. Она могла работать и работать. Шить за гроши, стоять то в очередях, то у плиты, стирать и мыть посуду и делать это ежедневно, годами. Что говорить, такая жизнь быстро превращает женщин в скучных домашних хозяек с плохим характером.
Но ее никто не видел усталой и раздраженной. Усилием воли она в любой момент могла встряхнуться, выпрямиться и сразу стать моложавой и привлекательной. И накрывался стол, и приходили гости. Было легко и непринужденно. И вряд ли кто-то мог представить себе ее монотонную и однообразную жизнь, ее неудовлетворенность. Да и сама она вряд ли признавалась в этом себе.
Когда было настроение, она могла закружиться в вальсе молодо и увлеченно, словно гимназистка, а потом вдруг всплакнуть от интермеццо Брамса или ноктюрна Шопена.
Этот тип женщин уже уходил в ту пору вместе с русской интеллигенцией, планомерно и сознательно уничтожаемой властью ради всеобщего усреднения и примитивного равенства. В таких женщин легко влюблялись, влюблялись надолго, чисто, почти всегда безнадежно и все же счастливо.
Сколько страниц написано об этом в нашей литературе и у Чехова, и у Пастернака, и у Булгакова!
Но это неотразимое влияние, это обаяние более всего и сильнее всего распространялось на детей. Дети безраздельно любили таких матерей, но особенно любили их, конечно же, сыновья.
Становясь взрослее, они сталкивались с большими трудностями. Они неминуемо разочаровывались в сверстницах, не находя или не желая находить в них материнских черт. И это часто оборачивалось замкнутостью, разочарованностью и склонностью к одиночеству. Ведь любить кого-то еще казалось чем-то вроде измены в отношении идеала, в отношении матери.
Потеря матери для таких людей – это настоящая трагедия, никогда не заживающая душевная рана…
В этот дом под вечернюю лампу влекло многих. Иногда здесь прекрасно играли, ведь тут собиралась подлинная артистическая слава города.
Но не только музыкой жили в те времена. Любовь к литературе и театру тоже имела свое воплощение.
Часто разыгрывались пьесы прямо за чайным столом. Для этого почти ничего не требовалось. Нужно было лишь переписать роли да собраться. Это называлось чтением в лицах, им увлекались взрослые. А дети особенно любили немые сцены, где ценились больше всего мгновенная выдумка и веселый талант.
Но изредка устраивали настоящий театр. Тут уж готовились всерьез, и весь дом разрушался до основания. Передвигалась или выносилась мебель. Для занавеса чистился поднятый с пола ковер или снимали с окон шторы. Переделывались настольные лампы для театрального света, под ногами путались электрические шнуры. Словом, ступить было некуда. На полу что-то сохло, что-то красилось. Тут же шились костюмы, выворачивались шубы, брались напрокат фраки, появлялись какие-то пыльные коробки и из них извлекались монокли, цилиндры и трости.
И кто знает – может быть, эти хлопоты и были самым главным во всем предприятии, ведь их украшало ожидание! Украшало чувство неизвестности и даже рискованности предстоящего. И вот приходил этот вечер, и начиналось счастье уж совсем близкого торжества. До прихода гостей оставались считаные минуты.
Диваны, стулья, табуретки теперь составляют ряды. Здесь даже всеми забытое кресло из чулана, которое из-за своей хромоты должно обязательно на что-нибудь опираться.
Печи истоплены, и оголенные окна, лишенные штор, в испарине. Стекла похожи на растянутую кальку. До них нельзя дотрагиваться, иначе сейчас же поползет капля, оставляя одинокий случайный след. Но влага сама скоро нарисует на стеклах черные деревья в стиле модерн, и в их вертикальных извивах замерцают редкие звезды – огни дома напротив…
Обеденный стол вынесен в детскую и уже заставлен чашками. Здесь будет буфет. На кухне возятся с самоваром. Прилаживают в форточке колено трубы.
Итак, сейчас все начнется!
Вот это и есть жизнь! И стоит ли думать о том, что будет через несколько часов, когда все уйдут и взору предстанет разрушенный дом, гора грязной посуды, и все придется двигать, поднимать, ставить на места, мыть и чистить.
Но можно ли думать об этом именно сейчас, когда так хорошо и жизнь дарит тебе самое лучшее, когда так страшно веселым, озорным страхом и предстоящие два часа кажутся целой вечностью, наполненной захватывающими и счастливыми приключениями?
Но что такое домашний театр в сравнении с настоящим?
Из воспоминаний Святослава Рихтера:
«Став органистом в опере, папа часто водил меня на репетиции и спектакли. Стоя в оркестре или где-нибудь поблизости, я проходил в оперном театре школу.
Меня влекло к театру. Все шло через театр».
Кто не помнит потом всю жизнь свой первый спектакль?
Для него это была, конечно же, опера. «Снегурочка».
Можно ли думать о каких-то выгоревших гардинах и коврах перед настоящим занавесом, обращенным к бело-золотому залу, наполненному блеском люстр?! Что может сравниться с тайной декораций, совершенно мертвых при свете служебных ламп, но способных оживать и жить переполненной, самой яркой, самой настоящей жизнью, как только падут на них лучи скрытых цветных прожекторов!
Может ли что-то сравниться с обликом настоящих актеров, преображенных костюмами и гримом!
Из всего этого состояло чудо спектакля. Но не только. Было что-то еще, наверное, самое главное. Было само действие, мысль и темп, ускорения и внезапные паузы, сама драма и ее развитие.
Но оставим этот драматизм театру. В жизни все иначе, к сожалению. Он разделит судьбу своего поколения, своего драматичного времени, разделит ее молча и спокойно, ни на что не жалуясь. Но до этого еще далеко, хотя уже и не очень, но пока, пока еще мы видим его у кулисы, за которой лишь темнота зала, переполненная безликим зрением и безликим слухом.
Он смотрит на руки дирижера, жестко схваченные манжетами. Они округло плавают в полусвете над большим, похожим на стол главным пультом. Здесь, над самой партитурой, музыка становится зримой!
А зал замер от знакомой весенней сказки о превращении снега в жизнь и любовь, которая, как ни знай, как ни помни, всегда доводит до слез нежной наивностью и печалью.
Римский-Корсаков и Островский так потрясли мальчика, что он заболел. Да и как не заболеть, надышавшись впервые алмазно-золотым воздухом искусства…
Если бы кто-то додумался измерять искусство орфеями, так, как измеряют амперами силу тока, все стало бы бесспорно и очевидно для всех. И больше бы не было расхождения мнений! Первое место заняла бы опера, ну а второе – конечно, кино, эта прихотливая и капризная тень театра!
То, что у театра появилась тень, заметили совсем недавно, но она как-то сразу стала подчинять себе умы и сердца.
Еще мало снималось картин, еще подергивалось изображение на экране, а между тем уже было все то, что и теперь безраздельно властвует миром. Было особое, захватывающее переживание световой иллюзии. Такого не бывает в театре.