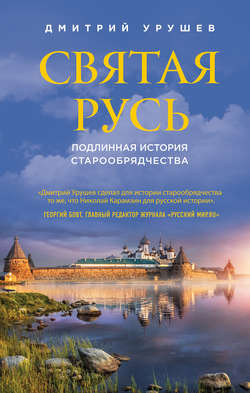Читать книгу Святая Русь. Подлинная история старообрядчества - Дмитрий Урушев - Страница 3
История Православной Старообрядческой Церкви
Глава 2
Начало раскола
ОглавлениеС захватом турками Константинополя и балканских славянских государств в Москве укрепилась мысль, что именно Русь теперь является единственным оплотом православной веры. Отныне истинное христианство сохраняется только в Москве – Третьем Риме.
Считается, что эту мысль первым высказал старец Филофей из псковского Елеазарова монастыря. В конце XV века он писал великому князю Василию III: «Сиа же ныне тр[ет]иаго новаго Рима дръжавнаго твоего царствиа святая соборная апостольскаа Церкви, иж в концых вселенныа в православной христианьстей вере во всей поднебесней паче солнца светится… Блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская царьства снидошас в твое едино. Яко два Рима падоша, а третей стоит, а четвертому не быти»[13].
Русские, считавшие свою Церковь последней твердыней православия, бережно сохраняли древние обряды византийского богослужения. Того самого, что некогда поразило в Царьграде послов киевского князя Владимира: «И придохом же в Греки. И ведоша ны, идеже служат Богу своему. И не свемы, на небе ли есмы были, ли на земли. Несть бо на земли такаго вида ли красоты такоя. И недоумеем бо сказати. Токмо то вемы, яко онъде Бог с человеки пребывает. И есть служба их паче всех стран»[14].
Обряды эти воспринимались московскими богословами как неизменный атрибут правой веры, как древнехристианское предание, ибо так учили святые отцы.
Например, Василий Великий (ок. 330–379) писал в книге «О Святом Духе»: «Из догматов и проповедей, соблюденных в Церкви, иные имеем в учении, изложенном в писании, а другие, дошедшие до нас от апостольского предания, прияли мы в тайне. Но те и другие имеют одинаковую силу для благочестия. И никто не оспаривает последних, если хотя несколько сведущ он в церковных постановлениях»[15].
К апостольскому преданию святой Василий относил крестное знамение, обращение при молитве на восток, евхаристические молитвы, троекратное погружение крещаемого человека и многое другое.
Себе, строгим ревнителям православия и верным хранителям благочестия, русские противопоставляли греков, у которых «православие пестро стало от насилия турскаго Магмета»[16].
Действительно, за века турецкого владычества греки в значительной мере утратили чинность и красоту богослужения, допуская сокращения и изменения, в то время как русские твердо держали византийскую уставную службу.
В XVII веке эта древняя долгая служба удивляла и утомляла самих греков. Архидиакон Павел Алеппский, посетивший Россию в 1654–1656 годах в свите своего отца, антиохийского патриарха Макария, и написавший книгу об этой поездке, не раз восхищался русским благочестием: «Какая твердость и какие порядки! Эти люди не скучают, не устают, и им не надоедают беспрерывные службы и поклоны… Кто поверит этому? Они превзошли подвижников в пустынях. Но Творец свидетель, что я говорю правду!»[17] Так грек Павел дивился греческому же богослужению, принятому Русью от Византии вместе с верой Христовой.
Греков исстари недолюбливали на Руси. Еще автор «Повести временных лет» заметил: «Суть бо греци лстивы и до сего дни»[18]. А после заключения унии с Римской Церковью в каждом приезжем с Востока готовы были видеть еретика, предавшего отеческую веру, «латинянина» и «христопродавца». Падение Царьграда было воспринято как Божья кара грекам за измену православию.
В начале XVII столетия, при московском патриархе Филарете (Романове), греков принимали в общение с Русской Церковью через «исправление веры», то есть как еретиков второго чина – через помазание священным миром. Миропомазанию подвергались не только миряне, приезжавшие на Русь, но и священнослужители.
«После смерти патриарха Филарета проблема отношения к Греческой Церкви и выходцам из нее отходит на второй план. Патриарх Иоасаф продолжал использование миропомазания греческих иммигрантов, но позиция к ним постепенно смягчается. “Очищения” более не применялись к греческому духовенству»[19].
В XV–XVII веках православный Восток испытывал сильное влияние европейской религиозности. Особенно значительно было влияние Католической Церкви, основными проводниками которого стали богослужебные книги, печатавшиеся для греков в Италии.
Греческой общине Венеции принадлежала крупнейшая типография, открытая при участии латинян: «При поддержке св. престола и венецианского правительства в этой общине были основаны школа… и ряд издательств, долгое время остававшихся наиболее влиятельными в грекоязычном мире»[20].
Не без влияния книг, напечатанных в итальянских типографиях, на Востоке произошли некоторые изменения в обрядах, сделавшие их отличными от древней византийской и современной русской богослужебной практики.
Самым существенным и наиболее заметным нововведением было изменение крестного знамения. Если в древности оно творилось двумя перстами (средним и указательным), то теперь греки складывали для крестного знамения три перста (большой, указательный и средний).
Были и другие различия. Например, если в древности литургию совершали на семи просфорах[21], то теперь греки служили на пяти, а то и на одной просфоре.
Изменился вид печати на верхней части просфоры. В древности на ней изображались трисоставный (восьмиконечный) крест и евангельские слова «Се Агнец Божий, вземляй грехи мира» (Ин. 1, 29). Теперь греки использовали печать с четырехконечным крестом и надписью «ΙΣ ΧΣ ΝΙΚΑ» – Ιησους Χριστος νικα (Исус[22] Христос побеждает).
Если в древности крестный ход обходил храм посолонь – за Солнцем-Христом, то теперь греки ходили против солнца.
Если в древности на великопостной молитве святого Ефрема Сирина «Господи и Владыко животу моему…» клали земные поклоны (метания), то теперь греки заменили их поясными.
Изменилось произношение славословия «аллилуйя» при чтении псалмов. В древности греки произносили сугубую (двукратную) «аллилуйю» – «Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже». С XV века они стали читать трегубую (троекратную) «аллилуйю» – «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже».
Были и другие, менее заметные различия. От греков новые обряды переняла прочая паства константинопольского патриарха – балканские славяне, малорусы и белорусы.
Среди православных малорусов и белорусов эти изменения распространялись с помощью книг, напечатанных в католических и униатских типографиях. «Известно, что в числе главных средств, коими старались латины распространить свое исповедание, была порча наших богослужебных книг. С этою целию они покушались с одной стороны изгладить мало по малу в наших богослужебных книгах все то, что могло бы внушить православным отвращение к римскому вероисповеданию, а с другой стороны – и прямо вносить латинские верования»[23].
Разница в обрядах между Русью и остальным православным миром была существенна. И русским на это постоянно указывали греческие иерархи, приезжавшие в середине XVII века в Москву для сбора милостыни. Они же внушали царю Алексею Михайловичу мысль о воссоздании великой Византии.
Греки советовали юному государю начать войну с Турцией, разгромить ее и водрузить крест над поруганным храмом Святой Софии в Царьграде. Тогда, говорили гости с Востока, Алексей Михайлович станет самодержцем всего православного мира, а московский патриарх Никон – вселенским патриархом, Папой Нового Рима.
Перспектива греческого проекта была очень заманчивой, но для ее достижения нужно было устранить разницу между русскими и греческими обрядами.
Никон, шестой московский патриарх, был человеком честолюбивым, но малообразованным и потому полностью доверялся приезжим советникам, которые уверяли, что обрядов, подобных московским, Восточная Церковь не знает. Они утверждали, что русские обряды – новые и испорченные, а греческие – старые и правые.
Однако, как писал историк Николай Федорович Каптерев, «древние наши церковные чины и обряды никогда никем у нас не искажались и не портились, а существовали в том самом виде, как мы, вместе с христианством, приняли их от греков. Только у греков некоторые из них позднее изменились, а мы остались при старых, неизменных»[24].
С этим согласны современные историки, например, Лев Николаевич Гумилев, писавший: «Доказано (в частности, Е. Е. Голубинским – самым авторитетным историком Церкви), что русские вовсе не исказили обряд и что в Киеве при князе Владимире крестились двумя перстами – точно так же, как крестились в Москве до середины XVII в.»[25].
В начале Великого поста 1653 года Никон разослал по храмам Москвы «память» (циркуляр) о введении новых обрядов: «Год и число. По преданию святых апостол и святых отец, не подобает во церкви метания творити на колену, но в пояс бы вам творити поклоны. Еще же и трема персты бы есте крестились»[26].
На многих русских христиан эта «память» произвела гнетущее впечатление. В Москве собрались благочестивые священники, среди которых был и знаменитый «протопоп-богатырь» Аввакум, впоследствии вспоминавший: «Мы же задумалися, сошедшеся между собою. Видим, яко зима хощет быти. Сердце озябло и ноги задрожали»[27].
Эти священники, верные защитники церковного предания, написали и подали Алексею Михайловичу челобитную против введения новых обрядов, которую царь не замедлил передать Никону. По приказу патриарха многие из несогласных попов были арестованы и сосланы.
Расправившись с главными обличителями и почувствовав себя свободнее, Никон решил устроить церковный собор и, прикрываясь его авторитетом, продолжать реформы.
По предложению патриарха царь созвал в 1654 году собор, чтобы рассмотреть и отменить те русские чины и обряды, которые отличались от современных греческих. Каптерев писал, что патриарх, действуя по чужому наущению, «русские церковные чины, несогласные с тогдашними греческими, прямо называет на соборе неправыми и нововводными, между тем как в действительности это были правые, старые греческие чины и обряды, некогда перешедшие на Русь от православных греков и у нас неизменно сохраняемые»[28].
Точная дата проведения собора неизвестна. Предполагают, что он состоялся в феврале или марте, ибо в середине XVII века церковные соборы традиционно проводились накануне или в самом начале Великого поста.
Церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) писал: «Собор был созван в марте или в апреле… после 27 февраля и прежде 2 мая»[29]. Современный историк Сергей Владимирович Лобачев считает, что собор заседал 12 февраля – в первое воскресенье поста (Неделя православия)[30].
На собор Никон постарался созвать лишь тех лиц, «от которых не ожидал себе никакого противоречия, которые дрожали перед всемогущим патриархом и не отваживались на заявление своих, неугодных ему мнений»[31].
Прибыли пять митрополитов – Макарий Новгородский, Корнилий Казанский, Иона Ростовский, Селивестр Крутицкий, Михаил Сербский; четыре архиепископа – Софроний Суздальский, Маркел Вологодский, Мисаил Рязанский, Макарий Псковский и епископ Павел Коломенский. Также присутствовали одиннадцать архимандритов и игуменов, тринадцать протопопов и несколько приближенных царя.
На соборе выступали только царь и патриарх. А присутствовавшие молчали, не смея перечить и единогласно одобряя все решения.
Каптерев считал, что причиной удивительного единодушия участников собора был тонкий психологический ход, предпринятый царем и патриархом: «На соборе, кроме подбора известных лиц, предприняты были и особые меры, чтобы решение поставленных Никоном вопросов совершалось обязательно в известном наперед, Никоном и царем предрешенном смысле… На соборе 1654 года царь первый подает голос, а за ним и все другие за такое или иное решение поставленного Никоном вопроса. И царь делает такой необычный для него поступок, конечно, с особою целью, чтобы своим подавляющим царским авторитетом предупредить со стороны собора возможность отрицательного ответа на поставленный Никоном вопрос. Расчет был верный»[32].
Заседание собора началось с выступления патриарха. Обращаясь к царю и духовенству, Никон говорил, что должно истреблять всякие новины в Церкви, а все, преданное святыми отцами, должно сохранять безо всякого повреждения, приложения и изменения. Патриарх, выступая якобы против церковных новшеств, на самом деле готовился предложить собору новые греческие обряды. Но большинство иерархов не уразумело хитрости Никона и безропотно пошло за ним.
После патриаршего обращения собору был задан первый вопрос:
– Новым ли нашим печатным книгам следовать или греческим и славянским старым, которые купно обои согласно един чин и устав показуют?
Царь, а за ним и покорные иерархи ответствовали:
– Достойно и праведно исправить противо старых харатейных и греческих[33].
После этого собору было предложено несколько примеров, свидетельствующих о различии русских и греческих обрядов: о времени служения воскресной литургии, об отверстии царских врат до великого входа, о положении мощей при освящении церкви и прочее.
Всякий раз, говоря об этих отличиях, Никон предлагал переменить их по греческому образцу, ложно ссылаясь на древние книги. И собор неизменно давал на это согласие.
Единственным, кто выступил против Никона и новых обрядов, был епископ Павел Коломенский. По свидетельству современников, он был весьма образованным и начитанным человеком, знатоком священного писания и церковного устава.
Старообрядцы говорили, что Павел «муж свят и разума святых писании исполнен бе»[34]. И даже никониане[35] признавали: «Бе же той епископ читатель божественнаго писания и добре веды наставляти к Богу шествующия»[36].
Патриарх предложил собору обсудить вопрос о замене земных поклонов на молитве Ефрема Сирина на поясные. И тут отважился встать и произнести речь Павел Коломенский.
Судя по всему, он заранее готовился к выступлению. В своей речи архиерей высказался в защиту церковного предания – великопостных поклонов. При этом свои слова он аргументировал ссылками на два древних рукописных устава.
Впрочем, епископ выступил не только против отмены земных поклонов, но и вообще против введения новых обрядов. Святитель «советовал любопрением великому государю нашему, благочестивейшему царю, такожде и святейшему патриарху, и всему освященному собору таковое новоначатое дело оставити и до конца истребити»[37].
Но слова архиерея не были услышаны. Собор, уступая давлению царя и патриарха, дал согласие на справу русских богослужебных книг по греческим образцам. Павел Алеппский сообщает, что, когда все духовенство прилагало подписи к соборному постановлению, «коломенский епископ, будучи нрава строптивого, не захотел принять и одобрить тот акт, ни приложить свою руку, не говоря уже о том, чтобы дать свое засвидетельствование»[38].
Однако собор определил, что книжная справа будет производиться «по старым харатейным и греческим книгам». Поэтому епископ все-таки подписал соборное деяние.
Впрочем, под подписью Павел добавил следующие слова, непреклонно оговаривая особое мнение о поклонах: «А что говорил на святем соборе о поклонех и тот устав харатейной во оправдание положил зде, а другой писмяной»[39].
Историками доказано: исправление книг, одобренное собором, последовало отнюдь не по древним византийским и славянским рукописям, как того требовало соборное решение, а по современным книгам, изданным в Венеции. Новые переводы сверялись и исправлялись по современным же книгам, напечатанным в Киеве и Вильно.
По этому поводу американский исследователь Павел Иванович Мейендорф пишет: «Каптерев и др. историки старообрядчества допустили, что реформы основывались не только на древних рукописях, но и на печатных греческих венецианских изданиях и на славянских “литвинских” книгах, вышедших из-под пресса в типографиях Речи Посполитой. Русские литургисты (А. А. Дмитриевский и другие) сделали открытие, что венецианские книги не совпадают не только со славянскими, но и с древними греческими манускриптами. Иногда русские старопечатные дониконовские издания оказывались более верными старым греческим спискам»[40].
В ХХ веке новообрядческое духовенство вынуждено было признать это. Например, протоиерей Георгий Васильевич Флоровский писал: «Противники Никоновой справы с основанием настаивали, что равняли новые книги “с новопечатанных греческих у немец”, с книг хромых и покидных – “и мы тот новый ввод не приемлем”. И так же верно было и то, что иные чины были “претворены” или взяты “с польских служебников”, т. е. “ляцких требников Петра пана Могилы и с прочих латынских переводов”»[41].
Единственным критерием такой справы были слова патриарха, обращенные к главному справщику Арсению Греку:
– Печатай, Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по-старому![42]
Кроме того, самое дело справы было поручено «искусным мужам» – людям сомнительным, таким, например, как авантюрист Арсений Грек, неоднократно менявший вероисповедание.
К тому же новые справщики оказались плохими переводчиками, слепо следовавшими греческому оригиналу, поэтому их тексты отличались нелепым буквализмом и изобиловали ошибками.
«Новые московские тексты калькируют греческий текст и создают неудобочитаемые обороты на славянском языке. Ранние тексты оказываются часто более понятными»[43].
Так началась замена новым церковным обрядом и уставом древних традиций, принятых Русью вместе с православием от Византии и неизменно сохраняемых веками.
13
Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI века: М., 1984. С. 436 и 440.
14
Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века: Начало русской литературы. М., 1978. С. 122–124.
15
Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Ч. 3. М., 1993. С. 331–332.
16
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960. С. 101.
17
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 254 и 296.
18
Памятники литературы Древней Руси. XI – начало XII века: Начало русской литературы. С. 84.
19
Опарина Т. А. «Исправление веры греков» в Русской Церкви первой половины XVII в. // Россия и Христианский Восток. Вып. 2–3. М., 2004. С. 324.
20
Католическая энциклопедия. Т. 1: А – З. М., 2002. Стб. 919.
21
Просфора – небольшой круглый хлебец, выпекаемый из пшеничного квасного теста и употребляемый для совершения литургии.
22
Староверы пишут имя Спасителя по правилам древнерусского языка – Iсусъ или Исус, с одним И.
23
Флеров И. Е. О православных церковных братствах, противоборствовавших унии в Юго-Западной России в XVI, XVII и XVIII столетиях. СПб., 1857. С. 135.
24
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. Сергиев Посад, 1909. С. II.
25
Гумилев Л. Н. От Руси к России. Конец и вновь начало. М., 2010. С. 285.
26
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. С. 65.
27
Там же.
28
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 138.
29
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Т. 12. СПб., 1883. С. 139.
30
Лобачев С. В. Патриарх Никон. СПб., 2003. С. 124–125.
31
Каптерев Н. Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 147.
32
Там же. С. 147–148.
33
Карташев А. В. Очерки по истории.
34
Повесть о боярыне Морозовой. Л., 1979, С. 161.
35
Никонианин – последователь никонианства. Никонианство – церковные реформы патриарха Никона, вызвавшие раскол среди верующих и приведшие к формированию старообрядчества. См.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка: толково-словообразовательный. Т. 1: А – О. М., 2000. С. 1041.
36
Житие преосвященного Иллариона, митрополита Суздальского // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Кн. Х. Владимир, 1908. С. 18.
37
Там же. С. 21.
38
Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским. С. 229.
39
Патриарх Никон: облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты. М., 2002. С. 51.
40
Реферат по книге П. И. Мейендорфа «Россия, обряд и реформа: литургические реформы Никона в XVII веке». Омск, 2012. С. 8.
41
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 65.
42
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. С. 109.
43
Реферат по книге П. И. Мейендорфа «Россия, обряд и реформа: литургические реформы Никона в XVII веке». С. 23.