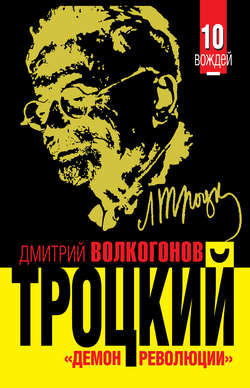Читать книгу Троцкий. «Демон революции» - Дмитрий Волкогонов - Страница 6
Книга 1
Глава 1
У подножия века
Европейский «бивуак»
ОглавлениеВ сентябре 1929 года Троцкий, находясь на острове Принкипо в Эгейском море и томясь неизвестностью, начал писать воспоминания под названием «Моя жизнь». В предисловии к своему двухтомному сочинению он напишет: «Здесь я нахожусь на бивуаке – не в первый раз, – терпеливо дожидаясь, что будет дальше». В жизни таких «бивуаков» у него будет немало. В первый раз на вынужденном «бивуаке» он оказался в 1902 году. Разница была в том, что, очутившись тогда впервые в Европе, Троцкий не столько ожидал, сколько действовал: писал, спорил, ездил, воевал с пером наперевес, жадно вглядываясь большими голубыми проницательными глазами в жизнь, знакомую раньше лишь по книгам и газетным статьям. Но и, конечно, ждал. Чего? Революцию… Все его биографы позже дружно отметят, что Троцкий был человеком с «большой европейской культурой». Скажем, правда, что люди, волею судеб искавшие убежища под западной, европейской крышей, были носителями не менее высокой культуры российской, но она была присуща лишь узкому интеллектуальному слою общества.
Троцкий более трети жизни провел в эмиграции. Каждый «бивуак» сыграл в его жизни свою роль и был окрашен в неповторимые политические и нравственные цвета. Если второй «бивуак», скажем так, был «долгим ожиданием», а третий – «изгнанием ожесточения», то «бивуак» первый явился для молодого революционера «восторженным откровением». Эти три жизненные станции, три вехи на пути одного из «выдающихся вождей» русской революции лежат в основе его взглядов на перманентную революцию, на роль IV Интернационала. Он был эмигрант, а на поле эмиграции всходы были разными, неоднозначными.
Эмиграция всегда играла заметную роль в политической и духовной жизни России. Когда Н.А. Бердяев оказался в изгнании, он спросил себя: «С какими же русскими мыслями приехал я на Запад?» И ответил: «Я принес эсхатологическое чувство судеб истории… Я принес с собой мысли, рожденные в катастрофе русской революции, в конечности и запредельности русского коммунизма, поставившего проблему, не решенную христианством… Принес сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего, неразрешимого в пределах истории»{34}.
А что же принес с собой на Запад молодой Бронштейн? Пока – жажду познания, постижения богатства европейской культуры. Он был настойчивым и воинственным учеником. Когда революционер окажется в изгнании третий, и последний раз, с собой он увезет лишь горечь личной трагедии, ненависть к Сталину и надежду на приход новой пролетарской революции…
Итак, Бронштейн оказался в эмиграции, где ему нужно было сохранить свое «я» и адаптироваться в новой социальной и духовной среде. Российская интеллигенция в те годы существовала как бы в двух средах. Одна – отечественная, близкая, знакомая, но более суровая для реализации идей свободомыслия. Другая – европейская, с более богатыми традициями политической и духовной терпимости к инакомыслию, была для нее больше чем очаг высокой культуры. Это была среда, где генерировались идеи и усилия, обращенные к России в надежде на свершение в ней революционных перемен. Интеллектуальный слой россиян всегда обладал исключительно высокой духовностью, глубокой одухотворенностью и верой в непреходящие идеалы. Герцен, Бакунин, Кропоткин, Лавров, Ткачев, многие другие оказывались в Европе не столько с мыслью о самосохранении, сколько с целью служения родине в специфических условиях.
Особенно мощный слой революционеров-интеллектуалов оказался за рубежом на грани веков: Ленин, Плеханов, Мартов, Потресов, Дан, Аксельрод, Засулич, другие представители российской социал-демократии. Это была плеяда революционеров, сыгравших особую роль в идейной и теоретической подготовке февральского и октябрьского революционных взрывов 1917 года. Особняком в этой когорте стоял Ленин, который принимал активное участие в подготовке грядущей революции и как теоретик, и как организатор. Осенью 1902 года в Лондон – эту своеобразную Мекку российских революционеров – прибыл Троцкий. Ему только-только исполнилось 23 года…
Молодого честолюбивого революционера влекла возможность сотрудничать в общероссийской социал-демократической газете. В редколлегии «Искры» состояли шесть блестящих умов, каждый из которых уже оставил заметный след в революционном движении. «Старики» – Плеханов, Засулич, Аксельрод – соседствовали с «молодыми»: Лениным, Мартовым, Потресовым. Ленин быстро оценил Троцкого, дав ему весьма лестную характеристику: «Человек, несомненно, с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, который пойдет еще вперед. И в области переводов и популярной литературы он сумеет сделать не мало»{35}. По предложению Ленина в марте 1903 года Троцкого ввели в состав редколлегии газеты с совещательным голосом. С самого начала своего пребывания на Западе он много писал. Уже в ноябре 1902 года в «Искре» появилась его первая статья. Автор писал о стачках и революционных традициях, ссылке и II Интернационале. Писал не только в «Искру», но и в другие газеты. Диапазон Пера был исключительно широк, что уже смахивало на дилетантство. В фонде Троцкого хранится множество рукописей его статей: напечатанных и ненапечатанных. Есть даже такая – «Нечто о сомнамбулизме».
Отношения с блестящей группой высокообразованных людей наложили неизгладимый отпечаток на духовный мир Троцкого. Особенно его тянуло к Аксельроду, Засулич и Мартову. Перед П.Б. Аксельродом Троцкий тогда преклонялся. Он посвятил ему восторженную статью, хотя в советское время не включил ее в свое собрание сочинений. Впрочем, свою первую крупную работу «Наши политические задачи», написанную в 1903 году, увенчал посвящением: «Дорогому учителю Павлу Борисовичу Аксельроду».
К этому времени между Троцким и Лениным уже существовало отчуждение. И это нашло отражение в книге. В ней насколько негативно говорится о Ленине, настолько же высоко об Аксельроде. Как он отзывается об этом социал-демократе?
Аксельрод – «верный и проницательный страж интересов пролетарского движения»; «он истинный пролетарский идеолог»; «Аксельрод пишет не «статьями», а математически сжатыми формулами, из которых другие, в том числе и Ленин, делают очень много статей…»{36}.
Троцкий поселился в доме, где жили Мартов и Засулич. По нескольку раз в день они встречались, обсуждали новости, статьи и заметки, которые готовили в «Искру», много и жарко спорили. Молодой член редколлегии не скрывал своего восхищения и В.И. Засулич, которая еще до того, как Троцкий появился на свет, участвовала в террористических актах, прославилась на всю Россию шумным процессом, когда ее были вынуждены оправдать. Блестящий, мятежный ум нигилистки, ее воспоминания будоражили воображение молодого революционера, чья энергия искала выхода. Засулич принадлежала к тому поколению русских революционеров, которым органически был присущ радикализм решений и действий. Троцкий заявлял, что Засулич была для него «легендой революции». И это не слова. В мировоззрении Троцкого радикальные элементы доминировали всю жизнь. Он не признавал полумер, полушагов. Троцкий уже тогда мыслил радикальными категориями.
Поначалу у Троцкого сложились превосходные отношения и с Мартовым, блестящим журналистом, обладавшим способностью сколь образно, столь и глубоко анализировать самые сложные проблемы. Троцкий искренне восхищался Юлием Осиповичем. Мог ли он знать тогда, на рассвете века, что в марте 1919 года он напишет о своем кумире совсем-совсем иное! Приведу несколько выдержек из того, что будет писать Троцкий о Мартове сразу после Октябрьской революции:
«Мартов, несомненно, является одной из самых трагических фигур революционного движения. Даровитый писатель, изобретательный политик, проницательный ум, прошедший марксистскую школу, Мартов войдет тем не менее в историю рабочей революции крупнейшим минусом. Его мысли не хватало мужества, его проницательности недоставало воли. Цепкость не заменяла их… Вряд ли есть и вряд ли когда-нибудь будет другой социалистический политик, который с таким талантом эксплуатировал бы марксизм для оправдания уклонений от него и прямых измен ему. В этом отношении Мартов может быть, без всякой иронии, назван виртуозом… Необыкновенная, чисто кошачья цепкость – воля безволия, упорство нерешительности – позволяла ему месяцами и годами держаться в самых противоречивых и безвыходных положениях… В конце концов Мартов стал самым изощренным, самым тонким, самым неуловимым, самым проницательным политиком тупоумной, пошлой и трусливой мелкобуржуазной интеллигенции»{37}.
Столь пространную выдержку я привел не только для характеристики Мартова, которым Троцкий вначале восхищался, но и затем, чтобы показать, что человек, портрет которого мы хотим создать, был способен кардинально менять свои привязанности, давать нелицеприятные оценки любому человеку. В своих суждениях, часто очень резких – иногда неоправданно, – просматриваются решимость и независимость Троцкого, отсутствие боязни «испортить отношения», примат независимости собственного мнения над любыми другими соображениями. Это очень скоро почувствовали все редакторы «Искры», особенно на II съезде партии.
Оказавшись на своем первом европейском «бивуаке», ставшем для него, как я уже отмечал, «восторженным откровением», Троцкий бесцеремонно, в упор разглядывал исторические фигуры, которые уже тогда для многих революционеров были легендарными. Таким был и Г.В. Плеханов. Хотя Георгий Валентинович жил в Швейцарии, он часто наезжал в Лондон. Проживший десятилетия на Западе, он заметно оторвался от русской почвы, но, несмотря на это, в революционных кругах, особенно в эмиграции, давно уже завоевал славу патриарха марксизма в России. Теоретическая основательность, непреклонная логика, энциклопедические знания, отличное перо сделали Плеханова настоящим корифеем марксизма. Однако Троцкого он встретил настороженно, если не сказать, враждебно. Начальная настороженность быстро переросла в устойчивую неприязнь, которую Плеханов сохранил до конца своих дней. Он упорно возражал против ввода Пера в редколлегию «Искры». При личных встречах был подчеркнуто сух и неприветлив. И. Дейчер антипатию Плеханова объяснял так: «Оба были прекрасными публицистами и остроумными спорщиками, оба обладали театральной манерой говорить, оба высоко ценили себя, свои идеи и свои дела. Однако если звезда младшего только начинала подниматься, звезда старшего шла к закату. Троцкий был преисполнен кипучего, хотя и незрелого, но чудесного энтузиазма, Плеханов же становился скептиком. Когда Плеханов приехал в Лондон, Засулич горячо расхваливала в его присутствии таланты Троцкого.
– Этот парень – несомненно гений!
Плеханов помрачнел, отвернулся и произнес:
– Этого я никогда ему не прощу»{38}.
Георгий Валентинович не раз заявлял на заседании редколлегии, что статьи Троцкого легковесны, напыщенны, цветисты и снижают общий теоретический и политический уровень газеты. Думаю, Плеханов был прав: многим материалам Троцкого того времени еще не хватает глубины, которую он заменяет россыпью афоризмов, множеством оригинальных цитат, откровенными сентенциями и красивостями. Более осторожно, но в этом же ключе высказывался о статьях Троцкого и Ленин. Возможно, что критика помогла Троцкому скорректировать и выверить свой оригинальный, яркий стиль, хотя до конца своих дней он не научится спокойно и деловито воспринимать какие-либо критические стрелы в свой адрес. Он слишком рано уверовал в свою исключительность и интеллектуальное превосходство, чтобы выслушивать замечания. Когда человеку часто говорят, особенно в лицо, о его таланте и даже гениальности, критическое отношение к себе незаметно разъедается эрозией тщеславия.
Итак, несмотря на все старания, Троцкому не удалось установить более или менее лояльных отношений с Георгием Валентиновичем. «Отец-основатель» не мог принять дерзкой бойкости молодого революционера, безапелляционно и немедленно высказывавшего свое мнение по любому вопросу. Говорят, в 1917 году Плеханов в узком кругу бросил по адресу Троцкого саркастические слова: «любовник революции». Троцкий скоро и сам стал отвечать ему такой же неприязнью. В целом ряде статей, написанных позже о Плеханове, «любовник революции» довольно сурово обходился с одним из столпов марксизма.
В первом томе «Войны и революции», опубликованном в 1922 году, Троцкий напишет: «Война подытожила целую эпоху в социализме, взвесила и оценила вождей этой эпохи. Безжалостно ликвидировала она в их числе и Г.В. Плеханова. …Несчастье Плеханова шло из того же корня, что и его бессмертная заслуга: он был предтечей. Он не был вождем действующего пролетариата, а только его теоретическим предвестником»{39}. Думаю, этот вывод не лишен оснований. Бывало, что Троцкий говорил о человеке, с которым лично познакомился в 1902 году, и резче, оскорбительнее. В газете «Наше слово» 14 октября 1915 года появилась его статья «Оставьте нас в покое». Там есть такие фразы: «Плехановщина – не только личная трагедия, но и политический факт. И раз возле Плеханова, в окружающей его свите нулей, нет никого, кто бы мог его заставить понять, что его выступления не только губят его, но и безнадежно омрачают образ, составляющий уже достояние партийной истории, – у нас не остается не только долга, но и права быть снисходительными». Когда Г.В. Плеханов умер, то в своей речи 4 июня 1918 года Троцкий сказал: «Нет и не может быть большей трагедии для политического деятеля, который неустанно доказывал в течение десятилетий, что русская революция может развиваться и прийти к победе лишь как революция рабочего класса, не может быть большей трагедии для такого деятеля, как отказаться от участия в движении рабочего класса в самый ответственный исторический период, в эпоху победоносной революции»{40}.
Ленин, привлекая Троцкого к работе в газете, скоро стал одновременно использовать его талант трибуна, оратора, полемиста на различных диспутах и встречах. Запомнились его ожесточенные словесные схватки с социал-демократом Чайковским, анархистом Черкезовым, самим Мартовым. За рубежом жило много русских; немало было и англичан, французов, немцев, швейцарцев, которых интересовала теория марксизма, политическое положение в России, перспективы социализма в грядущем. По совету Ленина Троцкий не ограничил свою деятельность журналистикой, диспутами и начал выступать с лекциями в Лондоне, Брюсселе, Париже, Цюрихе. Постоянное общение молодого марксиста с известными революционерами не только быстро расширяло кругозор Пера, но и укрепляло его уверенность в своих способностях, особом даре, даже исключительности. Затем, во время второй эмиграции, такие выступления Троцкого станут обычными. В архивном фонде Л.Д. Троцкого сохранилась парижская афиша о его выступлении:
«В субботу 6 января 1912 года:
Н. Троцкий
прочтет реферат на тему
НЕОТЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ, содержащие:
Торгово-промышленный подъем. Оживление классовой борьбы. Воссоздание партийных организаций. Распад старых фракций. Фракционное раскрепощение. Беспринципность кружковых межеваний. Выборы в четвертую Думу. Борьба за единство партии.
Приглашаются только члены Российской социал-демократической рабочей партии.
Цена за вход – 50 сантимов. Начало в 8 1/2 вечера»{41}.
Многие люди знают, что они умны. Это естественно. Но Троцкий, будучи безусловно талантливым человеком, выдающимся публицистом и оратором, особо заботился, чтобы это было оценено другими. Он не чурался театральности жестов, экстравагантности выражений в надежде, что они усилят впечатление от его выступлений. Троцкий любил дело, но всегда любил и себя. Он обладал способностью смотреть на себя со стороны и любоваться. Троцкий был влюблен в самого себя почти как Нарцисс из «Метаморфоз» Овидия. Обычно любовь к себе не рождает ревности у других. Но у Троцкого – случай особого рода. Он внутренне любил себя, но это чувствовали другие и расценивали это как выражение его превосходства.
Троцкий еще очень молодым навсегда поверил, что оставит – обязательно оставит! – глубокий след в истории. Одно из доказательств – он с очень раннего времени весьма тщательно сохранял следы своих публичных устных и печатных выступлений. В архивных фондах сохранились не только черновики статей, речей, проектов резолюций, но и пригласительные билеты, краткие пометки, сделанные на полях газет и календарных листах, вырезки из многочисленных периодических изданий, где хотя бы упоминалась его фамилия. Он не ошибся в том, что станет знаменитым, ведь это было его целью. Утверждая это, я не хочу принизить Троцкого как революционера, но намерен с убежденностью сказать: революция была для него основным способом самовыражения. Личное «я» для него всегда значило больше, чем для многих других лидеров и вождей, исключая Сталина. Тот, мы знаем, надев тогу скромности, всю жизнь был пожираем ненасытной жаждой власти и славы. Троцкого нельзя ставить рядом со Сталиным прежде всего потому, что еще с юных лет он стремился прежде всего к величию интеллектуальному. Власть и слава были не страстью его, как у Кобы, а необходимыми атрибутами интеллектуального превосходства.
Это отступление я сделал для того, чтобы подчеркнуть утонченность устремлений Троцкого, для которого интеллектуальное признание значило неизмеримо больше, чем занятие официальных постов, обладание высоким политическим статусом.
Лондонский период первой эмиграции был связан с рядом выездов в другие города и страны. Для него все это действительно было «восторженным откровением»: большой интерес людей к загадочной России; заметное внимание к нему – молодому революционеру; возможность общаться с людьми, о которых в интеллигентских кругах Отечества ходили легенды; появившаяся уверенность в том, что и по сравнению с известными лидерами западной социал-демократии русские социалисты не уступали им в мощи ума, культуры, смелых планов. В Париже, куда Троцкий приехал по настоянию Ленина, ему посчастливилось услышать Жана Жореса, окунуться в жизнь Франции и почувствовать биение пульса страны иной парламентской культуры, чем Англия. Правда, порой Троцкий, отдавая должное уровню цивилизации западных стран, непременно подчеркивал российскую отсталость. В этом смысле он не щадил свою родину.
Даже говоря об ораторском искусстве французов, уничижительно писал: «…иной русский черноземный человек и у Жореса открывает лишь искусную техническую выучку и псевдоклассическую декламацию. Но в этой оценке сказывается только бедность нашей отечественной культуры»{42}. Вполне объяснимое преклонение Троцкого перед западной культурой, цивилизацией, уровнем буржуазной демократии, видимо, позволило ему подойти в свое время к выводу о решающей зависимости окончательной победы социализма в России от силы революционных пожаров на Западе. Троцкий, чья родина была на Востоке, в душе всегда бы «западником». Это выражалось не только в злом высмеивании славянофилов, но и в подчеркивании, что все «величайшие открытия и изобретения родились на Западе». Иногда складывалось впечатление, что Троцкий стыдился того, что родился в России. Правда, он умело маскировал свое «западничество» ссылками на других деятелей русской культуры, восхвалявших достижения европейской цивилизации.
«Восторженное откровение» первой эмиграции связано и с сугубо личными мотивами. Почтовая связь с А. Соколовской, оставшейся в Сибири с двумя детьми, довольно скоро ослабела. Юношеская увлеченность первой женщиной быстро проходила. Он не успел по-настоящему постичь ни радостей, ни мук, ни забот отцовства. Жена и две крохотные дочери отошли, как выразился Троцкий, в «невозвратное».
Когда в 1903 году в Париж к Троцкому приехали его родители, чтобы помириться с сыном, которым в душе гордились, мать сделала попытку напомнить сыну о его долге перед Соколовской и детьми. Троцкий мягко, но однозначно попросил родителей не поднимать больше этот вопрос. Мать замолчала, а старый Бронштейн в душе был рад; он был уверен, что именно эта женщина «сбила с пути их сына». Лейба показывал матери вырезки из газет со своими статьями, афиши, извещающие о «выступлениях Н. Троцкого», рассказывал о широком круге знакомых среди знаменитых людей. Восхищенные глаза матери выдавали ее отношение к сегодняшней жизни сына. Мать вслух читала заголовки статей Лейбы, отец с благоговением слушал. Стареющие Бронштейны наконец поняли, что другой жизни сын теперь не приемлет; кто знает, может быть, он станет великим писателем?
Уезжая из Парижа, колонисты с далекой Херсонщины оставили сыну денег и пообещали помогать двум его дочкам в России. Они не могли допустить, чтобы дети их незаурядного сына, который станет знаменитым (Бронштейны были теперь в этом уверены), бедствовали. Это противоречило бы их иудейской традиции.
К слову, коротко замечу о еврейском происхождении и «сионизме» Троцкого. Его враги – от черносотенцев до нынешних антисемитов – всегда старались и стараются подчеркнуть еврейское происхождение Бронштейна. Нередко его деяния прямо связывают с «сионистским заговором», «еврейскими происками», масонством и т.д. Думаю, нет ничего более далекого от истины, нежели обвинение Троцкого в сионизме. Вождь-еврей… Для многих это выглядело и выглядит подозрительно… У Троцкого были минуты, когда он страдал от своего еврейского происхождения. Он отказался от поста наркома внутренних дел в правительстве Ленина, заявив, что «люди не поймут назначение еврея на эту должность». Он, видимо, имел в виду предрассудки, жившие в общественном сознании, для которого этот пост связан прежде всего с карательными функциями. Генриху Ягоде, кстати, не пришла такая мысль, как, впрочем, и Сталину, утверждавшему его в этой должности. Троцкий никогда не мог забыть, что он еврей, и потому, что враги всегда напоминали ему об этом. Но что бы ни говорили о Троцком, его нельзя упрекнуть ни в национализме, ни в сионизме, ни в расизме. Имеется бесчисленное множество свидетельств, которые подтверждают интернациональный характер его мировоззрения.
В феврале 1932 года он отвечал своему стороннику Клингу:
– Вы спрашиваете, каково мое отношение к еврейскому языку?
Отвечаю:
– Как ко всякому другому языку. Если я действительно употребил в своей «Автобиографии» слово «жаргон», то это потому, что в годы моей юности еврейский назывался не «идиш», как теперь, а «жаргон», так выражались сами евреи, по крайней мере в Одессе, и в это слово не вкладывали ничего предосудительного.
– Вы говорите, что «меня называют ассимилятором».
– Решительно не знаю, какой смысл может иметь это слово. Я, разумеется, противник сионизма и других видов самоизоляции еврейских рабочих…{43}
Когда в мае 1932 года еврейские рабочие из Соединенных Штатов сообщили Троцкому на Принкипо о том, что они создали еврейскую газету «Наша борьба», опальный революционер им ответил: «Существование самостоятельного еврейского издания служит не для того, чтобы обособить еврейских рабочих, а, наоборот, чтобы сделать им доступными те идеи, которые связывают всех рабочих в одну революционную семью. Вы, разумеется, решительно и непримиримо отвергаете старый бундовский принцип федерации национальных организаций…»{44} Думаю, эти слова не требуют дополнительных комментариев: они отражают позицию Троцкого, которой он придерживался всю жизнь.
Будучи уже Председателем Реввоенсовета и наркомвоеном, он получил однажды в 1919 году письмо из Мурома Владимирской губернии от коммуниста-корейца Нигая, в котором тот писал, что по России ходят темные слухи: «родину завоевали жидовские комиссары». Все несчастья народ сваливает на евреев. Мол, советская власть держится «на еврейских головах, латышских стрелках и русских дураках». Чтобы спасти страну от гибели и измен, Нигай советовал Троцкому «создать могучую еврейскую армию и вооружить ее с ног до головы… Чем евреи хуже татар, латышей, которые имеют свои полки…»{45}
Троцкий с любопытством повертел в руках письмо и попросил Бутова отправить Нигаю вместо ответа несколько его статей об интернациональном характере русской революции.
Находясь на вершине власти, он чувствовал, как живучи антисемитские предрассудки. А когда его положение пошатнулось, он это осознал еще глубже. В этом отношении весьма характерна его записка Н.И. Бухарину от 3 марта 1926 года. Приведу ее с сокращениями:
«Н. Иванович,
Пишу это письмо от руки (хотя и отвык), так как совестно диктовать стенографистке то, о чем хочу написать…
Секретарь ячейки (о котором я говорил) пишет, и опять совсем не случайно, – «в Политбюро бузят жиды». И опять никто не решился об этом никуда сказать – по той же самой формулируемой причине: выгонят с завода.
Автор письма, которое я цитировал, рабочий-еврей. Он тоже не решился написать о «жидах, агитирующих против ленинизма». Мотив такой: «если другие, не евреи, молчат, то мне как-то неловко…». Другими словами: члены коммунистической партии боятся донести партийным органам о черносотенной агитации, считая, что их, а не черносотенца выгонят…
Вы скажете: преувеличение! И я также хотел бы думать, что так. Так вот я Вам предлагаю: давайте поедем в ячейку и проверим…
Ваш Троцкий»{46}.
Но Бухарин в то время ходил в союзниках Сталина и никуда с Троцким не поехал…
Находясь уже в изгнании, в одном из своих писем он отвечает на вопрос корреспондента: как он относится к созданию Еврейской автономной области в Биробиджане?
Троцкий отвечает, как всегда, с позиции пролетарского революционера-интернационалиста, каковым он остался до конца своих дней. «Еврейский вопрос, – пишет затворник с Принкипо, – стал сейчас составной частью мировой пролетарской революции. Что касается Биробиджана, то судьба его связана со всей дальнейшей судьбой Советского Союза. Еврейский вопрос, вследствие всей исторической судьбы еврейства, интернационален… Судьба еврейского народа может быть разрешена только полной и окончательной победой пролетариата…»{47} Какими бы ошибочными или наивными ни были упования Троцкого только на классовую борьбу и пролетарскую революцию в решении «еврейского вопроса», они, однако, убедительно свидетельствуют о глубокой враждебности революционера сионизму. Тем более странно слышать сегодня слова о «зловещих троцкистских планах», смыкающихся с «мировой стратегией сионизма».
В своих скитаниях Троцкий выработал иммунитет к антисемитским выпадам, намекам, травле. Он просто стал выше этих древних предрассудков, которые всегда использовали силы консервативного, реакционного толка. У Троцкого много слабых, уязвимых мест, если не сказать больше. Но обвинять его в тайных симпатиях сионизму просто нечестно. Правда, я несколько отвлекся от своего повествования…
В Париже среди русских эмигрантов Троцкий встретил молодую, умную и красивую женщину – Наталью Седову. Ближе Троцкий познакомился с ней, когда после его выступления в русской колонии она вызвалась показать ему Лувр. Переходя из зала в зал мимо бессмертных шедевров, молодой человек в пенсне с копной черных волос узнает, что Наташа – дочь богатых родителей, училась в институте благородных девиц в Харькове, но была исключена за вольнодумство и чтение радикальной литературы. Здесь она изучает курс истории искусств в Сорбонне… Взаимное влечение было столь сильно, что вскоре Наталья Ивановна, оставив своего мужа, ушла к Троцкому. Вся последующая жизнь Льва Троцкого и Натальи Седовой говорит об исключительно сильных чувствах, сопровождавших этот брак всю жизнь. Наталья Ивановна Седова вспоминала о том времени: «Осень 1902 года была обильна рефератами в русской колонии Парижа. Группа «Искры», к которой я принадлежала, увидала сначала Мартова, потом Ленина… Затем выступал молодой товарищ, бежавший из ссылки. Выступление его было очень успешно, колония была в восторге, молодой искровец превзошел все ожидания».
Нужно сказать, что Н.И. Седова разделила в дальнейшем триумф мужа, оказавшегося на самом гребне революционной славы, и испытала вместе с ним всю горечь остракизма и преследований. Троцкий не раз говорил, что в самые тягостные минуты изгнания ему помогала выстоять прежде всего Наталья Седова. Он благодарен Парижу, что встретил ее здесь. Забегая вперед, скажу, что в его завещании, написанном в несколько приемов, есть исключительно теплые и нежные строки, обращенные к жене.
Но вернемся в Европу. Первый европейский «бивуак» Троцкого с осени 1902 года до возвращения в начале 1905 года в Россию был, возможно, самым счастливым периодом его личной жизни. Хотя сам Троцкий, по словам Н. Седовой, заявлял, что «был поглощен политической жизнью и всякую другую замечал постольку, поскольку она сама напрашивалась, и воспринимал ее как докуку, как нечто такое, чего нельзя избежать»{48}. Даже когда его спросили, каково его впечатление от Парижа, oн, смеясь, ответил в своем типично парадоксальном духе:
– Похож на Одессу, но Одесса лучше!
Позже по этому поводу он скажет: «Сперва я «отрицал» Париж и даже пытался его игнорировать. В сущности, это была борьба варвара за самосохранение. Я чувствовал, что для того, чтоб приблизиться к Парижу и охватить его по-настоящему, нужно слишком много расходовать себя. А у меня была своя область, очень требовательная и не допускавшая соперничества: революция»{49}. Да, революция была и осталась навсегда его вечной страстью.
Первая эмиграция была для Троцкого временем самоутверждения, постижения, откровения и широчайших знакомств. Революционный провинциал с юга России, прошедший краткие тюремные и ссыльные университеты, воображал себя почти героем. Когда перед очередным выступлением в русской колонии где-нибудь в Льеже объявляли: «Слово для выступления с рефератом «Положение в социал-демократическом движении в России» имеет Лев Троцкий, недавно вырвавшийся из сибирской ссылки», – он чувствовал себя почти сотоварищем Веры Засулич накануне покушения на генерала Трепова…