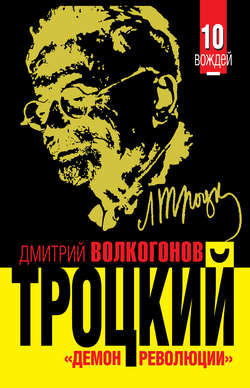Читать книгу Троцкий. «Демон революции» - Дмитрий Волкогонов - Страница 8
Книга 1
Глава 1
У подножия века
«Прапорщик Арбузов»
ОглавлениеДа, именно с таким паспортом на имя отставного прапорщика Арбузова Троцкий в феврале 1905 года приехал в Киев. Он уже привык, что в своем отечестве его фамилии, партийные клички постоянно меняются: Львов, Яновский, Викентьев, Петр Петрович, Янов, Арбузов… Еще месяц назад он не думал о возвращении, целиком захваченный чтением рефератов, написанием статей, полемикой со вчерашними друзьями, возможностью общения с интереснейшими людьми. Но весть о кровавом воскресенье в Петербурге всколыхнула всю колонию русских революционеров за рубежом. Даже полемика между большевиками и меньшевиками, достигавшая порой неприличных форм, ослабла. Меньшевистская (теперь) «Искра» воевала с ленинской газетой «Вперед». Плеханов, еще совсем недавно солидаризировавшийся с Лениным, в своих ядовитых статьях пытался побольнее уколоть его, будучи уверенным, что политически устраняет «русского якобинца». Но это было до 9 января 1905 года. Сейчас же все с надеждой и тревогой устремили свои мысленные взоры на Восток. Нараставшие события обещали подтвердить или опрокинуть прогнозы соперничающих фракций.
Сразу скажу, что большинство эмигрантов, даже влача довольно жалкое существование, не стремились в Россию, где пролетариат, похоже, был всерьез намерен опрокинуть самодержавные чертоги. Эмиграция «засасывает». Многие привыкают смотреть на события в отечестве «извне». Немало революционеров такая жизнь уже устраивала: наблюдение издалека, аналитические обзоры прошедших стачек, гневные обличения преступлений самодержавия, но… все это взгляд со стороны. И совсем иное отношение к событиям, если находишься в цехах Путиловского, в московских железнодорожных депо, на броненосце «Потемкин», в университетских аудиториях или идешь с Георгием Гапоном к Зимнему дворцу.
Троцкий был в высшей степени деятельной натурой. Его всегда тянуло в эпицентр событий: на диспуте, демонстрации, съезде, на фронте… У большого русского революционера этого отнять нельзя; он был не историческим свидетелем, а активнейшим участником и творцом истории. Поэтому нелегальное возвращение Троцкого в Россию сразу же после январских событий было для него естественным.
Я не хочу анализировать события первой русской революции. Этим занимались много и долго. Мне хотелось лишь коснуться некоторых сторон деятельности Троцкого во время этой репетиции грядущего 1917 года. Тем более что советская историография не скупилась на мрачные краски, когда приходилось упоминать имя члена, а затем – короткое время – и Председателя Петербургского Совета рабочих депутатов. Долгие десятилетия в нашей истории Троцкий «подпадал» под действие древнеримского «Закона об осуждении памяти». Все были обязаны или забыть его, или однозначно осудить.
«Отставной прапорщик» прибыл в Киев в качестве респектабельного, преуспевающего предпринимателя. Выехавшая раньше Н. Седова подыскала квартиру, установила необходимые связи с подпольем, познакомила приехавшего в Киев мужа с молодым инженером Л. Красиным, видным большевиком, которого хорошо знал Ленин. Киевскую остановку Троцкий использовал, по сути, для более детального ознакомления с положением в стране, в социал-демократических организациях и с настроением людей. Красин, стоявший на позициях примиренчества двух фракций, серьезно ему помог. Но Троцкий не только знакомился с ситуацией. Его перо непрерывно работало. Троцкий писал обо всем: о роли стачки в нарастании революции, о двойственной природе либералов, о ренегатстве в марксизме. Например, в материале, посланном в «Искру» и озаглавленном «Нечто о квалифицированных демократах» с подписью-псевдонимом Неофит, Троцкий писал: «Самый вредный тип демократов, это – из бывших марксистов. Главные их черты: непрерывная, точащая и ноющая, как зубная боль, ненависть к социал-демократам. Нашей партии они мстят за свое прошлое или, может быть, за… настоящее… Марксизм их «повредил» – некоторых на всю жизнь. Нравственная связь с пролетариатом и его партией, если и была когда, то порвалась совершенно… Господам квалифицированным демократам придется признать политическую мораль: обмануть можно себя, но не историю»{68}. Так Троцкий разделывался с П. Струве и другими социал-демократами, которые в час решающих испытаний стали искать компромисс с самодержавием.
Перебравшись с помощью Красина в Петербург, Троцкий с головой ушел в революционную работу, участвуя в текущих совещаниях забастовочных комитетов, готовя яркие прокламации, которые расклеивались по городу, распространялись на фабриках и заводах… Но когда на маевке арестовали Седову и возникла угроза и его ареста, Троцкий с квартиры полковника А.А. Литкенса, где он нелегально жил, вынужден был укрыться в Финляндии. За три месяца пребывания в уединенном глухом пансионате «Мир» Троцкий написал десятки статей, листовок, прокламаций, которые пересылались в Петербург. Думаю, что читателю будет небезынтересно ознакомиться с его революционным творчеством того времени.
Когда 1 мая 1905 года демонстрации, несмотря на усилия организаторов стачек и забастовок, пошли на спад, Троцкий обратился к рабочим Петербурга:
«Слушайте, товарищи. Вы устрашились царских солдат.
Но вы не страшитесь изо дня в день ходить на фабрики и заводы, где машины высасывают вашу кровь и калечат ваше тело.
Вы устрашились царских солдат. Но вы не страшитесь отдавать ваших братьев в царскую армию, которая гибнет на великом неоплаканном кладбище в Маньчжурии.
Вы устрашились царских солдат. Но вы не страшитесь жить изо дня в день под властью разбойничьей полиции, казарменных палачей, для которых жизнь рабочего пролетария дешевле, чем жизнь рабочего скота»{69}.
В каждой прокламации Троцкий объяснял, убеждал, обращался, звал, льстил, рисовал перспективу. Вот, например, его обращение к солдатам и матросам русской армии:
«Солдаты! Вы долго не понимали требований народа. Ваши начальники и попы лгали и клеветали вам на народ. Они держали вас во тьме. Они натравливали вас на народ. Они заставляли вас обагрять руки кровью рабочих. Они превратили вас в палачей русского народа. Они обрушили на ваши головы страшные проклятия матерей и детей, жен и старцев…
Солдаты! Наше государство – огромный броненосец. На нем насильничают чиновники царские и стонет измученный народ. Спасение для нас одно: по примеру «Потемкина» выкинуть за борт всю правящую нами шайку и взять управление государством в свои собственные руки. Мы сами направим ход родного броненосца, которому имя Россия!..
Солдаты! При встрече с народом – ружье вверх! Офицеру, который скомандует залп, – первая пуля! Пусть от руки честного солдата падет палач!»{70}
Когда 14 мая 1905 года русская эскадра под командой вице-адмирала З.П.Рожественского близ острова Цусима приняла бой с японской эскадрой адмирала Х. Того, никто не мог и предположить, сколь страшным будет результат. Царский флот потерпел катастрофическое поражение. Россия была потрясена. Троцкий тут же написал большую прокламацию: «Долой позорную бойню!». Листовка ходила из рук в руки не только в Петербурге, но и во многих городах России. Была она выдержана в таком духе:
«…Флот Рождественского (у Троцкого фамилия Зиновия Петровича дана неправильно. – Д.В.) разрушен без остатка. Погибли почти все суда, убиты, ранены или полонены почти все люди экипажа. Адмиралы ранены или в плену. Нет более эскадры, которая была послана царским правительством, чтобы отомстить Японии за многочисленные поражения. Русского флота не существует. Не японцы уничтожили его. Нет, его погубило царское правительство… Война не нужна всему народу! Она нужна правительственной шайке, которая мечтала о захвате новых земель и хочет народной кровью потушить пламя народного гнева… Долой виновника позорной бойни – царское правительство!»{71}
Троцкий находился под Петербургом и знал, что его искала царская охранка. Но когда разразилась всеобщая октябрьская политическая стачка, Троцкий не выдержал и вернулся в столицу. Революционный подъем наступил вопреки прогнозам большевиков, которые думали, что он произойдет в первую годовщину кровавой бойни у Зимнего дворца, а он произошел на три месяца раньше. Народное творчество силой своего коллективного интеллекта, воли и чувств создало российский «конвент» – Петербургский Совет рабочих депутатов во главе с Г.С. Хрусталевым-Носарем. Троцкого избрали его заместителем. Авторитет революционного органа стремительно рос. Первое заседание Совета состоялось 13 октября, а 15-го там появился Троцкий и сразу привлек внимание всех членов своей бурной энергией, страстными выступлениями, радикальными предложениями. Молодой энергичный революционер был исключительно собран, деятелен, вездесущ, привлекателен. При участии Троцкого приняли решение издавать газету «Известия» как орган Совета; выдвинули требование о введении 8-часового рабочего дня и о признании нового революционного органа как выразителя интересов трудящихся. В Технологическом институте, где разместился Совет, делегации от различных районов столицы ждали распоряжений, инструкций. Царило приподнятое настроение. В составе Совета был образован Исполком, в котором наряду с представителями других организаций были три большевика, три меньшевика и три эсера. Среди большевиков выделялся Сверчков, у меньшевиков – Троцкий, а из эсеров – Авксентьев. Партийная принадлежность Хрусталева-Носаря не была ярко выражена.
Волны стачки расходились все шире и шире. Самодержавная власть была в растерянности. Но ею был сделан шаг, который как бы затормозил революционный локомотив: 17 октября 1905 года царь издал Манифест, в котором обещал народу конституционные свободы. В ночь с 17 на 18 октября толпы народа вышли на улицы с красными знаменами, требуя смещения ненавистных правителей, широкой амнистии, наказания тех, кто организовал кровавое воскресенье 9 января. Народ увидел в вынужденном акте царя свою победу.
Советская историография всегда смотрела на царский Манифест лишь как на вынужденный и хитрый маневр. Но вдумаемся в слова Высочайшего Манифеста.
«…На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли:
1. Даровать населению незыблемый основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов…
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью Действий поставленных от нас властей…»{72}
Высочайший Манифест, данный «божией милостью, Мы, Николаем Вторым, императором и самодержцем всероссийским, Царем польским, Великим князем финляндским… и прочая, и прочая, и прочая», не был простой бумажкой, как его изображал «Краткий курс истории ВКП(б)». Это был крупный шаг к переходу на рельсы конституционной монархии, а следовательно, движение к буржуазной демократии. Но этот исторический шанс был упущен.
Троцкий, как и большевики, оценил Манифест как полупобеду. Манифест как бы заставил одуматься и либералов, и буржуазию, и значительную часть интеллигенции, которая вначале выступала против абсолютизма, а теперь испугалась «грозящей анархии».
Граф Витте в своем докладе царю так определил истоки и корни очередной русской смуты: «Они – в нарушении равновесия между идейными стремлениями русского мыслящего общества и нынешними формами его жизни. Россия переросла форму существующего строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской свободы»{73}. Сказано провидчески: «…переросла форму существующего строя…» Граф предложил добиться соответствия «идейных стремлений» и «новой формы» без «репрессивных мер». Как бы мы ни относились к высоким царским сановникам и самодержавному режиму в целом, в виттевской программе отражен многовековой опыт русской государственности.
Витте, которого именно стачка сделала премьером, в своих «Воспоминаниях» позже писал: «17 октября заставило многих опомниться, образовало партии, заговорил патриотизм, чувство собственности, и русская телега начала волочить оглобли направо…» Но реформаторски думали далеко немногие. Верх одержало желание заглушить смуту силой. Тем более что министр внутренних дел генерал Трепов повелел «устранить непорядки», а при этом «Патронов не жалеть!». Ленин в Женеве, Совет в Петербурге почувствовали, что пошатнувшееся здание самодержавия устоит; удалось поднять против царизма только город, только рабочих. Правительство по-прежнему имело возможность опереться на огромные, темные массы крестьян, особенно на одетых в солдатские шинели. Русские якобинцы понимали, что не только программу-максимум, заключавшуюся в установлении диктатуры пролетариата и подавлении сопротивления эксплуататоров, сейчас не решить, но и не достичь программы-минимум: свержения царизма и образования Временного революционного правительства. Ни у кого из руководителей РСДРП, к слову, не возникали сомнения в исторической правомерности диктатуры пролетариата. Конституционная монархия как наиболее реальный тогда исторический шаг – отвергалась. Русские революционеры были максималистами. Как справедливо писал позже известный русский политический деятель Виктор Чернов: «Дух русской революции, – это знают все, – есть дух максимализма»{74}. Это один из самых дальних истоков будущих потрясений России в XX веке. 17 октября у здания Петербургского университета собралась огромная толпа. С балкона выступали разные ораторы. Большинство расценивало Манифест как большую победу. На революционную трибуну пробился и Троцкий. Его представили как Яновского. Но могли бы назвать и Арбузовым – у Троцкого было два паспорта. С копной черных густых волос, с горящими глазами, прикрытыми стеклами пенсне, Троцкий быстро завладел толпой и бросил вниз едва ли не главные слова в своей речи:
– Граждане! Теперь, когда мы поставили ногу на глотку правящей клике, она обещает нам свободу. Не торопитесь праздновать победу, она еще неполная. Разве вексель стоит столько же, сколько чистое золото? Разве обещание свободы равноценно свободе? Что изменилось со вчерашнего дня? Распахнулись ли двери наших тюрем? Вернулись ли наши братья из дикой Сибири?
Огромная толпа поддерживала слова Троцкого, громко скандируя: «Свободу народу! Амнистию заключенным! Под суд Трепова!»
Троцкий властвовал над толпой, бросая в порох страстей слова-искры, нагнетая возбуждение массы до высокой точки кипения. В заключение своей блестящей речи он выкрикнул еще несколько фраз:
– Граждане! Наша сила в нас. Мы должны защищать свободу с мечом в руках. Царский Манифест всего лишь клочок бумаги… Его нам сегодня дали, а завтра порвут в клочки, как это сделаю я сейчас!
Троцкий помахал направо и налево текстом Манифеста и затем демонстративно порвал его. Клочки бумаги, подхваченные дуновением ветра, понесло в сторону…{75} Масса людей горячо аплодировала новому, пока неизвестному трибуну революции.
Деревня не поддержала рабочих. Да и не было сил ее поднять. Армия осталась верной правительству. У бастующих не было оружия. Либеральная интеллигенция оказалась смертельно напуганной революционным размахом выступления рабочих. Российские социал-демократы хотели невозможного. Троцкий безапелляционно и жестко, но далеко не справедливо «проехался» по интеллектуальному слою российского общества, и в частности по профессуре:
«Мы знаем, что профессора – это самая косная, безличная, на все готовая корпорация русской интеллигенции. Не было той холопской миссии, от которой отказалась бы профессура. За чин и плату они играли роль пуделей казенной науки. Не было той полицейской репрессии, аппаратом которой не были бы профессора»{76}.
Со своей обычной бескомпромиссностью, что в политике нередко ведет к ошибкам, а в революционной атмосфере народного возбуждения, наоборот, производит большое впечатление, Троцкий бичевал обывателей, либералов, казенную профессуру, попутчиков революции. Чего стоят одни лишь названия его тогдашних статей: «Профессора в роли политических дворников», «Профессорская газета клевещет», «Кадетские профессора в роли крестьянских трибунов»{77}. Революционная волна, вздымая на свой гребень подлинных вождей, срывает с места и обывателя, который, однако, способен лишь на то, чтобы гасить эту волну. «Революция, – писал Троцкий, – оставила его (филистера) без газеты, потушила в его квартире электрическую лампочку и на темной стене начертала огненные письмена каких-то новых смутных, но великих целей. Он хотел верить – и не смел. Хотел подняться ввысь – и не мог…»{78}
Война Троцкого с либерализмом была выражением его радикализма, часто явно перехлестывавшего через край. Иногда он доходил до утверждений, что либерализм фактически заслуживает такой же ненависти, как и царизм. Эта черта – недоверие, или даже враждебность к интеллигенции, присущая в дальнейшем многим большевикам, – также один из дальних истоков их трагических заблуждений. В черновом варианте предисловия к книге о первой русской революции (на немецком языке) Троцкий писал: «Автор ни на одну минуту не пытается скрыть от читателя свою ненависть к царской реакции, этому подлому сочетанию азиатского кнута и европейской биржи, или свое презрение к русскому либерализму, самому ничтожному и самому бесхарактерному в мировой галерее политических партий»{79}. Либеральная профессура казалась Троцкому не менее опасной, чем жандармерия… Таково было русское якобинство.
По предложению Троцкого, видевшего, что революционное движение идет на спад, Совет принял решение о прекращении октябрьской стачки. Началась подготовка боевых дружин, в задачу которых входили предотвращение погромов, защита демонстраций, рабочих газет, Совета рабочих депутатов. Троцкий быстро стал играть ведущую роль в Совете, и между ним и Хрусталевым-Носарем возникло внешне невидимое, но сильное соперничество. Председатель Совета, адвокат по профессии, не занимал ясно выраженной политической позиции по многим вопросам. Троцкий позже в газете «Луч» поместил две убийственные заметки о Георгии Носаре, упомянув даже о сообщении буржуазной газеты, что в Париже он арестован за воровство…
«Хрусталев, – писал Троцкий, – светил двойным светом: партии и массы. Но и тот и другой свет был отраженным, т.е. чужим. Собственный рост Хрусталева совершенно не соответствовал ни той внешней роли, которую ему пришлось сыграть, ни – еще менее – той легендарной популярности, какую ему доставила буржуазная пресса…
Личная судьба Георгия Носаря глубоко трагична. История раздавила этого нравственно нестойкого человека, взвалив на него тяготу невмоготу. Обывательская фантазия создала, при содействии прессы, романтическую фигуру Хрусталева. Георгий Носарь разбил эту фигуру вдребезги и… разбился сам»{80}. Да, как явствует из архивов, Хрусталев-Носарь был в известном смысле «сомнительным» революционером, о чем говорит его поведение на суде, в ссылке, эмиграции, после Октябрьской революции. Жизнь безжалостно сбросила его с гребня революционной волны, но Троцкий, проявляя свою беспощадность к соперникам, не отказал себе в удовольствии нанести неудачнику еще несколько печатных ударов.
В революции Троцкий успевал всюду. Ему удалось изменить направленность меньшевистской газеты «Начало», и она стала отражать интересы рабочих и поддерживать действия Совета. Даже Г. Зиновьев, не питавший, по сути, никогда настоящих симпатий к Троцкому, отметит позже: «Когда «Начало»… попало под их руководство (имеются в виду Троцкий и Парвус. – Д.В.), они придали ему в значительной мере большевистский характер»{81}.
Заявления Троцкого в печати дышали уверенностью, твердостью, решительностью: «…Совет депутатов заявляет: петербургский пролетариат даст царскому правительству последнее сражение не в тот день, который изберет Трепов, а тогда, когда это будет выгодно организованному и вооруженному пролетариату»{82}. Троцкий вел себя так, как будто за его плечами был опыт не одной революции… И это очень импонировало рабочим. Популярность молодого революционера стремительно росла.
Пожалуй, здесь уместно сказать, что более чем через три десятилетия после первой русской революции, когда Троцкий находился в изгнании и за ним охотились люди Берии, по указанию Сталина предпринимались попытки опорочить и раннюю революционную деятельность Льва Давидовича. Для этого извлекли из забвения имя Хрусталева-Носаря. Об этом свидетельствует такой документ, обнаруженный мной в архивах. В донесении, адресованном Сталину и Ворошилову и подписанном 28 октября 1938 года Ежовым и Берией (видимо, один из последних, подписанных Ежовым), говорится:
«В НКВД СССР. Бывш. председатель Совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 г. Хрусталев-Носарь издал книгу под наименованием «Из недавнего прошлого», в предисловии которой «Троцкий-Бронштейн назывался агентом царской охранки с 1902 года». Одновременно нам стало известно, что в 1919 году Хрусталев-Носарь был расстрелян в Переславле по прямому приказанию Троцкого, преследовавшего тем самым цель избавиться от свидетеля его сотрудничества с охранкой.
В результате проведенных мероприятий по розыску документов, подтверждающих провокаторскую деятельность Троцкого, в городе Горьком был обнаружен протокол заседания президиума Нижегородского исполкома от 30 марта 1917 года, в котором записано…»
Далее говорится, что «в алфавите «уволенных» агентов – сотрудников бывшего жандармского управления числятся Бронштейн Лейба Давидович, Носарь Георгий Степанович, Луначарский Анатолий Васильевич». Этот документ якобы был направлен А.Ф. Керенскому и в копии В.Л. Бурцеву.
В этой же докладной записке имеется и такая приписка:
«Нами обнаружено сообщение генерал-квартирмейстера генерального штаба царской армии от 30 марта 1917 года за № 8436, адресованное Временному правительству, о том, что военный агент в Северо-Американских Соединенных Штатах телеграфирует: 14 марта из Нью-Йорка отбыл в Россию на пароходе «Христиания-Фиорд» Лев Троцкий. По сообщению английской разведки, Троцкий состоял во главе социалистической пропаганды в Америке в пользу мира, оплачиваемой немцами и лицами, им сочувствующими»{83}.
Однако этот документ, состряпанный Ежовым и Берией, показался Сталину весьма неубедительным, фальшивым и никогда в последующем не использовался против Троцкого. Книгу Носаря обнаружить нигде не удалось. Но известно, что личные неприязненные отношения между ним и Троцким возникли вскоре после их знакомства. Думаю, люди из НКВД использовали то обстоятельство, что большевики серьезно подозревали Хрусталева-Носаря в сотрудничестве с охранкой, и попытались, теперь уже якобы рукой Носаря, втянуть в это дело Троцкого и Луначарского. Архивный и иной анализ дает основание судить о документе Ежова – Берии как о явной грубой фальшивке.
За 52 дня руководства Петросоветом Троцкий сумел проявить себя как лидер и выразитель бескомпромиссного революционного начала. В советское время, при историческом анализе первой русской революции, когда имя Троцкого было предано остракизму, его обвиняли во всех грехах: «внес раскол в рабочее движение», «не опирался на крестьянство», «слабо вел работу в армии» и т.д. Но давно известно, что справиться с обстоятельствами бывает всегда значительно сложнее, чем анализировать и оценивать их. События общественной жизни с их коллизиями, зигзагами, поворотами, драмами и трагедиями не подвержены жесткому программированию. Все ясно бывает лишь потом. А когда нужно принимать решения, часто в самых жестких временных рамках, субъекту выбора некогда все сопоставлять, взвешивать, прикидывать, экспериментировать и тем более думать, что об этом скажут историки через десятки лет. Исторический поток необратим. Упрека заслуживает не столько тот, кто в стремлении достичь высокой цели мог сделать неверный шаг, сколько тот, кто, боясь исторической ответственности, не сделал вообще никакого шага… Вот в этом Троцкого обвинить нельзя. Он ошибался действуя. В последующем русский революционер высоко отзовется о «первом русском взрыве», который подготовил 1917 год и сформировал «обойму» будущих лидеров. Выступая со статьей «Ползучая революция» (о событиях в Германии) в апреле 1919 года, Троцкий напишет: «Совершив свою Октябрьскую революцию, русский рабочий класс получил от предшествующей эпохи неоценимое наследство в виде централизованной рабочей партии. Хождение народнической интеллигенции в крестьянство, террористическая борьба народовольцев, подпольная агитация первых марксистов, революционные манифестации первых годов текущего столетия, всеобщая октябрьская стачка и баррикады 1905 года, теснейшим образом связанный с подпольем революционный парламентаризм» столыпинской эпохи – все это подготовило многочисленный персонал революционных вождей…»{84}
В конце ноября 1905 года был арестован Хрусталев-Носарь. На заседании Петербургского Совета избрали президиум из трех человек, куда вошел Троцкий, став практически его председателем, а также Сверчков и Злыднев. Но было ясно, что власти перешли в контрнаступление. Революционный паводок быстро сходил. Одно из последних решений Совета – призыв к народу не платить царскому правительству налоги до тех пор, пока не будут выполнены все экономические и социальные требования трудящихся. То был призыв к «экономическому бойкоту».
3 декабря 1905 года жандармы арестовали весь состав руководства Совета, и в том числе Троцкого. С этого дня начинается еще одна, протяженностью в пятнадцать месяцев, судебная, тюремная и ссыльная эпопея революционера. В воспоминаниях Сверчкова, Войтинского, Гарви, как и в книге Дейчера, описывается последний день работы Совета. Используя эти свидетельства, как и архивные документы, попытаюсь реставрировать заключительные часы революционного органа петербургских рабочих.
…3 декабря открылось очередное заседание русского «конвента» под председательством Троцкого. Он сообщил членам Совета о последних шагах царского правительства, направленных на ужесточение репрессий против революционных выступлений рабочих. Стали обсуждать предложение об объявлении новой всеобщей забастовки, но в этот момент в зал вошли жандармы. Здание, где проходило заседание Совета, было окружено полицией. Заканчивался последний акт драмы. В эту критическую минуту Троцкий проявил высокое самообладание и мужество. Жандармский офицер, грохоча сапогами, вышел на середину зала и стал громко зачитывать ордер об аресте членов Совета. Председатель решительно прервал офицера:
– Не мешайте работе Совета. Если вы хотите выступить, назовите свою фамилию, я спрошу собрание, желают ли они вас слушать!
Жандарм споткнулся, замолчал, озираясь в нерешительности и растерянности. А Троцкий тем временем предоставил слово очередному оратору. Наконец, обратившись вначале к залу, Троцкий предоставил слово офицеру. В гробовой тишине все выслушали краткое содержание ордера об аресте, и Председатель Петросовета спокойным, даже будничным голосом произнес:
– Есть предложение принять к сведению заявление господина жандармского офицера. А теперь покиньте зал заседания Совета рабочих депутатов!
Представитель властей, потоптавшись на месте, в полном замешательстве вышел из зала. Троцкий предложил приготовиться к аресту, уничтожить документы, материалы, которые могут быть использованы властями против Совета, а тем, у кого есть при себе оружие, привести его в негодность. Едва успев кое-что сделать по указаниям Троцкого, члены Совета увидели, как в зал ворвалась целая толпа жандармов. Председатель еще успел громко выкрикнуть, пока не был схвачен:
– Смотрите, как царь исполняет свой октябрьский Манифест! Смотрите!
Поведение Троцкого в первой русской революции, на суде, убедительно говорит, что на сцене истории появилась еще одна выдающаяся личность, для которой революция – высшая ценность. Важно подчеркнуть, что действия Троцкого были тем более непредсказуемы, решительны и одухотворенны, чем критичнее складывалась обстановка.
Каждая личность исключительно сложна. В одном человеке одновременно могут уживаться возвышенные и низкие мотивы, общественные и личные стремления, разочарования и надежды. Очень хорошо о «многослойности» личности сказал Державин: «я царь – я раб – я червь – я бог!». Но Троцкий, конечно, никогда не считал себя ни «рабом», ни «червем». Он не сомневался в высоком предназначении своей судьбы и в том, что не ошибся в выборе пути. За полгода до смерти он напишет в своем завещании: «Если б мне пришлось начать сначала, я постарался бы, разумеется, избежать тех или других ошибок, но общее направление моей жизни осталось бы неизменным»{85}. Троцкий оптимистично воспринял и первое крушение революции. Он верил, что это лишь историческая репетиция.
Заточение в знаменитых «Крестах», Петропавловской крепости, доме предварительного заключения Троцкий максимально использовал для самообразования, написания многочисленных статей и прокламаций. Камера Троцкого, по свидетельству очевидцев, была похожа на кабинет ученого: так много там было книг, журналов, газет. Его навещали два раза в неделю жена, родители, товарищи, оставшиеся на свободе. Из тюрьмы он отправил несколько писем и Соколовской, поддерживая слабую, тонкую связь с первой семьей. Например, 17 мая 1906 года Троцкий написал Александре Львовне:
«Дорогой друг,
Неужели ты не получила моего последнего письма? Я написал его на адрес твоего отца. Письмо я посвятил, главным образом, моему отношению к обеим фракциям (ты меня спрашивала об этом)…
Положение мое все то же. Суд отложен до 19 октября. Сижу я в одиночной камере, прогулка общая часа 3–4 в день…
…Родители привезли мне карточку девочек, – я тебе писал об этом. Девочки превосходны, каждая в своем роде! У Нинушки такое личико – испуганное и вместе с тем лукаво заинтересованное лицо! А у Зинушки такое размышляющее личико! Кто-то тронул рукой карточку у меня в номере, и на личике Зинушки пятно. Если у тебя есть одна свободная карточка, пришли мне, пожалуйста.
Итак, Думу разогнали. Я держал пари, что министерство будет хулиганское, и выиграл…»{86}
Царская тюрьма допускала большие послабления для политических заключенных. Троцкий почти открыто передавал жене написанные в тюремной камере статьи, которые затем печатались в легальных или нелегальных типографиях. Особенно большой резонанс имел памфлет «Петр Струве в политике», в котором автор бичевал либералов как временных попутчиков, а не союзников революции. Но главным трудом этого периода была большая статья «Итоги и перспективы», где Троцкий впервые в достаточно законченном виде изложил свою концепцию перманентной революции. В последующем она была издана отдельной брошюрой, а затем и книгой. Троцкий выдвинул тезис, за который его будут всю жизнь бить: «Завершение социалистической революции в национальных рамках недопустимо… социалистическая революция становится перманентной в новом, более широком смысле слова: она не получает своего завершения до окончательного торжества нового общества на всей нашей планете»{87}. Заблуждение или романтизм? А может, озарение утопией? Концепция окончательно выкристаллизовалась позднее. Я еще вернусь к ее анализу, а пока лишь скажу: однозначное традиционно-критическое, пренебрежительное отношение к этой далеко не бесспорной теории едва ли оправданно. Может быть, Троцкий прав хоть в том, что ни одно общество «в одиночку» не может войти в мир цивилизации? Другое дело, что сегодня эта теория выглядит «музейной», но в свое время она аккумулировала революционную мыслительную энергию, раздвигала узкие национальные рамки движения, ставила перед пролетариатом высокие цели.
Троцкий, возможно, раньше многих понял: первая русская революция разбилась о вековые устои самодержавия. Покачнула их, но не опрокинула. Описывая в тюремной камере события, которые как шквал пронеслись по Петербургу, Москве, ряду других мест, но не приняли всероссийского размаха, узник считает, что репетиция удалась. Каллиграфический, аккуратный почерк, который легко читать и спустя многие десятилетия: «1905 год открылся событиями, которые положили роковую грань между прошлым и настоящим. Они подвели кровавую черту под эпохой весны, периодом детства политического сознания…»{88} Без детства не бывает зрелости. Троцкий всю свою последующую жизнь очень высоко отзывался о политической школе первой русской революции, позволившей не только ему выйти из «детства».
Троцкий придавал большое значение судебному процессу, тщательно к нему готовился в надежде использовать его в качестве всероссийской трибуны. В фонде Троцкого сохранились черновые наброски речи, в которой он попытался охватить широкий круг вопросов, объяснявших причины неудачи восстания рабочих. Много места в этих записках отведено армии. Почему солдатская масса не поддержала рабочих?
«…В течение 25 дней, – записал Троцкий, – происходили солдатские митинги в Гродно, Ростове, Самаре, Тифлисе, Курске, Харькове, Киеве, Выборге, Риге, Ставрополе, Кавказском, Белгороде… Впереди шел «квалифицированный» солдат: сапер, артиллерист – в большинстве случаев – сын города. Деревенская часть армии, т.е. главная масса, медленнее проникалась новым настроением. Но в конце концов для нас, как и для власти, было ясно, что это лишь вопрос времени»{89}.
Находясь в предварительном заключении, используя слабости режима, подследственные сговорились вести себя вызывающе, больше изобличать существующие порядки, говорить о стремлении Совета к социальной справедливости и заботе об интересах трудящихся. Условились говорить об одном: в действиях Совета не было стремления вооруженным путем изменить существующий строй, ибо 22 марта 1903 года была принята статья 126 Уголовного Уложения, где говорилось:
«Виновный в участии в сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего строя или учинение тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или снарядов, наказывается:
каторгою на срок не свыше 8 лет или ссылкой на поселение»{90}.
Было решено, обличая царизм, исключить возможность обвинения подсудимых в использовании «взрывчатых веществ или снарядов». Тем самым можно было попытаться избежать каторги. В своей речи Троцкий постарался, с одной стороны, показать отсутствие конкретного плана восстания у Совета, а с другой – гнилость и антинародность царского правительства. Его выступление, как всегда в моменты подъема, было возвышенным: