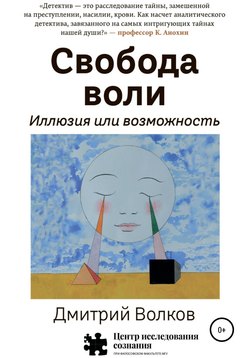Читать книгу Свобода воли. Иллюзия или возможность - Дмитрий Волков - Страница 13
Глава 1. Проблема ментальной каузальности и возможность действий
III. Решение проблемы ментальной каузальности в локальном интеракционизме
2. Аргумент каузальных траекторий в пользу ментальной каузальности и против локальной супервентности
A. Локальная или глобальная супервентность?
ОглавлениеВполне вероятно, что в исходном виде аргумент действительно направлен исключительно против локальной супервентности ментального на физическом. Но есть вероятность, что, если аргумент верен, его вариацию можно использовать также и против глобальной супервентности. Тогда рассуждения строились бы следующим образом. (1) У одинаковых событий могут быть разные причины. Таким образом, если текущее состояние мира представляет собой гигантский комплекс событий, эти же события могли произойти в ходе других причин. (2) Память людей обычно отражает события, которые происходили с ними в прошлом. Но если бы у них было другое прошлое, их память имела бы другое содержание. (В) Следовательно, возможно, что существовал бы мир, полностью идентичный нашему, но отличающийся от нашего содержанием ментальных состояний населяющих его людей. Это следствие противоречит Тезису о глобальной супервентности – тезису о том, что миры, одинаковые физически, совершенно одинаковы в целом. Выходит, что Аргумент каузальных траекторий направлен и против глобальной супервентности?
Васильев предполагает подобного рода замечания и заведомо не согласен с выводом. Скорее всего, он критиковал бы первую посылку в нашем изложении. Хотя одно сингулярное событие (используя терминологию автора) может иметь множество предшествующих событий в качестве причины, весь комплекс событий, составляющий состояния мира в момент t, мог бы иметь только одно предшествующее состояние – то, которое было в действительности. То есть у текущего совокупного события, События А, может быть только один антецедент, Событие B (ТСС – Тезис о совокупном событии). Но каковы основания считать именно так?
У сторонника локального интеракционизма есть две тактики защиты этого Тезиса. Одна основывается на анализе принципов здравого смысла. По мнению Васильева, эти положения не могут быть оспорены, так как отражают устройство наших познавательных способностей. Одним из базовых положений Васильев считает убеждение «в соответствии прошлого и будущего» [Васильев 2009, 206]. На нем построены другие: вера в существование причин у каждого события, убеждение в том, что «при точном повторении в будущем тех событий, которые имели место в прошлом, за ними последует то, что следовало за ними тогда, когда мы раньше ощущали их» [Васильев 2009, 208], Принцип каузальной замкнутости физического. По мнению автора, аксиома соответствия прошлого и будущего обуславливает также веру в возможность существования только одной причины, только одного События А, предшествующего Событию B. Мне кажется, что следование здесь далеко не очевидно. Но в данном случае я не берусь оценивать умозаключения Васильева, так как метод философствования, который применяет здесь автор, частично выходит за рамки аналитического дискурса и представляет собой вариант аналитической феноменологии, довольно редко использующийся современными философами. Впрочем, к выводам автора проложен и другой путь, который проще проследить и проверить. Он представлен в другой книге Васильева, «Сознание и вещи» [Васильев 2014].
Философ сравнивает два описания события: отскок мяча от поверхности и отскок мяча от поверхности на такое-то расстояние. Оба события могут быть следствиями множества причин. Например, причиной могли быть удар по мячу другим мячом, или теннисной ракеткой, или неустойчивое исходное положение мяча на плоскости. Но второе описание является более конкретным и в этом смысле сужает горизонт возможных причин (предшествующих состояний). Кажется, что конкретизация описания событий уменьшает возможные антецедентные события. Отскок мяча на двести метров мог иметь гораздо меньше причин, чем просто отскок мяча. А состояние мозга в момент t является еще более «конкретным событием», чем отскок мяча на двести метров, и потому может иметь еще меньшее количество причин. Но явно не одну. Только предельно конкретное событие имеет исключительно одну причину. Таким событием и является Событие, или совокупное содержание всего чувственного опыта в момент t, – считает автор.
Кажется, эти рассуждения не являются полностью безупречными. Они строятся на представлении о снижении количества возможных причин при конкретизации описания. Но разве они убеждают нас в том, что совокупное событие[8] может иметь только одну причину? Возьмем сингулярное событие и создадим для него исчерпывающее конкретное описание. Это описание будет бесконечно длинным, пусть так. Но будет ли у этого конкретного события возможность в качестве антецедента иметь больше одной причины? Кажется, что да, по крайней мере, в соответствии с посылкой 1 исходного аргумента. Вне зависимости от того, сколь точным, конкретным будет описание одного сингулярного события, к нему может вести больше одной каузальной траектории. А теперь подумаем о Событии. Разве Событие, совокупное событие, текущее состояние мира, по определению не является совокупностью всех конкретных сингулярных событий? Если так, то его предшественниками могут быть варианты антецедентов всех конкретных сингулярных событий. И таких предшествующих состояний должно быть больше чем одно. Я даже думаю, что чем больше сингулярных конкретных событий входит в совокупность, тем больше вариаций ей может предшествовать.
К примеру, пусть комбинация шаров на бильярдном столе такова, что игрок может забить шар в лузу только с отскоком от правого или левого борта. Если шар уже попал в лузу, и мы не видели, как он был забит, мы должны допустить, что он туда попал одним из двух вариантов. Теперь представим, что футбольное поле или даже пустыня Сахара заставлена бильярдными столами с аналогичным расположением шаров, и у каждого стола находится по одному игроку. Вот все шары оказались в лузах. Какое количество комбинаций могло предшествовать попаданию всех шаров в лузы? Очевидно, что это число больше, чем число комбинаций, предшествующих попаданию одного шара. Мне кажется, таким же образом дело должно обстоять и с совокупным событием. А это значит, что, если Аргумент каузальных траекторий верен, он, вероятно, опровергает не только локальную супервентность, но и глобальную, то есть все три варианта формулировки ТС.
В таком случае ментальное становится полностью автономным от физического, парящим свободно над физическим миром. А это – нарушение ПКЗ, одного из принципов здравого смысла. Теория, которая ведет к таким следствиям, вряд ли может выстоять. Впрочем, не стоит торопиться. Даже если нам удалось опровергнуть второй путь защиты ТСС, надежным мог быть первый. А для анализа его у нас недостаточно инструментов. Думаю, в таком случае оправданно вернуться к исходному аргументу и продумать его посылки. На мой взгляд, достаточно будет ограничиться первыми двумя. Ведь для получения интересующего нас вывода (о ложности ТС) достаточно только их. Мы сократим аргумент и приведем его в несколько адаптированный вид.
8
Васильев использует термин примерно в том же смысле, «что Витгенштейн понимал под миром» [Васильев 2009, 241].