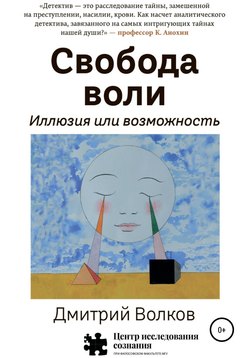Читать книгу Свобода воли. Иллюзия или возможность - Дмитрий Волков - Страница 15
Глава 1. Проблема ментальной каузальности и возможность действий
III. Решение проблемы ментальной каузальности в локальном интеракционизме
3. Возражения на аргумент каузальных траекторий
A. Аргумент-двойник
ОглавлениеДоводом в пользу невозможности этой ситуации служит аналогичный аргумент, Аргумент-двойник, который хотя и имеет, по моему мнению, ключевые черты АКТ 1, приводит к очевидно ложному выводу. Если Аргумент-двойник не работает, но принципиально не отличается от АКТ 1, то и АКТ 1 не работает. Я предлагаю рассмотреть рассуждение, которое я назову АКТ 2:
(1) Реально возможно, чтобы жесткий диск моего компьютера пришел в текущее состояние различными путями.
(2) Файловая система хранит информацию (компьютерная память) о последовательности изменений файлов на диске.
(В) Реально возможно, чтобы жесткий диск моего компьютера был в текущем состоянии, но файловая система хранила другую информацию о последовательности записи файлов на диск.
Это рассуждение похоже на АКТ 1, и доводы, приводимые в пользу истинности посылок АКТ 1, полностью применимы и в новом аргументе. Диск компьютера – такая же физическая система, как мозг человека. Следовательно, текущему состоянию диска могли предшествовать различные состояния. Файловая система в качестве метаданных хранит информацию о времени создания, доступа и модификации каждого файла. Эта информация обычно представляется правильным образом и отражает индивидуальную каузальную траекторию жесткого диска. Отклонения, конечно, возможны, но мы говорим о норме. И это – общее представление, разделяемое как любителями, так и профессиональными программистами. И тем не менее вряд ли кто-либо станет утверждать отсутствие локальной супервентности данных файловой системы на физическом состоянии жесткого диска и допустит возможность ситуации, описанной в выводе АКТ 2. Но почему? Почему вывод АКТ 1 представляется правдоподобным в случае с памятью человека, а аналогичный вывод в случае с памятью компьютера в АКТ 2 – неправдоподобным? Может, нам стоит поэкспериментировать с жесткими дисками и экспериментально проверить работу Принципа супервентности в компьютерных системах?
И все-таки в случае с механическими системами в локальной супервентности информации на носителе вряд ли можно сомневаться. Здесь с нами согласится и Васильев. Об этом можно судить из его анализа чего-то подобного, робота-зомби с механической памятью. «Такой робот мог прийти к своему нынешнему состоянию… разными путями. Но, независимо от того, как он пришел к нему, он, будучи чисто механической конструкцией, должен в этом состоянии одинаково реагировать на свое окружение. Итак, для поведения нашего робота-зомби значима не его индивидуальная история, а исключительно его наличное состояние» [Васильев 2009, 221]. Наличное состояние робота может отражать прошлые события. Но, по мнению российского философа, механическая память робота не чувствительна к его фактической индивидуальной истории. На чем основана такая уверенность?
Возьмем убеждение, что я родился в 1976 г., и запись компьютера о том, что первый файл на его диск записан в 1976 г. В чем принципиальная разница? Оба «воспоминания» содержат хронологическую метку, оба могут быть верными или ошибочными, оба в качестве основания имеют некоторый правдоподобный источник (часы реального времени и свидетельство о рождении), и оба влияют на поведение. Оба «воспоминания» могут как-то отражать другие события, и оба могут исчезнуть или измениться, если оказать непосредственное воздействие на физический носитель, мозг или жесткий диск. Повреждения или значимые изменения в физическом носителе в обоих случаях приводят к изменениям или исчезновениям воспоминаний.
Может, различие в том, что механизм компьютерной памяти относительно хорошо изучен, а механизм работы человеческой памяти все еще отчасти остается загадочным для ученых? Но отсутствие понимания всех механизмов работы человеческой памяти не является доводом в пользу наличия у нее нефизических свойств и отсутствия локальной супервентности. Или различие в том, что память человека может содержать конкретные визуальные образы прошлого, а память компьютера – только последовательность битов, которые могут быть проинтерпретированы самым различным образом? Например, запись о времени создания файла какой-то другой программой действительно может быть проинтерпретирована иначе: как математическая формула, данные об изображении, команда распечатать файл и т. п. С этим возражением можно работать (можно попытаться показать, что воспоминания человека могут также быть интерпретированы по-разному, как и любая сжатая информация; тактики атаки и защиты подобных утверждений присутствуют, например, в дискуссии Сёрла и Деннета о «Китайской комнате»). Но более простой способ атаковать АКТ 1 – заменить цифровой жесткий диск в Аргументе-двойнике на аналоговый носитель, например аналоговую кассету или диафильм. Эти носители сохраняют информацию в максимально конкретном виде, и альтернативная интерпретация данных оказывается затруднена. Мне кажется, что параллельный аргумент и его несостоятельность должны показать то, что сам по себе АКТ 1 недостаточен для опровержения локальной супервентности. Для опровержения этого стороннику АКТ 1 нужно показать, что аргументы неэквивалентны.
И в рассуждениях Васильева есть указание на еще одно, возможно, ключевое отличие механической памяти от памяти человека. Видимо, именно оно должно делать АКТ 1 правдоподобным, а его механическую вариацию, АКТ 2, – нет. В представлении автора память человека – это приватные квалитативные состояния. И поэтому «индивидуальное прошлое не растворяется в нейтральных нейронных кодах, а продолжает существовать на уровне ментальных образов» [Васильев 2009, 221]. Это утверждение нужно использовать как еще одну посылку в аргументе. Она фигурирует там проходящим образом, как нечто само собой разумеющееся, но крайне важна и потому требует разъяснения и оценки.
Квалиа – термин, обозначающий качественный или феноменальный аспект ментальных процессов: «мучительность» боли, «красноту» красного, «горечь» обиды, «сладость» наслаждения. Его используют для того, чтобы провести различие между содержательным аспектом ментального процесса (контентом) и субъективным переживанием этого процесса, «каково это: испытывать» процесс на себе. Когда Васильев говорит о том, что человеческая память состоит из приватных квалитативных состояний, он имеет в виду наличие этого качественного аспекта. Вот я вспоминаю прошлое лето, выходные: дача, на траве стоят плетеный столик и кресло, книги и чашка чая на столе, почти ощущаю запах скошенной травы, слегка греет солнце, чувствую удовольствие с оттенком сожаления. Воспоминания как бы оживляют пережитые ощущения, мои личные, те, что никто другой, кроме меня, не переживал и о которых другие могут узнать только косвенным образом. Этот пример должен объяснить утверждение Васильева. Но если хорошо подумать, все ли содержимое памяти представлено таким же образом? Вот некто знает иностранные языки, то есть помнит тысячи слов, выражений и грамматических правил. Разве такое содержание памяти окрашено феноменально? Каково это: «помнить три иностранных языка»? И отличается ли это состояние от состояния «помнить четыре или пять иностранных языков»? Сейчас, когда я печатаю этот текст, я, очевидно, помню собственную биографию, но каково это: «помнить свою биографию»? Отличается ли это состояние от состояния «помнить биографию Стива Джобса или Бенджамина Франклина»? А было бы мое состояние другим, если бы вместо того, чтобы сейчас помнить, что я родился в Москве, я, например, помнил, что родился в Бейруте или Бостоне? Память об этих моментах, кажется, влияет на мое поведение. Но чтобы иметь кажимость влияния, они не должны быть как-то квалитативно окрашены.
Теперь попробуем расставить все по местам. У нас есть АКТ 1 и АКТ 2. Единственным различием между ними является допущение, что память человека состоит из квалитативных приватных состояний. Но из наших примеров очевидно, что по крайней мере часть содержания памяти не имеет «квалитативного вкуса». Должны ли мы, вопреки интуиции, провести различие в каузальной действенности «квалитативно окрашенных» и «квалитативно пустых» воспоминаний? Или углубиться в интроспективные исследования, чтобы все-таки найти «вкус» всех без исключения записей памяти? Мне кажется, однако, что обе альтернативы бесперспективны. И вернее считать, что память не имеет «квалитативных качеств». Тем более что такую точку зрения могут занимать не только элиминативисты (противники существования квалиа), но даже такие квалиафилы, как Д. Чалмерс.