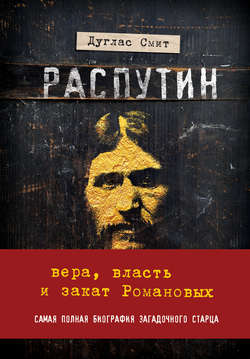Читать книгу Распутин. Вера, власть и закат Романовых - Дуглас Смит - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Очарованный странник. 1869–1904
2. Странник
ОглавлениеВ 1907 году Распутин рассказал о своей юности одной из своих прислужниц, некоей Хионии Берладской. Она записала его слова и способствовала их изданию в книге «Житие опытного странника». Берладской Распутин говорил так:
«Когда я жил сперва, как говорится, в мире до 28 лет, то был с миром, то есть любил мир и то, что в мире, и был справедлив и искал утешения с мирской точки зрения. Много в обозах ходил, много ямщичал, и рыбу ловил, и пашню пахал. Действительно, это все хорошо для крестьянина!
Много скорбей было мне: где бы какая сделалась ошибка, будто как я, а я вовсе ни при чем. В артелях переносил разные насмешки. Пахал усердно и мало спал, а все же таки в сердце помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются. Посмотрю по поводу примеров на священников – нет, все что-то не то […]. Вот я и пошел паломничать, а так был быстрый вглядываться в жизнь; все меня интересовало, хорошее и худое, я и вешал, а спросить не у кого было: “Что значит?” Много путешествовал и вешал, то есть проверял все в жизни»1.
Причины, которые побудили Распутина изменить свою жизнь, а впоследствии из Покровского привели его в царский дворец, издавна были окутаны легендами. Николай Соколов, который в 1919 году возглавлял следствие по убийству Романовых, утверждал, что Распутин покинул Покровское не для поисков Бога, но чтобы избежать тяжелого труда. Другие писали, что Распутин пытался скрыться, чтобы не попасть в тюрьму за конокрадство. По-видимому, Распутин отправился в паломничество в Свято-Николаевский монастырь в Верхотурье – за триста миль от дома – чтобы отмолить свои грехи2. Обе версии не представляются убедительными. Давний друг Распутина, Дмитрий Стряпчев, в 1914 году сообщил журналистам, что в юности Распутин не пользовался особо хорошей репутацией. Кроме прочего, он очень любил выпить. Но однажды ночью ему было видение. Перед ним появился святой Симеон Верхнетурский и сказал: «Григорий! Иди странствуй и спасай людей»3. В своем жизнеописании Распутин говорит о святом Симеоне Верхнетурском, рассказывает, как святой избавил его от бессонницы и энуреза – эта проблема мучила его и во взрослой жизни. Святой сотворил чудо – помог Григорию обрести смысл жизни и посвятить себя Богу4. Дочь Распутина, Матрена, которая родилась уже после этой трансформации, писала, что ее отец пил, курил и ел мясо, как и другие крестьяне, но потом неожиданно изменился. Он бросил все, стал совершать паломничества в далекие монастыри. В одном из изданий мемуаров Матрена утверждала, что отцу ее было видение: когда он работал в поле, в небе перед ним появилась Дева Мария и указала за горизонт. Распутин почувствовал, что Дева смотрит на него и повелевает ему стать святым странником. Всю ночь он провел возле иконы Богородицы. Проснувшись на следующее утро, Григорий увидел на лице Девы Марии слезы и услышал голос: «Я плачу о грехах людских; иди, странствуй, очищай людей от грехов их и снимай с них страсти»5.
Даже если эта история верна, то, чтобы убедить Распутина искать Бога за горизонтом, потребовалось нечто большее, чем ободрение Богоматери. В 1910 году жители Покровского говорили, что неожиданная перемена в поведении Распутина совпала с посещением Тюмени. Туда Григорий отправился с молодым студентом-богословом Мелетием Заборовским. Заборовский впоследствии стал монахом и ректором духовной семинарии в Томске. О Заборовском упоминает и Матрена. Она пишет, что отец случайно встретил его, возвращаясь с мельницы. Распутин стал рассказывать Заборовскому о своих видениях и спросил его совета, на что тот отвечал: «Тебя Господь позвал. Господь позвал – ослушаться грех»6.
Почти столь же, как и причины перемены, туманна и дата, когда это случилось. Отчасти это связано с самим Распутиным. Так, например, в 1908 году он утверждал, что начал свои странствия примерно в 1893 году, когда ему было двадцать четыре года7. И здесь он явно ошибается. В своем жизнеописании он пишет, что начал совершать паломничества, когда ему было двадцать восемь, то есть в 1897 году. Ту же дату он называет отцу Александру Юрьевскому во время беседы с ним в Сибири в 1907 году8. И вот эта, более поздняя, дата кажется наиболее вероятной.
По меркам того времени, Распутин был крестьянином средних лет, когда решил покинуть свою деревню и отправиться на искания Бога. Это было весьма радикальное решение, явно отражавшее переживаемый эмоциональный или духовный кризис. Возможно, это была некая разновидность кризиса среднего возраста: Григорий уже десять лет был женат, у него был маленький сын, должен был родиться второй ребенок, и его жизнь текла однообразно и тяжело. Решение подняться и покинуть дом было своеобразной формой бегства, попыткой начать новую жизнь. Распутин уже ощутил вкус другой жизни, когда совершал короткие паломничества в Абалакский монастырь и в собор Тобольска. Теперь же ему захотелось пойти дальше и провести в странствиях больше времени. Его натура не знала покоя. Он никогда не мог долгое время оставаться на одном месте и всю жизнь проводил в странствиях. Но в решении Распутина было нечто большее, чем простое желание сбежать из дома. Религиозное устремление, явственное из приведенной выше цитаты, было искренним. Распутин был неутомим в своих религиозных исканиях, и на его вопросы о природе Бога и религии местные священники, весьма ограниченные в своих мировоззрениях, ответить не могли.
Никакой информации о том, как родные отнеслись к поступку Григория, у нас нет. Конечно, покинуть дом было непросто. Григорий был единственным сыном Ефима, и отец нуждался в нем для работы по хозяйству. Вряд ли он обрадовался тому, что сын отправляется на поиски Бога. Есть свидетельства того, что их отношения после этого пострадали9. Прасковья тоже была не рада, но в патриархальном крестьянском мире ей оставалось только смириться. Многие забывают о том, что к тому времени, когда Распутин покинул дом, за его плечами была уже добрая половина жизни.
Странники или религиозные паломники были весьма характерны для России того времени. В XVIII–XIX веках идея паломничества к святым местам получила широкое распространение – и среди бедных, и среди богатых. Но если богатые могли позволить себе путешествовать в экипажах, бедным приходилось идти пешком, неся в руках весь свой скарб. Паломники шли от деревни к деревне, полагаясь на щедрость чужих людей, чтобы раздобыть какую-то еду и кров на ночь. Им часто приходилось ночевать под открытым небом и оставаться голодными. Одетые в тряпье, часто босые, в веригах, они брели по России. Суровая жизнь… В 1900 году в России насчитывалось около миллиона странников, бродящих из одного святого места в другое в поисках спасения и просветления. И все они твердили Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешнаго»10.
Многие русские относились к странникам с глубоким почтением. Великий русский поэт XIX века Федор Тютчев посвятил им стихотворение «Странник»:
Угоден Зевсу бедный странник,
Над ним святой его покров!..
Домашних очагов изгнанник,
Он гостем стал благих богов!..
Сей дивный мир, их рук созданье,
С разнообразием своим,
Лежит, развитый перед ним
В утеху, пользу, назиданье…
Чрез веси, грады и поля,
Светлея, стелется дорога, —
Ему отверста вся земля,
Он видит все и славит бога!..11
Но для властей странники были вовсе не скромными искателями Бога. Алексей Васильев, последний директор Департамента полиции при царском режиме, называя странников «бегунами», писал о них так: «Бегуны представляют собой совершенно анархический элемент российского крестьянства. Они скитаются по стране без цели и без отдыха, тщательно избегая контактов с представителями закона. У них нет удостоверения личности и никаких других документов, даже фальшивых, они упорно скрывают свои настоящие имена и таким образом избегают всех общественных обязательств»12. Васильев полагал, что подобный образ жизни следует запретить во имя общественного блага[4].
«Когда я стал ходить по святым местам, – много лет спустя вспоминал Распутин, – то стал чувствовать наслаждение в другом мире». Он видел, как по-разному люди служат Богу, и понял, что человек может участвовать в Его работе, живя в миру, если он глубоко осознал Божественную благодать. Жизнь странника была трудна. Распутин проходил в день тридцать миль, причем в любую погоду. Он просил милостыню или брался за любую работу, чтобы заработать несколько копеек. На него нападали грабители и убийцы. Сам дьявол искушал его «помыслами нечестивыми». Распутин смирял себя, чтобы испытать собственную решимость. Он заставлял себя целыми днями идти без пищи и воды. Шесть месяцев он странствовал, не переменяя белья и не касаясь собственного тела. Три года он брел по России в веригах. Подобное умерщвление плоти приближало его к Христу, подобно древним христианским мученикам. Со временем Распутин стал называть свои железные оковы «веригами любви». Он научился читать Евангелия, постигать их смысл и искал Бога во всем сущем – в особенности в красоте русских пейзажей. Любовь Христова наполняла его душу. «Я любил без разбора», – говорил он. Когда его ограбили разбойники, он отдал им все, что у него было, сказав: «Это не мое, а все Божье», чем немало их изумил. Как бы мало ни было у него пищи, он делился ею с другими странниками, ибо все они были чадами Божьими13.
Изумление при виде красоты природы. Убежденность в том, что дьявол живет в мире рядом с нами. Борьба с желаниями плоти. Небрежение деньгами и материальными благами. Преклонение перед силой любви. Аскетизм и необычные религиозные практики в сочетании с независимостью духа. Во всем этом Распутин раскрывает то, что будет определять его жизнь в будущем.
Верхотурье в Уральских горах – это одно из самых священных мест России. Здесь находятся десятки церквей и монастырь святого Николая. Среди странников это место пользовалось огромной популярностью. Бывал здесь и Распутин – здесь он встретил одного из самых почитаемых старцев России, Макария, в миру Михаила Поликарпова. Макарий жил в маленьком скиту в лесах, неподалеку от монастыря. В 1910 году Макария посетила Маргарита Сабашникова, первая жена поэта-символиста Максимилиана Волошина. Возле скита Макария она увидела множество кур, о которых он с любовью заботился. «Лицо его было вне возраста, – писала она. – Глубокие морщины говорили о заботах, но заботах не о себе». Глаза его, казалось, не знали сна. Он был одет по-крестьянски и вел себя странно – смотрел в небо, обращался к курам и говорил с ними. Но Маргарита ощутила таинственную власть старца над собой. «Нечто захватывающее было во всем его существе, чувствовалось какое-то настоящее присутствие, как будто прямой взор от лица к лицу. «Он, должно быть, старец», – подумала я и стала у двери на колени, потому что знала, что к старцу обращаются на коленях»14.
В романе «Братья Карамазовы» Достоевский так объяснял, кто такой старец:
«Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением… Эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог, наконец, достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли»15.
Старцы обладали редкой внутренней мудростью, харизмой, которой их наделил сам Бог. И это давало им силу быть духовными наставниками тех, кто искал просветления. Первым и самым знаменитым старцем был святой Антоний Египетский (251–356). Он удалился от мира, чтобы вести одинокую жизнь в пустыне, где провел более двадцати лет. Только после этого периода одиночества и созерцания начал он принимать гостей, алчущих мудрости и веры. Главным в жизни Антония, которая стала образцом для подражания будущих старцев, стала идея предварительного удаления от мира, необходимая для возвращения в мир.
Величайший русский святой, Сергий Радонежский (1314? – 1392), вел жизнь старца. Он удалился в густые русские леса, основал там скит и жил там в молитвах. Со временем прошел слух о ските и святом Сергии, и люди стали обращаться к нему как к духовному наставнику. Количество учеников у него росло, и он основал монастырь, расположенный севернее Москвы. Этот монастырь стал самым священным местом Московии. Но Сергий никогда не прекращал своей аскезы, и паломники были потрясены тем, что видели, встречаясь с ним. Хотя Сергий был благородного происхождения, он работал в огороде, одевался, как бедный крестьянин, одежда его была грязна, он редко мылся. Он напоминал нищего и жил в глуши. Тем не менее он был другом великих князей Московии и не чурался политики. В 1380 году, перед Куликовской битвой с татарами, правитель Москвы, князь Дмитрий Донской, обратился к нему за благословением.
Хотя старцы всегда присутствовали в православии, и о них говорилось в разные времена, наибольший расцвет этого явления приходится на XIX век, который даже называли «веком старцев». Начиная со святого Серафима Саровского и великих старцев Оптиной пустыни (Леонида, Макария, Амвросия), эти харизматичные личности оказывали огромное влияние на духовную жизнь России. К ним обращались не только простые люди, но и писатели и философы. Прототипами великого старца Зосимы из «Братьев Карамазовых» были старцы Оптиной пустыни16. Как и многие другие, Распутин находился под сильным влиянием старца Макария. Этот скромный искатель истины глубоко погрузился в православие и помнил наизусть значительную часть Библии. Его поклонники считали, что он не просто цитирует Священное Писание, но живет по нему, будучи живым воплощением учения Иисуса. Нам неизвестны детали общения Распутина и Макария. Возможно, Распутин провел в монастыре в Верхотурье несколько месяцев и стал своего рода учеником старца. Возможно, именно здесь монахи начали обучать его чтению и письму (сам Макарий был неграмотным) – впрочем, в полной мере овладеть этими навыками ему так и не удалось17.
Макарий произвел глубокое впечатление на Распутина, чего нельзя сказать о монастыре и монахах. Впоследствии он говорил Матрене, что «порок», который поразил многие монастыри, проник и в Верхотурье. Скорее всего, под «пороком» он имел в виду гомосексуализм. Распутин чувствовал, что в монашеской жизни присутствует элемент принуждения, и это отталкивало его. Он говорил: «Монашеская жизнь не для меня. Насилие над людьми творится здесь». Единственно верным путем к христианству он считал поиск спасения в миру. Памятуя о беспокойной натуре Распутина, в подобных словах нет ничего удивительного. Он никогда не смог бы подчиниться никому, кроме Бога и царя. Матрена пишет, что именно посещение Макария убедило ее отца избрать для себя жизнь странника18.
Со временем Распутин уходил все дальше от дома. Возможно, что в 1900 году он посетил Афонский монастырь – главный центр православия с Х века. На скалистом греческом полуострове в Эгейском море высится «Святая гора» Афон. Высота ее составляет 6670 футов. Здесь расположено более двадцати монастырей, монашеских поселений и скитов. Вместе с Распутиным на Афон отправился еще один странник, Дмитрий Печеркин. Жизнь на Афоне так потрясла его, что он решил остаться в Греции и поступил в Пантелеймоновский монастырь под именем Даниила. В 1913 году многих русских монахов выслали с Афона, и Дмитрий вернулся в Покровское19.
Из-за своих странствий Распутин не был дома месяцами, а то и годами. Когда он возвращался, то даже родные не всегда узнавали его. Матрена вспоминала, как отец вернулся домой осенью 1903 года. Они с Дмитрием играли вместе с деревенскими детьми, мать позвала их ужинать. Когда они сели за стол, в дом вошел высокий человек в пыльном овчинном армяке, с торбой в руках. Он был похож на обычного странника, которые не раз проходили через деревню. А потом Прасковья узнала в нем своего мужа. Они не виделись два года. Матрена с братом прыгнули на колени отцу и осыпали его поцелуями.
В мемуарах Матрена довольно точно отмечает любовь отца к родной деревне – эту любовь он сохранил на всю жизнь. И все же каждую весну его охватывала тяга к странствиям. «Прогулки по ближайшим окрестностям, – писала она, – более не удовлетворяли его. Неожиданно его охватывала жажда странствий, и одним прекрасным утром с котомкой на плече он уходил, отправлялся в очередное дальнее странствие в знаменитое место паломничества или просто случайным образом, полагаясь на гостеприимство деревень, через которых он проходил, и на свой дар проповедника и рассказчика». Мария и Дмитрий начинали упрашивать отца взять их с собой – больше всего им хотелось избавиться от злобных наставлений местного священника, отца Петра Остроумова, о котором Распутин был очень плохого мнения20.
У святых странников редко имелись дом, жена и дети, к которым они могли вернуться. Семья отличала Распутина от других. Он никогда не признавал стандартов и отказывался придерживаться норм. Он всегда шел собственным путем. Он сам определил для себя путь странника. Отказ от вериг явился примером нетривиального мышления. В 1907 году Распутин рассказал отцу Александру Юрьевскому, как он начал носить вериги: «Нет в них ничего хорошего: начинаешь думать только о себе, полагаешь себя уже святым. И я снял их и начал носить одну рубаху целый год, не переменяя ее. Это лучший способ смирить себя»21. Любознательный, умный и открытый, но в то же время независимый и даже обладавший бунтарским духом, Распутин брал все, что мог ему предложить русский религиозный мир, но оставлял себе лишь то, что его устраивало. Так он сформировал собственный вариант крестьянского православия.
Годы странствий стали университетом Распутина. Подобно страннику Луке из пьесы Максима Горького «На дне», он видел почти все, что творилось в огромной империи царей, и общался с самыми разными людьми: истомленными работой крестьянами и рабочими, ворами и убийцами, святыми старцами и деревенскими священниками (и праведными, и неправедными), продажными чиновниками, нищими, калеками, развращенными дворнями, кающимися монахинями, жестокими полицейскими и закаленными солдатами. Он обладал глубоким знанием русского социального устройства и еще более глубоким пониманием человеческой психологии. В странствиях Распутин развил в себе талант понимания людей. Он мог заглянуть в душу человеку при первой же встрече. Он сразу понимал, что у человека на душе, что он пережил в прошлом, что он за человек. И он умел разговаривать с людьми. Он свободно говорил о Священном Писании и о Боге – говорил так, как не мог говорить ни один священник, учившийся по книгам. Его речь была прямой, личной, абсолютно живой и земной, наполненной реалиями повседневной жизни и красотой окружающего мира.
«Отец часто брал нас на колени, моего брата Митю, мою сестру Варвару и меня, – писала Матрена. – Он рассказывал нам удивительные истории с поразительной нежностью и с тем отсутствующим взглядом, в котором отражались страны, где он побывал, и удивительные приключения, пережитые им по дороге». Он вспоминал чудеса Российского царства – тысячи золотых куполов, устремленных к небу, сверкающие сокровища татарских базаров, могучие реки, священную тишину сибирских лесов, дикую красоту степей. Иногда голос его опускался до шепота, когда он рассказывал детям о своих видениях. Матрена навсегда запомнила рассказ о прекрасной женщине «с чертами Пресвятой Богородицы», которая появлялась перед ним и говорила о Боге. Закончив рассказ, он инстинктивно сотворил крестное знамение над головами детей. Бог был смыслом его жизни. Распутин учил детей молиться. Он говорил, что это умеет не каждый. Нужно верить всем сердцем и изгнать из разума все мысли, думая только о Боге. Он заставлял детей поститься, готовясь к молитве. Он говорил, что пост необходим не для здоровья, как считали образованные русские, «но для спасения наших душ». Распутин всегда произносил молитву перед трапезой и каждый вечер служил небольшую службу. Во дворе у него был небольшой сарай с иконами – приют для паломников, проходивших через Покровское.
Но не следует думать, что в доме говорили и думали только о Боге и религии. Распутин любил посмеяться с детьми, поиграть с ними. Он катал их на телеге, учил Дмитрия управлять лошадьми. Распутин любил деревенские праздники с музыкой и танцами22.
Матрена, ее братья и сестры постепенно стали понимать, что в их отце есть нечто особенное. В их дом стали приходить гости – местные крестьяне и странники издалека. Они хотели раскрыть Григорию сердце, получить от него наставление и совет, Распутин и Прасковья принимали их в своем доме, давали им пищу и кров, и Григорий говорил с ними. Узнав, что многие хотят видеть ее отца и считают его старцем, Матрена преисполнилась гордости.
К началу ХХ века вокруг Распутина сложилась группа последователей, среди которых был его шурин Николай Распопов, двоюродный брат (сын старшего брата Ефима, Матвея) и местный крестьянин Илья Архипов. В этот круг входили и две женщины, Евдокия Печеркина, крестьянка из Тобольска, и сестра Дмитрия и племянница Евдокии, Екатерина Печеркина. Дуня и Катя приехали в дом Распутина примерно в 1906 году. Сначала они просто помогали Прасковье по хозяйству, но вскоре стали считаться членами семьи и оставались с Распутиными до убийства Григория. Последователи Распутина собирались в его доме по воскресеньям и религиозным праздникам, а также в любое свободное время. Они пели религиозные гимны и читали Библию, а Распутин толковал им прочитанное. Под конюшнями в доме отца Распутин вырыл небольшую пещерку и устроил там своеобразную часовню для таких встреч. Собрания эти были окутаны атмосферой тайны. Крестьяне относились к ним с подозрением. Пошли слухи. Некоторые говорили, что Печеркины ритуально моют Распутина в бане. Другие утверждали, что слышали странные песни из дома Распутиных – не традиционные гимны, исполняемые по воскресеньям в деревенской церкви. Ходили слухи, что в кружке Распутина исполняются некие таинственные ритуалы23.
Матрена вспоминала, что после каждого возвращения отца домой его популярность росла, но вместе с ней росли и подозрительность и недоверие со стороны односельчан. Говорили, что Распутин странствует с молодыми женщинами – и, соответственно, «живет» с ними. Отец Остроумов относился к нему с особой враждебностью. Он считал себя истинным религиозным главой Покровского и не терпел рядом с собой крестьянина-выскочку, к которому за наставлением и чудесным исцелением тянулся непрерывный поток паломников. Остроумов был так взбешен, что попытался разбить кружок Распутина. Он уговорил Илью Арапова покинуть дом Распутина24. Но Илья оказался не единственным. Остроумов вел заведомо проигранную битву. Слухи об удивительном старце из Покровского начали распространяться по всей Сибири.
4
Представителей одного из старообрядческих беспоповских согласий также называют бегунами, и А.Т. Васильев писал как раз о старообрядцах, в то время как автор явно имеет в виду странников-паломников. (Прим. ред.)