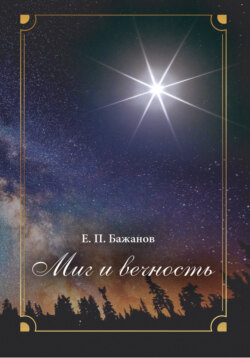Читать книгу Миг и вечность. История одной жизни и наблюдения за жизнью всего человечества. Том 18. Часть 24. Родные - Евгений Бажанов, Е. П. Бажанов - Страница 29
Часть 24
Родные
Глава 1
И снова крупицы прошлого
26 сентября 1951 года, Ленинград
Оглавление«Моя милая, дорогая Анка!
Я никогда, кажется, в жизни не скучал и не жаждал встречи с тобой как сейчас. Этот месяц кажется мне бесконечным. Такое впечатление, будто остановилось время или я действую вне его. Так хочется к вам, в дорогую для моего сердца среду, что передать это нет никаких средств. Можно ли передать тебе на этом клочке бумаги терзаемую меня жажду – жажду видеть, обнимать и целовать тебя, милое, дорогое и близкое мне существо. Скоро, а вместе с тем еще как долго до нашей радостной и желанной встречи. Время непостижимо как безжалостный и беспристрастный фактор нашего бытия. Оно с неподражаемым олимпийским спокойствием тянется именно тогда, когда хотелось бы ускорить его течение и воспринимать час как секунду, а при других противоположных обстоятельствах – наоборот.
За этот месяц мучительного одиночества очень много передумано. Весь путь от дорогого мне Новочеркасского камня до нашего неестественного и несоответствующего содержанию наших чувств (или, по крайней мере, моих) расставания при моем отъезде. Может, следовало бы еще раз воскресить в своей памяти всю опьяняющую прелесть всех этих дней, чтобы еще раз прийти к неоспоримому факту, какой дорогой и любимой для меня являешься ты теперь!!!
Моя дорогая Анка! Наконец я получил от тебя столь долгожданное письмо. Большое спасибо тебе за внимание и заботу обо мне. Меня очень огорчает неопределенность с твоей работой и удивляет отношение к этому И.Т. Учитывая сложившуюся ситуацию и подлость Т.Г. (свойственную ему вообще), я бы хотел, чтобы до моего приезда ты на работу не шла. Прошу тебя, любой ценой заставь себя не волноваться и не переживать – работу ты будешь иметь и без этого.
Ну, Коша, на этом заканчиваю. Сейчас тороплюсь на занятия в Политехнический институт. Добираться туда нужно троллейбусом, автобусом и дальше трамваем 1,5–2 часа. Сегодня мы там будем целый день. Читают нам лекции знаменитые проф. Горев и проф. Залесский. Во второй половине дня будем заниматься в высоковольтной лаборатории АПН. Вчера я проболел, провалялся в кровати, а сегодня чувствую себя хорошо и вот тороплюсь на занятия.
Ну, Коша, желаю тебе самого большого счастья, здоровья и нашей скорой встречи. Смотри хорошо за детьми, ведь теперь осень. Целуй за меня Женю и Викочку и пожелай им здоровья. Целую тебя, моя дорогая и любимая Анка. До скорой и радостной встречи. Твой Петр»
* * *
В 1951 году после гриппа у меня развилось осложнение – я стал волочить ногу при ходьбе. Врачи заподозрили полиомиелит. Маме удалось меня выходить. Она чудом раздобыла антибиотик (тогда они являлись огромной редкостью). Благодаря инъекциям антибиотика и массажу я встал на ноги.
В 1952 году папу перевели из Львова в Сочи на должность главного инженера «Сочиэнерго» (назначен приказом от 10 июля 1952 года). Это означало серьезное повышение. Сочи, любимый город диктатора Сталина, имел особый закрытый статус. Попасть туда было непросто, а занять ключевой пост в Сочинской энергосистеме мог только человек, пользовавшийся абсолютным доверием властей. Прежде чем дать папиной кандидатуре зеленый свет, органы около года проверяли отца, более 40 чиновников высокого ранга завизировали рекомендацию на перевод его в «Сочиэнерго».
В августе, поздним вечером, наша семья разместилась в поезде Львов – Харьков. Папу провожали сослуживцы, говорили теплые слова. Отец растрогался и прослезился. Мне еще не стукнуло шести лет, но я хорошо это помню. Помню и то, как поезд вошел в туннель под высокой горой, увенчанной старинным замком. Ощущаю запах угольной гари, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия по железной дороге.
В Харькове была пересадка. Папа несколько часов стоял в очереди в кассу, чтобы закомпостировать (зарегистрировать) наши билеты на Сочи. А мы томились на скамейке на перроне, уминали булки и болтали.
В Сочи нас встретили и разместили в трехэтажном доме энергетиков в Крестьянском переулке (ныне это привокзальная часть улицы Войкова). Квартиру дали неплохую, но с минимумом мебели. В первый день запомнились духота, пение цикад, сочные фрукты и овощи. Через какое-то время наша семья переехала в новый дом энергетиков по адресу ул. Большая Приреченская, дом 58, кв. 18. Позднее улицу переименовали в улицу Роз.
В 1955 году папа был направлен на учебу в Москву в Энергетическую академию, но обучение прервал. Началось с того, что у него из-за столовской пищи развилось хроническое несварение желудка. Однажды в ресторане («Национале» или «Метрополе») папа пожаловался официанту на проблему. Тот принес черную икру, водку, еще что-то, предложил скушать и выпить – тогда, мол, проблемы с желудком пройдут. И действительно – несварение прекратилось. Но отец, ссылаясь на проблемы со здоровьем, решил все-таки уйти из академии. Она находилась на грани закрытия, и папа опасался, что останется без прежней должности в Сочи (главный инженер «Сочиэнерго»).
Сестра сначала училась в женской школе № 1, а затем перешла в близлежащую школу № 4 на ул. Набережной (уже совместного обучения мальчиков и девочек). Школу она закончила с серебряной медалью в 1957 году. У нее в аттестате была только одна четверка по русскому языку/литературе, остальные – пятерки. Причем четверка получилась из-за того, что в выпускном сочинении Вика выделила жирным шрифтом запятые. Комиссия, утверждавшая медалистов края в Краснодаре, усмотрела в этом «неуверенность» знаний девочки и вместо заслуженной пятерки поставила ей четверку.
Только одна выпускница Викиного класса удостоилась золотой медали. А у нее не все было в порядке с физикой, химией и математикой, преподаватели по этим предметам не горели желанием выставить «отлично» кандидатке на медаль, настояла директор школы. Сама девочка говорила Вике: «Мне золотую медаль не дадут, дадут тебе – у тебя папа начальник». На самом деле дали именно этой девочке. При этом один из одноклассников еще умудрился поставить под сомнение отличную успеваемость Вики, заявляя, что у моей сестры тройка по физкультуре (которую сам же выдумал). А его мама на родительском собрании громогласно пожаловалась, что Вика не помогает отстающим товарищам по учёбе. Такие вот страсти!
Перед выпускными экзаменами я решил приободрить сестру открыткой: «Дорогая Викочка! Поздравляю тебя с последним звонком, желаю сдать экзамены на 5 и поступить в институт».
Как медалистка, Вика без экзаменов, пройдя лишь собеседование, поступила в Политехнический институт в г. Новочеркасске, который до войны закончили ее родители. В институте сестра тоже училась прекрасно и с отличием его закончила. Дипломный проект сестры был посвящен проектированию нового варианта Новочеркасской ГРЭС мощностью 1800 тыс. кВт. Оценка – отлично, в отзыве отмечено, что Виктория «проявила трудолюбие, аккуратность и отличные знания в области своей специальности, техническую зрелость».
А я учился с 1953 года в начальной школе № 7 на улице Менгрельской (ныне Советская), затем, как и сестра, в школе № 4. В раннем детстве с приятелями, Жорой и Аликом, увлекался театральными представлениями. Среди бумаг нашел выполненную мною красочную афишу со следующим текстом (орфография сохранена):
«Приехали масковские артисты, играют спектакль «Жадный Баринъ». Жора – художник, Женя – дрыжысер, Алик – билитер. Зделали в 1954 году 1 января».
Первой моей учительницей была Баранова Мария Афанасьевна, которая научила меня грамоте, арифметике и другим базовым дисциплинам. Позднее я заразился спортом – футболом, легкой атлетикой, баскетболом, штангой, боксом. Из школьных предметов предпочитал гуманитарные – историю, географию, английский язык.
Родители уделяли нашей с сестрой учебе самое пристальное внимание. Мама многие годы являлась председателем родительского комитета нашей школы, регулярно получала грамоты за активную помощь педагогам в учебно-воспитательной и внешкольной работе.
В последующей, взрослой жизни я оказался накрепко связанным с Китаем, получил специальность китаеведа. Среди отечественных китаеведов есть немало потомственных, у которых отцы, а то и деды, специализировались на изучении Поднебесной. Я к таковым никак не принадлежу. С Востоком, дипломатией, историей никто в нашей семье связан не был.
Правда, в качестве руководителя города, папа регулярно принимал высокие зарубежные делегации, и, возможно, родительские рассказы, фотоснимки, газетные материалы, имевшие отношение к визитам иностранцев, как-то воздействовали на мое подсознание. Но мечтал я стать археологом, меня влекло прошлое стран Черноморского бассейна.
Китайская тематика всплывала в мои детские годы редко. Так, мама находила в моем лице какие-то восточные черточки и с любовью называла меня «китаезой». Иногда на глаза попадались китайские
товары – термосы, полотенца, подушки, детские игрушки, веера, тапочки, кеды, посуда. Все эти изделия выглядели красочно и изящно, отличались хорошим качеством. Измученная товарным голодом публика моментально их раскупала. Однажды мне в руки попал сборник китайских сказок, поразивших необычностью: в них действовали драконы, журавли, обезьяны, тигры, говорилось об иероглифических знаках, каллиграфии, волшебных перевоплощениях героев.
Один знакомый сообщил мне, что учит в Доме пионеров г. Сочи китайский язык и переписывается с китайским сверстником. Показал, как пишутся иероглифы. Я был ошеломлен их замысловатостью, необычностью, привлекательностью. И очень зауважал юного китаиста за овладение такими премудростями. С интересом прочел письмо, полученное от китайского школьника. Запомнился вычурный, сверхвежливый язык письма, завершавшегося поговоркой: «Жду ответа, как соловей лета». Это показалось смешным.
А моя жена Наташа нашла в своем архиве два письма, полученных из КНР в далеком 1960 году, от детей из поселка Суйлин провинции Хэйлунцзян. В конце обоих посланий – та же поговорка о соловье, ждущем лета. Содержались в них лозунги о вечной дружбе между русскими и китайскими братьями, об успешном строительстве социализма в КНР и «великом коммунистическом строительстве в СССР», рассказывалось об «усиленном, систематическом и очень полезном» изучении марксизма-ленинизма и произведений товарища Мао Цзэдуна. Из второго письма выяснилось, что Наташа, в свою очередь, направила в Китай письмо и в придачу открытки, значки.
Я в переписку с китайцами не вступал, хотя сочинский приятель из Дома пионеров предлагал. Но из прессы и от учителей я, конечно, знал, что китайцы – наши братья по строительству социализма, и что руководит ими вождь по имени Мао Цзэдун. Слышал и о том, что Соединенные Штаты проводят враждебную Китайской Народной Республике политику, угрожают ей. Сочувствовал китайцам, но, правда, как и все, посмеивался над бесчисленными предупреждениями, раздававшимися из Пекина в адрес Вашингтона.
Нарушит американский военный самолет воздушное китайское пространство – на следующий же день в газетах сообщение: «Правительство КНР сделало властям США 356-е серьезное предупреждение». Пару дней спустя объявляется об очередном «357-м серьезном предупреждении» и т. д., до бесконечности. «Серьезное китайское предупреждение» стало синонимом пустой угрозы и шуточным выражением. Просишь у одноклассницы яблоко, а если она не хочет делиться, тогда говоришь: «Делаю тебе 25-е серьезное китайское предупреждение».
Узнали мы, сочинские школьники, и о столь, казалось бы, далекой от нашей жизни тайваньской проблеме. На экраны вышел фильм «ЧП», основанный на подлинной истории захвата советского танкера «Туапсе» гоминьдановскими властями на Тайване. Фильм был очень патриотичный, напряженный, интересный. С великолепными артистами, прежде всего с В. Тихоновым, который, пожалуй, впервые и прославился своей ролью умного и бесстрашного моряка с танкера «Туапсе». Я смотрел «ЧП» раз десять, проникаясь ненавистью к гоминьдановским извергам, любовью к нашим героям-морякам, солидарностью с народом КНР и испытывая впервые в жизни влечение к экзотическому Востоку (пальмы, пляжи, красочные веера, загадочная гортанная речь, необычные манеры и т. п.).
Вскоре, однако, позитивно-экзотический образ китайского мира сменился негативно-комичным. Руководители СССР и КНР, поссорившись, затеяли публичную полемику между собой. Нас, школьников старших классов, оставляли после уроков и зачитывали открытые письма ЦК КПСС и КПК друг другу. Письма советской стороны звучали логично и убедительно, китайские же – абсурдно и смешно. Китай превращался в детском сознании в «край непуганых идиотов».
Но китайская тематика по-прежнему не очень занимала мое воображение. Постепенно я увлекся географией, историей, изучением внешнего мира в целом. В пятом-шестом классах иностранный (английский) язык у меня не шел, и учительница Римма Алексеевна Филатова без энтузиазма ставила мне четверки. Но затем я всерьез взялся за изучение английского, проштудировал учебники для вузов и уже в седьмом классе далеко опережал одноклассников в знании этого языка. Вместе с родителями стал подумывать о поступлении в Институт иностранных языков в Москве.
Но вскоре мы узнали, что ученик нашей школы, который учился старше меня на четыре класса, прошел по конкурсу в МИМО (Московский институт международных отношений), ныне МГИМО (Московский государственный институт международных отношений). И я при поддержке родителей загорелся идеей поступления в этот суперпрестижный институт. Начал вести досье по странам мира, мечтал о путешествиях.
Учился я хорошо, но тем не менее с двумя подружками решил в процессе подготовки к выпускным экзаменам подстраховаться. Договорились с одной учительницей о возможности выбора на всех экзаменах определенных билетов. Но и этого показалось мало. По ночам через окно забирались в кабинет завуча, выуживали из стола билеты к очередному экзамену, переписывали их содержание и возвращали билеты на место. Наверняка, я обошелся бы и без этих маневров. Но как бы там ни было, окончил школу с серебряной медалью, с помощью папы получил необходимую характеристику-рекомендацию от Краснодарского крайкома комсомола. Вот она.
25 июня 1964 года
ХАРАКТЕРИСТИКА – РЕКОМЕНДАЦИЯ
на тов. Бажанова Евгения Петровича, 1946 года рождения, русского, члена ВЛКСМ с октября 1962 года, комсомольский билет № 34664589, образование – среднее.
За время обучения в школе тов. Бажанов проявил себя хорошо и отлично успевающим и отлично дисциплинированным учеником, активным комсомольцем.
Тов. Бажанов имеет большие способности к гуманитарным наукам – истории, географии, увлекается английским языком и в совершенстве им владеет. Пользуется заслуженным авторитетом у учителей и учащихся школы. В мае 1963 года тов. Бажанов был избран секретарем комсомольской организации школы № 4. Будучи секретарем комсомольской организации, тов. Бажанов сумел сплотить довольно разрозненный класс, показав хорошие организаторские способности. Обучаясь в школе, тов. Бажанов являлся редактором школьной сатирической газеты «Оса», по его инициативе создан дискуссионный клуб, который успешно работает.
Краснодарский краевой промышленный комитет ВЛКСМ рекомендует тов. Бажанова Евгения Петровича для поступления в Институт международных отношений.
Характеристика утверждена на заседании бюро Краевого комитета ВЛКСМ.
СЕКРЕТАРЬ КРАЙКОМА ВЛКСМ/Л. БАДОВСКАЯ/
Составлена эта рекомендация на основе следующей характеристики, полученной в школе.
ХАРАКТЕРИСТИКА
выпускника одиннадцатилетней школы № 4 г. Сочи
БАЖАНОВА Евгения, рождения 1946 года
Бажанов Евгений в течение одиннадцати лет учился отлично и хорошо. Особые склонности проявлял к гуманитарным предметам, увлекался английским языком и отлично овладел им.
Бажанов Евгений политически развит, начитан, активно участвовал в общественной жизни.
Евгений выступал с лекциями в комсомольско-молодежном лектории, на школьных вечерах, проводил диспуты на различные темы, выпускал сатирическую радиогазету «Оса». Как секретарь комсомольской организации школы он сумел создать вокруг себя актив, с помощью которого проводил всю комсомольскую работу в школе.
Евгений-отличник производственного обучения, присвоен I разряд столяра-сборщика.
Увлекался спортом, активно участвовал в соревнованиях по легкой атлетике, имеет I разряд по баскетболу.
Педагогический совет школы рекомендует Бажанова Евгения в высшее учебное заведение как одаренного, вдумчивого, старательного ученика.
Директор школы № 4 Классный руководитель 25/VI-64 г.
г. Сочи
Сразу после выпускного вечера, 25 июня 1964 года вылетел вместе с мамой в Москву. Документы в МИМО подал на факультет международных экономических отношений с изучением арабского или японского языка. Кто-то говорил, что экономика и арабский язык – очень перспективные направления для будущей карьеры. Япония же в то время пользовалась в СССР большим уважением благодаря своим экономическим достижениям, особенно в тех отраслях, которые выпускали столь привлекательные для всех товары – транзисторные приемники, магнитофоны, телевизоры. Зачаровывала и японская культура: таинственная чайная церемония, красочные кимоно, жизнь в «карточных» домиках на татами, верные долгу самураи, саке в изящных глиняных сосудах, цветение сакуры, щемящие печальные песни. Мой папа в качестве мэра Сочи неоднократно принимал японских гостей, и дома у нас было немало очаровательных японских сувениров: от лакового блюда до объемных цветных открыток. В общем, Япония привлекала меня даже больше арабского мира.
Документы у меня приняли, наступила пора вступительных экзаменов, которые в МИМО образцово-справедливыми не являлись.
Как выяснилось позже, некоторые из наших однокурсников вообще не сдавали экзамены, но об их поступлении договорились папы и мамы. Другие, ничего не ответив, получали пятерки. Третьи были зачислены, не набрав проходного балла.
Мой «блат» при поступлении в МИМО сводился к знакомому папы по фамилии Рубович. Это был молодой человек, женатый на дочери Председателя Госстроя РСФСР Приезжева. Он ранее отдыхал в Сочи, познакомился с папой и обещал оказать поддержку. На самом деле Рубович не имел соответствующих связей и помогал лишь в мелочах. Представил нас управляющему делами Госстроя, очень колоритному человеку по фамилии Цивин. Цивин возил нас с мамой по комиссионкам в поисках зимней одежды для меня (в моей предыдущей жизни в субтропическом Сочи таковая не требовалась). А Рубович сопровождал нас в МИМО, стоял на улице у двери с мамой (внутрь пускали только абитуриентов) и периодически повторял: «Здесь обучают лучшую молодежь, будущих лидеров СССР!» Однажды, заприметив, что Рубович проходит в метро по какой-то карточке, я полюбопытствовал, что это за пропуск. Рубович, напустив на себя важный вид, процедил:
– Это единый.
– А мне можно? – спросил я.
– Что ты! Это же только для членов Верховного Совета СССР.
Тем же вечером кто-то из москвичей объяснил мне, что единый – всего-навсего проездной билет на все виды транспорта. Имеется в свободной продаже. Тогда мы с мамой окончательно поняли, что на блат Рубовича, хорошего в принципе человека, надеяться не стоит. И мы вообще растерялись. Вокруг фланировали бывалые, уверенные в себе абитуриенты, которые шутили: «МИМО – мимо заграницы!» Один молодой человек, в будущем сокурсник, узнав, что я из Сочи, снисходительно похлопал меня по плечу и посоветовал: «Парень, у провинциалов здесь нет никаких шансов. Собирай манатки и айда домой, на пляж!»
Экзамены я успешно сдал, но в списках зачисленных в институт себя не нашел. В приемной комиссии объяснили, что я забракован медиками. Главврач института Л.К. Титкова подтвердила, что я не годен из-за слабого зрения, а также из-за того, что у меня неправильно оформлена медицинская справка. Насчет слабого зрения главврач лукавила, о чем я ей и заявил. Титкова принялась растолковывать:
– Видишь ли, после окончания МИМО тебя могут направить в страну с трудным климатом, в Африку, Азию. С твоим зрением туда нельзя.
– Как нельзя? – удивился я, – ведь у меня есть военный билет, а с ним государство имеет право направить меня в любую точку Земли, даже на Луну.
Титкова аргументацию отвергла и уступила только после того, как со мной, прорвав кордон охраны, в ее кабинет ворвался знакомый папы, член редколлегии журнала «Крокодил». Он пригрозил опубликовать фельетон в этом сатирическом издании, которого тогда побаивались даже самые большие начальники. А написать было о чем: парня без правильно оформленной медицинской справки и с якобы слабым зрением допускают к сдаче экзаменов, он их успешно выдерживает, после чего ему объявляют – не годен!
В конце концов после всех мытарств меня в институт зачислили. Возможно, учли должность папы – с мэром Сочи дружить выгодно.
А вот мою будущую жену Наташу, которая окончила московскую школу с золотой медалью и обладала блестящими знаниями по всем дисциплинам, взяли в институт только «кандидатом в студенты». Это означало, что ее могли отчислить после первой же сессии за недостаточно высокие оценки.
О поступлении Наташи в МГИМО, ее и моей учебе в этом институте подробно рассказано в томе 1 многотомника «Миг и вечность» (с. 65-212). Не буду здесь повторяться. Отмечу лишь следующее: после зачисления наш I курс факультета Международных экономических отношений собрали, чтобы объявить, кому какой язык учить. Словно предчувствуя свою судьбу, я сидел в зале и вслух, и про себя повторял: «Хоть бы не китайский, хоть бы не китайский!» К тому времени (1964 год) советско-китайские отношения и, главное, восприятие Китая в нашей стране окончательно испортились. КНР – бедная, отсталая страна со странными порядками и дурацкой пропагандой – почти никого не привлекала.
И надо же было такому случиться, что именно меня первым среди китаистов назвали. Зал немедленно разразился смехом, одновременно сочувствующим, издевательским и злорадным. Такой же реакции удостоились названные затем и другие новоиспеченные китаисты.
После китаистов объявили кореистов, в том числе Наташу. Зал эмоций не высказал, но зато приговоренные изучать этот малоизвестный и непопулярный язык сильно расстроились. Наташа в школе увлекалась индийской культурой и мечтала овладеть хинди или урду. И вдруг корейский! Все, что связывало ее с Кореей, – это подаренный в детстве пупс-кореец (он цел и поныне). И помнила еще эпизод из далекого детства, когда с бабушкой ехала в поезде по маршруту Москва – Баку. В одном из купе находились корейцы, и, поскольку на Корейском полуострове тогда шла кровопролитная война, все пассажиры их очень жалели.
Не только Наташа, но и остальные будущие корееведы стали таковыми поневоле. Причем один из них, Лев Макаревич, подал заявление на столь непопулярный китайский язык. Других заявлений на китайское отделение не было, тем не менее парню «влепили» корейский.
Мы с мамой с помощью Рубовича и ряда других знакомых нанесли визиты матерым синологам, работавшим в министерствах, научных учреждениях, органах печати. Все они обнадеживали: язык, мол, важный, перспективный, а в сочетании с изучением международных экономических отношений вообще сделает меня уникальным специалистом.
Учить китайский было непросто. Требовалась ежедневная многочасовая зубрежка. Но язык увлекал – уникальной письменностью, необычным произношением, богатством, замысловатостью. Вскоре мы, китаисты, уже посматривали на других студентов, особенно «западников», свысока: мы, мол, приобщаемся к таинствам и знаниям, которые вам и не снились. Подумаешь, какой-то там английский язык, его каждый дурак знает! «Западники», в свою очередь, относились к нам снисходительно, как к чудакам, неудачникам, забивающим свои головы абракадаброй и обреченным прозябать в обезумевшей от идей Мао Цзэдуна отсталой стране. Кореисты, как вспоминает Наташа, ничем не гордились, просто смиренно вкалывали. Корейский был не проще китайского.
В сентябре 1964 года, сразу после моего поступления в МГИМО, папа отдыхал в Крыму, в Мисхоре. Сохранились папины письма родным в Сочи. Вот они (с сокращениями).