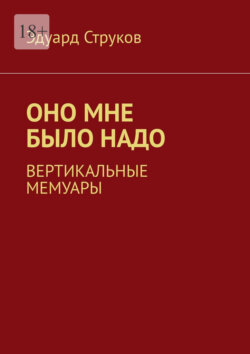Читать книгу Оно мне было надо. Вертикальные мемуары - Эдуард Струков - Страница 11
Витька-киномеханик
ОглавлениеЗаполошного киномеханика Витьку Быстрова
все в деревне за глаза звали Быстрёнышем.
Жену его, флегматичную статную русскую женщину,
на щеках которой играл странный бурый румянец,
работавшую библиотекаршей, а потом завмагом,
соответственно именовали Лидкой-Быстрихой.
Ей это деревенское прозвище совсем не шло,
поскольку не ходила она, а будто павой выплывала,
но вот жуликоватому и мелкотравчатому мужу её,
которого в деревне недолюбливали за хитрость,
кличка Быстрёныш шла необычайно,
поскольку был Витька маленького роста,
шебутной, заводной и пронырливый,
вечно носился, как угорелый, на велосипеде туда и сюда
якобы по своим важным киномеханическим делам.
Деревенские прозвища – самая благодатная тема
для монографий досужих исследователей.
Прабабку Степанова Аксинью Дмитриевну Зорину
величали как положено – бабой Зоринихой,
он писал ей в детстве трогательные жалистные письма:
«Дорогая моя любимая бабушка Зоринишка…»
А вот родственников её, тоже Зориных,
сверстницу Степанова Надьку, дядю Мишу и тётю Нюру,
почему-то в деревне прозвали Христюхиными,
жила-де когда-то давно такая баба Христюха,
а почему так её саму прозвали и каким-таким боком
Зорины той Христюхе приходились, поди теперь разбери…
Прозвища закреплялись с детства, по случаю,
бедовых соседей и родственников Крыловых
вся деревня испокон веку дразнила Пистонами,
они на прозвище совсем не обижались,
носили его с гордостью, как будто медаль,
Бабушка их, тетя Нюра Крылова, в девках Мельникова,
была подругой степановской бабули, жульничала в карты,
всегда угощала Степанова конфетами и звала в гости,
но знал он её почему-то не иначе как бабу Волечиху.
Почему? Оказывается, первого мужа её звали Олегом.
Другую соседку, тётю Катю Орлову,
кряжистую сморщенную старушку,
обличьем и клыками во рту напоминавшую ведьму,
в деревне звали за глаза Катька Золотыриха.
Все боялись её – злобная Золотыриха обладала
громогласным и неимоверно зловещим голосом,
вела постоянное наблюдение за своими посевами.
Каждый раз, в тот самый момент,
когда бабкина корова Малышка, уставшая за день,
начинала по дороге домой забирать с тропинки влево,
роняя свои тёплые пахучие лепёшки
рядом с золотырихинской картошкой,
из соседского дома раздавался звериный рык:
«Ах же ты, памжа! Ах же ты, шешка такая!»
Ошалевшая рыжая корова вздрагивала всем телом,
в ужасе прижимала уши и прыжками неслась в хлев,
где ещё долго вздрагивала, кося пугливым глазом.
Дед Золотыриху с некоторых пор недолюбливал,
она платила ему взаимностью, к удовольствию зевак
частенько отпуская вслед пассажи типа:
«Опять Игнатьич напився, чорт! Ууу, змей чарвивый!»
Дед, пытавшийся добраться домой на автопилоте,
вжимал голову в плечи и ускорял было шаг,
но выпитое им зелье делало своё дело,
ноги были сами по себе, голова – сама по себе,
к тихому удовольствию зевак он спотыкался,
падал в траву, потом долго пытался подняться
под укоризненные вопли и проклятия Золотырихи,
но тут выбегала бабушка, призывала на помощь,
Степановы общими усилиями затаскивали
горько завывавшего деда на его излюбленный диван.
Это была обычная русская деревня семидесятых,
с её пыльными улицами, степенными людьми,
бесконечными будничными заботами,
закатами и рассветами над рыжим сосновым бором,
под журчание вечно холодной речки Велесы —
край, где затерялось неприметное детство Степанова.
Но речь вот о чём – именно Витьку Быстрёныша,
маленького, кривоногого сельского киномеханика
с ясными есенинскими глазёнками,
он считал тогда полубогом, искренне завидуя ему,
мечтал поскорее вырасти и стать киномехаником.
Раз в неделю с попуткой Быстрёныш уезжал в район,
чтобы явиться к вечеру посланцем городского мира.
Шофёр тормозил, Витька скидывал на песок
пару железных банок, где лежали бобины с плёнками,
лихо спрыгивал сам через борт попутки,
красуясь и прохаживаясь этаким фертом
в коротких лакированных резиновых сапожках.
Слегка подвыпивший, раздухарённый, злой,
ещё не городской, но уже как бы почти нездешний,
киномеханик Витька, злобно и витиевато матерясь,
вешал на стене магазина простенькую блеклую афишку
с названием добытого и привезённого им фильма,
что-нибудь наподобие «Дело было в Пенькове»,
и зрители с замиранием сердца ожидали сеанса.
Развлечений в те годы на селе особенно не имелось,
поэтому показ кинофильма был всегда событием.
Кто с кем пойдёт в кино? Вот он, вопрос вопросов!
Целый день шла переписка с местными девчонками
через тайники в кирпичах на задней стене магазина,
но селянки были жеманны, насмешливы и глуповаты,
зато на лето приезжали бледные снулые москвичи
и зажигательные москвички в открытых сарафанчиках.
В избах, где жили городские, играла незнакомая музыка,
голоса страстно вздыхали о чём-то на импортных языках.
Мальчишки фланировали мимо окон, мечтая пригласить
этих непонятных жителей другой планеты и не решаясь.
Жизнь для детей летом в деревне кипела страстями,
через дядьку подростки покупали тайком вино «агдам»,
покуривали всякую дрянь вроде вьетнамской «птички».
Прошли годы, клуб давно закрыт, деревня вымерла,
и только постаревший, но шустрый Быстрёныш
оживляет унылый сельский пейзаж.
Вечно раздражённый чем-то, крикливый,
Витька яростно вымогает по утрам «бутылочку»
у молчаливой и неприступной жены-продавщицы,
сбивая с панталыку незадачливого соседа Мишку.
Дядюшка Степанова, сельский философ и алкоголик,
живёт отшельником в бабушкиной бане (их две у них),
куда Витька упорно шастает почти ежедневно
с целью «замануть» дядьку в какую-нибудь авантюру,
в деревне калыма навалом, колоть-пилить дрова,
а ещё москвичи приезжие рыбки любят откушать,
при том что рыболовы из них, как правило, никакущие,
а дядька мой наипервейший рыбак в деревне,
Вверху – он, Витька-киномеханик, справа – закрытый клуб, слева – деревенская улица, внизу – мой дядя Миша, рыбак и философ.
наловит, продаст – городские расплачиваются щедро.
Грибочки, ягодки тоже всегда пристроить можно.
Обработает, втянет вот так хитрован-Витька
моего простодырного дядьку в очередную «халтурку»,
сам через час смоется под благовидным предлогом,
а к расчёту вот он, нарисовался хрен сотрёшь,
дышит тяжко с устатку – натрудился человек! –
тянет потную ладошку за денежкой, за стаканом,
доверчиво смотрит «иисусиковыми глазёнками»,
умильно улыбается котиком – и вечно в наваре, гад.
А ежели кому водку купить в неурочный час надо,
то тащит Витька клиента скорее к себе домой,
подпрыгивая от нетерпения, то и дело забегая вперёд,
раскрывает перед гостем двери, суетится мелким бесом,
кричит: «Лидка! Да где ты там подевалась, зараза?!»
Всё это только ради того, чтоб, масляно улыбаясь,
выпросить у покупателя стакашочек «беленькой».
Царственная Быстриха, будучи продавцом магазина,
торгует водкой и самогоном на дому в любое время,
она невинно улыбается и в то же время густо краснеет,
подобно парочке Сашхен-Альхен Ильфа-Петрова,
но к покупателям «казёнки» относится уважительно,
поскольку заводскую водку пьют в этих краях ВИПы,
клиенты состоятельные, здоровье берегущие.
А вот мужа Лида ни во что не ставит, косится,
кривится, морщится, только что «брысь» не говорит.
Витька Быстрёныш – деталь местного пейзажа,
человек нахальный, неуёмный и любопытный,
он в день раз по пять обходит полупустую деревню,
всё вынюхивая, выглядывая, подслушивая…
…Он повесится прямо в собственном доме на матице,
как будто назло жене, споившей всю деревню —
Лида так и не даст мужу опохмелиться в то утро.
У Степанова к тому времени появятся к висельнику
свои счёты – Витька оказался явно причастен
к странной смерти того самого степановского дядьки,
по крайней мере, пили с вечера они вместе,
а утром дядьку нашли мёртвым в его любимой баньке.
Выходило так, что дядька, человек крепкого здоровья,
умер в страшных мучениях, было ему шестьдесят три,
по деревенским меркам жить бы ему ещё да жить,
а что там вышло на самом деле, отчего да почему,
следователи разбираться особенно не стали.
Странно было вот что – собутыльники дядькины,
сам Витька да московский пенсионер Закудыкин,
человек нелюдимый, неприятный и очень злой,
ни на похороны, ни на поминки так и не пришли.
В деревне шушукались, мол, дело явно нечисто.
Степанов, как человек грозный во хмелю,
выхватил Быстрёныша в малолюдном месте,
прижал за горло и пригрозил тому расправой,
на что Витька повёл себя очень странно —
заплакал и убежал, не проронив при этом ни слова.
Через пару месяцев после Витькиных похорон
повесился у себя в доме и москвич Закудыкин,
бывший, по слухам, из служилых государевых людей.
Ему-то чего не жилось, с такой-то пенсией – пей, не хочу!
А добротный дом Быстровых давно уже пуст,
хозяйка уехала в город к дочери,
дом решила продать и сбавляла цену уже не раз,
только найти покупателя всё равно никак не может,
хоть и стоит дом посреди деревни,
и колодец хороший рядом, и место сухое —
картошка там растёт прямо на зависть,
но как прослышат покупатели про историю с Витькой,
так больше в дом быстровский ни ногой – страшно им.
Добавить к сказанному остаётся совсем немного.
Начались у Степанова ни с того, ни с сего
с некоторых пор странные серые сны,
слепленные из обрывков старых советских фильмов,
летят они кусками, без конца и без начала,
стрекочет киноплёнка, белеет замызганный экран,
и злорадно хихикает кто-то, нашёптывая Степанову
до боли знакомым сладеньким ядовитым голоском:
«Ти не нальёшь, сынок, дядьке граммульку беленькой, а?»
Кому это быть, как не Быстрёнышу,
который, наверное, хорошо пристроился на том свете,
видать, доверили ему крутить ночами кино
где-нибудь там, на небесной периферии,
так сказать, для соответствующей категории граждан.
Наверняка точно так же бегает он с утра по облакам,
выклянчивая у Боженьки «на бутылочку»,
на что Великий Терпеливец наш
с тоскою возводит скорбные очи к небесам,
а может статься, даже навешивает иногда
нечестивцу в малолюдном месте хорошего «пенделя».
Хорошо всё-таки иметь диплом киномеханика!
Вот закончит Степанов свои земные дела,
заменит наконец-то этого очумевшего паразита
станет показывать в ночь с четверга на пятницу
людям нормальные пророческие сны,
ясные, конкретные и понятные,
без двойных толкований и сцен тяжёлого арт-хауса,
чтобы люди на земле, просыпаясь, точно знали:
потоп – к пожару, пожар – к потопу,
а Лёня Голубков – сами понимаете к чему…