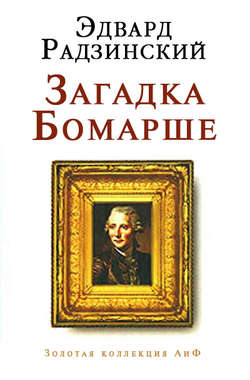Читать книгу Загадка Бомарше - Эдвард Радзинский - Страница 2
Франсуа Рене Шатобриан пишет книгу
Оглавление4 октября 1814 года
Золотая осень в Волчьей долине.
Все было, как всегда. В день его патрона, Святого Франциска, в большой столовой собрались самые близкие друзья Шатобриана. Рене заставил Селесту пригласить мадемуазель Н. Устроили маленький маскарад – все сидевшие за столом получали прозвища. И, как всегда, он назвался Котом, жена Селеста – Кошкой («Ша» тобрианы[1]). А когда решали, как назвать мадемуазель, Селеста, с усмешкой глядя ему в глаза, предложила назвать ее Мышкой.
Селеста не всегда умела быть женой Поэта. Иногда она становилась просто женой, позволяющей себе забыть свое бремя.
Он шел с мадемуазель по аллее. Все они, эти его влюбленности без числа, обязательно должны были походить на «Божественную» – на Жюльетту. Гений ищет повторений Прекрасного. Вечная Жюльетта, никогда не уходившая из его жизни…
Он засмеялся. Мадемуазель, конечно, похожа на Жюльетту: вздернутый (подмигивающий солнцу) носик; девочка-женщина… Как и Жюльетта, мадемуазель носила римскую прическу «а-ля Тит»: волосы взбиты в локоны и перехвачены лентой. И тот же выходивший из моды пеплос античных богинь – платье с поясом выше талии и глубоким вырезом, открывавшим нежные, слабые плечи и маленькие налитые груди. Как и Жюльетта, мадемуазель грациозно и ловко при ходьбе придерживала платье рукой, и ее ножка обнажалась по щиколотку.
Ножка мадемуазель, ножка Жюльетты… (Описать. Целомудренно.)
В новой его книге будет целая глава о Жюльетте. Как рассказать их историю? Как не стать смешным, попав в длинный список знаменитостей Европы, пребывавших у ног мадам Рекамье? (Жюльетты! Для него – Жюльетты!)
Люсьен Бонапарт, и сам Наполеон, и герцог Веллингтон, и принц Август Прусский – вот список завоевателей, плененных маленькой Жюльеттой. Как охранить ее честь, но и написать правду о Венере, отринувшей и Марса и Юпитера – ради Поэта?
Тот день… Она – в белой греческой тунике. Луч солнца сквозь деревья на обнаженных руках. Солнце и мрамор. Ослепительно белая туника на нежно-голубой софе… И все! И более он ничего не напишет… Печаль (прошлое, прошлое!) и красота сцены.
Он увлекся и успел прослезиться (легко возбуждался).
Он вспомнил об идущей рядом мадемуазель, ибо вдруг почувствовал… Да, ему показалось, что в наступавшем сумраке за ними кто-то идет.
Он резко обернулся. Никого не было.
Приятное возвращение в реальность… тепло руки очаровательной мадемуазель.
Как забавно было бы соединить сцены… ту сцену с сегодняшней… с мадемуазель… Но это можно только в дневнике.
Впрочем, даже в дневнике ему нельзя… Он – Шатобриан.
Мадемуазель шла молча, опираясь на его руку. Она не проронила ни слова, она знала: Шатобриан думает!
Они подходили к башне. Он рассказывал ей то, что прежде рассказывал Жюльетте, а теперь обычно рассказывает всем им. О борьбе Поэта с владыкой мира. Как Поэт заклеймил императора именем Нерона, как был за это выслан из Парижа и как Господь не оставил его – он сумел купить Волчью долину. Так звали кусок земли, где стоял теперь маленький дом Поэта. А в те годы край был дик и пуст. Волки были хозяевами выжженного солнцем пустынного пространства, так напоминавшего пустыню в Аризоне, где в молодости (увы, в далекой молодости!) он сражался с англичанами.
И вот теперь император пал…
И опять, забыв о мадемуазель, он вернулся к своему сочинению.
Король въехал в Париж. С ужасом Поэт наблюдал, как престарелый монарх, кряхтя, вылез из кареты. Подагрические, опухшие слоновьи ноги короля (описать!)…
Надвинув на глаза медвежьи шапки, наполеоновские гвардейцы старались не глядеть на жалкую старость потомка Людовика Святого.
Погруженный в свои мысли, он грозно сказал мадемуазель:
– И вот опять грозовое небо над смутной Францией!
(Кстати, не забыть описать в книге, как этим летом по приказу короля сбрасывали Вандомскую колонну Бонапарта. Ожидали, что придут тысячи – низвергать статую кумира, взявшего со страны величайший налог кровью: два миллиона французов лежат в снегах Московии, в пустынях Африки, в полях Европы. Но пришло всего несколько человек, и Поэт был среди них… Впрочем, про Поэта следует опустить. Можно быть несчастным, но нельзя – смешным.)
– И вот после того как он залил кровью всю Европу, толпа захотела прежнего ярма, – сказал он яростно.
Мадемуазель испуганно смотрела на возбужденного Поэта. В борьбе с Бонапартом он больно сжимал ее руку. Но она терпела. Она плохо разбиралась в политике и очень боялась показаться глупой.
– Что-то будет, – уже печально и тихо продолжал размышлять он вслух. – Наполеон рядом, совсем рядом.
(Здесь следует вставить в книгу письмо Фуше, которое ему показали вчера. Письмо к «Агамемнону всех народов» – так льстивый негодяй именует Александра Первого. Нет, наш великий предатель неспроста доносит русскому царю: «Почитаю долгом сообщить, что спокойствие народов не может быть гарантировано, пока Бонапарт находится на острове Эльба». Он уже знает что-то! И он прав! Тысячу раз прав!)
– Но глупцы в Париже, – вновь грозно обратился он к мадемуазель, – пребывают в спокойствии. Они уверены, что с четырьмя сотнями солдат, оставленных Бонапарту, невозможно отвоевать империю. Но они забыли: этот человек не знает слова «невозможно». А рядом с Эльбой – Италия, воздух его прежней славы, пороховая гарь его побед (записать!)… К нему приехала белокурая графиня Валевская с его сыном. Но белую лебедь поселили на тайной вилле и потом быстро услали. Еще бы! Он наверняка ждет к себе императрицу с наследником. Ему нужен символ прежнего величия. Ибо клянусь, он уже задумал… И Фуше прав. Проклятье!
– Говорят, она его много моложе. Но он ее любит, – тихо сказала мадемуазель.
Он оценил призыв. И, оставив книгу, окончательно вернулся к ней. Погладил ее крохотную руку…
Мадемуазель восторженно смотрела – она была влюблена в него с детства. Как и они все, она росла окруженная рассказами о нем, выросла в сетях его славы. Так что пора вытащить невод…
И голос его стал нежным. Он вернулся к излюбленным рассказам: как собрал здесь, в доме Изгнанника-Поэта, все, что так любил, – свои путешествия. Ливанский кедр (посещение Палестины), пристроенный к дому греческий портик, который держали две мраморные кариатиды (воспоминание о Парфеноне) с одинаковыми лицами все той же Жюльетты… Двойная лестница внутри дома, повторявшая лестницу в родовом замке Шатобрианов, где прошло его детство, где на скалистом островке он хотел бы лежать после смерти…
Глаза мадемуазель (как у всех у них) наполнились слезами. Впрочем, и сам он был растроган.
Сумрак опустился на аллею. Они подходили к башне – их плечи касались. Пришло время рассказа о его деревьях.
Он указал на маленькие деревца вдоль дороги, жалкие в печальных сумерках:
– Они – мои дети. Я знаю каждое из них, уважаю их характер. И у всех есть имена. В жару я укрываю их, как мать, своей тенью. Когда я состарюсь, они станут большими, и уже они укроют меня своей тенью, они станут заботиться обо мне.
И опять наполнились слезами ее глаза.
И вновь это наваждение – он почувствовал, что кто-то за ними идет. Он резко обернулся: аллея была пуста.
Они пришли к башне – здесь он работал. В раскрытую дверь был виден его стол, глядевший в зелень.
Пора рассказать ей эту романтическую историю – историю его маленькой башни.
– Один из прежних владельцев Волчьей долины служил в национальной гвардии. И когда свора рыбных торговок, обезумевшая толпа черни, ворвалась в королевский дворец, когда во дворе Тюильри уже валялись трупы швейцарских гвардейцев и несчастный король покорно напялил фригийский колпак, так похожий на шутовской, сей Андре Аклок, кажется, именно так его звали… (он каждый раз рассказывал эту историю чуть-чуть иначе и давно забыл, что же было в скучной действительности, забыл и имя героя) – бесстрашно защищал королеву от разъяренной черни. И Антуанетта обещала: когда смута закончится, она приедет навестить преданного героя.
Андре построил эту башню, ожидая ее. Тщетно ожидая…
Они стояли у открытой двери башни. Позади стола уходила вверх винтовая лестница, звавшая на второй этаж. Там стояла историческая софа, где Поэт дремал, когда на него нападал «сон сочинительства». Стыдная сонливость всегда преследовала его в первые часы, когда он начинал сочинять.
На этой же софе Жюльетта… Но молчание! «Тени легли на землю, и в тишине далеко, где-то там, на верхней дороге, слышался звук телеги… и бутылка вина на столе блестела в лучах заходящего солнца. Земля расставалась с жарким днем – увы, с одним из последних жарких, уже осенних дней. Печаль прощания… Перистое облако, как летящий ангел…»
Он легонько тронул пальцами ее щеку. И мадемуазель шепотом сказала ему то, чего он так ждал:
– Пощадите меня.
Он чуть приблизил лицо, и мадемуазель, поднявшись на цыпочки, торопливо, неумело, по-детски поцеловала его. И пока длился поцелуй (о свежесть, о детский запах ее губ!), он привычно колебался, решаясь, что делать после. Все было как всегда: уже решившись подняться с ней на второй этаж, он, оторвавшись от ее слабых, покорных губ… решил все-таки не подниматься!
Он нежно прикоснулся к ее лицу (ветерок, тронувший лист, дуновение… и пробудившаяся Афродита… нега, томление пробуждения…).
Он понял, что напишет:
«Я сказал ей: «Я могу вас любить, но никогда не смогу быть вашим, ибо лист, падающий с дерева, тростник, колеблемый ветром, или облако… вон то облако, сонно плывущее над домом, заставят меня забыть о вас. Простите старого Поэта».
И он сказал ей это. Она заплакала. И поцеловала его руку.
Они подошли к дому. Как всегда, он уже жалел о случившемся.
Мадемуазель уезжала последней. Он провожал ее.
Красные глаза девочки… Усмешка Селесты…
Но он («как обычно», – напишет потом Селеста в мемуарах) предпочел не заметить беспощадной улыбки жены.
Он смотрел, как крохотная туфелька красотки ступила на лесенку фиакра, и поймал последний взгляд мадемуазель. Влюбленный взгляд…
Экипаж, исчезающий за поворотом аллеи… или лучше так: «освободивший для взора всю таинственную длину аллеи: печаль осеннего вечера (как рано темнеет!), шорохи падающей листвы, шум фонтана – шепот воды, бегущей среди мрамора».
И вновь ощущение внезапного непонятного страха. Как только фиакр скрылся за поворотом, он позвал слугу и приказал осмотреть парк.
Он вошел в башню.
Тишина. Деревья. Ветер. Качаются высокие кроны. Экономная природа: кроны деревьев – те же вознесенные к небу корни, только нежные, ибо живут в небе. И крепость окаменевших корней – там, в земле… Пахло костром. Слуги жгли опавшие листья.
Запах смерти.
Он назовет книгу – «Записки из могилы». Вчерашние события… Листья опали и уже сожжены. Книгу должно напечатать после его смерти.
Смерть… Как сладка жалость к самому себе! После смерти он продолжит говорить с миром: «О мой читатель, я не слышу тебя, я в уже могиле, которую ты попираешь ногами».
«Замогильные записки» о его жизни. О времени.
Как положено гению, он пришел в мир Накануне.
Как любимый им Цицерон, он наблюдал Вселенскую Катастрофу.
Его жизнь была достойна его дара.
Итак, начало. Тот день (увы, такой далекий!), когда он, молодой потомок древнего рода, был представлен ко двору.
Толстый Людовик Шестнадцатый… Этот верный муж странно заканчивал череду любвеобильных Людовиков. Гордый нос Бурбонов украшал тогда потомство многих фрейлин. «Бог простит, свет забудет, но нос останется» – он застал эту шутку, модную тогда в Версале. Бедный Шестнадцатый Людовик – добродушный толстяк, жертва за грехи своих предков, тщетно старавшийся задобрить нацию, выросшую из пеленок. И Антуанетта – маленькая, грациозная, воплощение Галантного века. «Королева рококо» оказалась искрой, которая запалила пороховую бочку.
Залы Версаля, выставка могущества и роскоши… В зеркалах – игра свечей, горящих в гигантских канделябрах: отражаются, двоятся кружева, воланы, ленты, мерцают бриллиантовые пуговицы, фалды расшитых камзолов… Обнаженные плечи… Поток драгоценностей слепит в зеркальной стене. (Бал призраков. Описать!)
Режим казался вечным. И никогда не был так близок к гибели.
Ангел уже вострубил, и скоро рухнет величайший трон в Европе… Восемь веков монархии – великого опекуна нации – заканчивались. Нация выросла. Она решила жить без пастырей – королей.
Революция… И плоть человеческая станет прозрачной в огне и крови. И в безвестную яму будет брошена жертва грядущему, прекраснейшая плоть Галантного века – королева. Варварский обряд похорон жертв гильотины: между раздвинутых ног Марии Антуанетты положат ее голову – самую красивую голову Европы.
Его первый бал… Кузина, обучившая его любви… Ее платье из атласа (описать: светлые, будто ослабевшие, пастельные тона).
И свершилось: голубой плащ кузины, столь величественно ниспадавший с ее плеч, сброшен у кровати; розовая сумочка «помпадур», перчатки и муфта полетели на кресла…
Она стоит в обруче, еще мгновение назад поддерживавшем широкую, как корабль (нужно другое сравнение), юбку. Бесстыдно белеет нижняя рубашка, украшенная серебром и кружевом. Ее слабая ножка… мягкие туфли из шелка с драгоценными камнями…
Он растерялся. Ее смех: «Ну же, помогите несчастной избавиться от последнего оплота добродетели».
И обруч падает. Бьют часы. Таинственная ночь, когда Поэт потерял невинность…
Кузину обезглавят. И голову, которую он целовал, уложат между ног в шелковых туфельках…
Революция… Ее все ждали, все о ней говорили. Сколько просвещенных умов, сколько потомков древнейших родов считали хорошим тоном издеваться над слабым королем, любить Вольтера и считать Бога выдумкой для дураков! Но несмотря на все вольности в разговорах, никто не думал изменять присяге. О революции болтали с удовольствием, ибо всерьез не верили в нее.
И как все мгновенно свершилось! Еще утром была королевская власть, но днем – взята Бастилия, и прежней власти нет. Но власть еще этого не знает. Она не понимает: не просто разрушена главная тюрьма, но уже пошли часы революции. Волшебные часы, где минута равна веку…
Лавина событий, ужасающая быстрота – именно так живет революция. А гибнущая власть продолжает жить в своем, прежнем, неторопливом течении времени.
И король не может понять, куда исчезло его преданное дворянство, где верные солдаты. Он не знает, что все волшебно переменилось, ибо за день революции общество прожило сто лет. Что верными престолу остаются только швейцарские гвардейцы, потому что они чужие, и вместе с властью существуют в прежнем времени.
На развалинах Бастилии, растаскав на сувениры ее камни, просвещенные аристократы славят падение своего монарха… стараясь не замечать голов защитников крепости, качающихся на пиках над поющей толпой.
Стоят солнечные дни. Там, где была Бастилия, открываются кафе. И принц крови герцог Орлеанский обличает своего короля под овации черни. «Гражданин Эгалите» гордо носит эту кличку толпы, братается с народом… не понимает, что и он обречен.
Ибо глух и слеп не только несчастный король. Просвещенные философы, вольнолюбивые аристократы, устроившие революцию, также не понимают ее стремительности. Вчерашние рабы, которых они освободили, сегодня (скорости революции!) вместо вечной благодарности уже почувствовали себя новыми хозяевами и ненавидят вчерашних хозяев-освободителей. Невидимые часы торопятся к невиданной крови.
Террор революции… Общество, обезглавившее своего короля, не может остановиться. Отведавшие крови своего пастыря – безумны…
Рушатся авторитеты опыта и возраста, таланта и происхождения. Все низвергнуто. На вершины возводятся исполины, которые при падении оказываются карликами…
Сам он счастливо избежал этого времени. Гибель родного брата, гибель жены брата… все случилось без него: он уехал в Америку.
Америка… Сражения с англичанами, переселенцы, индейцы, пустыня… Как все это будет разнообразить повествование!
Гибель революции произошла в его отсутствие. Вечная человеческая комедия – вчерашние рабы, уставшие от свободы, потребовали новых цепей.
И вот он пришел – Смиритель революции. И железным посохом загнал в теплый хлев мятежное человеческое стадо.
Бонапарт…
Последняя часть будущей книги. Он вернулся во Францию и застал империю, новый двор Наполеона. Вчерашний лейтенант пытался повторить великолепие королевского двора. Но изящество и грация умирают при звуках барабана. Двором должна править женщина, а не вчерашние булочники и солдаты – наполеоновские маршалы, для которых дворец – всего лишь бивуак между сражениями.
Но наполеоновский двор – не только жалкий фарс. Это преступный плод недавнего Апокалипсиса. Здесь соединились недобитки-аристократы с убийцами своих отцов и братьев, здесь потомки жертв братались со своими палачами.
Здесь он встретил мужа кузины. Став графом империи, он мило беседовал в салоне с ее убийцами.
И вчерашние революционеры, столь недавно с ненавистью убивавшие обладателей титулов, теперь наслаждались этими титулами, которые как кость швырял им император плебеев.
Наполеон… Маленький, пухлый, в белых лосинах, торчит брюшко. Он похож на молодого буржуа, отнюдь не на человека, залившего кровью целый мир. Он кажется даже добродушным, пока не встретишься с ним взглядом. Ледяной взгляд, от которого дрожали его бесстрашные маршалы; взгляд – бездна, холод, смерть. Непреклонный, квадратный, как топор, волевой подбородок императора…
Он легко отнял свободу у французов. Оказалось, толпа вовсе не любит свободу, их единственный кумир – равенство (недаром оно связано тайными узами с деспотизмом). И Бонапарт воистину уравнял всех французов – и в правах, и в бесправии. Право на собственное мнение имел лишь один человек во Франции.
Но владыке мира не удалось купить Поэта.
«Почему-то большая литература всегда против меня, а маленькая – за». Это сказал Наполеон о нем. И он гордился, когда император запретил его речь в Академии. «Будь она произнесена, мсье Шатобриана пришлось бы бросить в каменный мешок».
Падение Наполеона…
Когда-то старик Мерсье сказал: «Постараюсь прожить подольше.
Мне очень интересно знать, чем все кончится».
Что ж, и Мерсье, и ему это удалось. Они увидели гибель королевства, потом гибель революции и вот теперь – гибель империи.
Союзники приблизились к Парижу. И Бурбоны, которых навечно (бойтесь этого слова, вечность – прерогатива Господа) изгнала революция, готовились въехать в столицу.
И его соседи, вчерашние революционеры, бросились в бельевую мадам Шатобриан за белыми простынями, чтобы намалевать на них королевские лилии.
Селеста с честью отстояла свою бельевую. Но тысячи флагов с лилиями висели тогда на парижских домах. И должно быть, русский царь и союзники очень удивлялись несметному количеству монархистов в Париже. Монархию в те дни любили все. Даже палач Сансон, обезглавивший и короля, и королеву, и аристократов без числа, оказался в душе монархистом (так его сын писал теперь в своих воспоминаниях).
Правда, оставался грозный вопрос – кто! Кто был в тех беспощадных толпах, которые громили аббатства и дворцы? Кто тысячами собирался на площади и в восторге вопил, когда рубили головы аристократам? Кто выкинул из могил останки великих королей, спавших вечным сном в Сен-Дени, и бросил их в грязную яму? Кто?!
В то время ему удалось получить постановление революционного Трибунала о казни четырнадцати человек, среди которых были его брат, жена брата и ее родители – добрейший господин Мальзерб и его супруга, а также их кузина, старуха-герцогиня де Грамон. Их всех обезглавил на площади Революции этот «тайный монархист» – палач Сансон.
Милый Мальзерб… Он был министром Людовика и великим либералом, приверженцем и старых добродетелей, и новых идей. Когда революция победила и чернь держала короля и королеву пленниками в Тюильри, Поэт вместе с братом пришел к Мальзербу спросить совета – уезжать или не уезжать из Парижа?
И Мальзерб сказал им: «Ни в коем случае! Поверьте старику, весь этот кровавый балаган скоро закончится, и, как любит говорить наш король, нация вновь вспомнит свой счастливый и веселый характер». Брат послушал родственника, а он – нет.
Прошло совсем немного времени, и «народ со счастливым и веселым характером» отрубил голову и королю, и Мальзербу, и брату.
Ну а потом он опишет нынешний венец человеческой комедии.
Кто сейчас ближе всех к королевскому двору, вернувшемуся во Францию? Кто стал доверенным лицом у Людовика Восемнадцатого? Негодяй Талейран – епископ-расстрига, предавший последовательно Бога, революцию, Наполеона, кичившийся тем, чего следовало стыдиться: он сумел уцелеть после падения всех режимов. Великие умы, свершающие великие события, как правило, гибнут. Умы второстепенные, умеющие извлекать из великих событий выгоду, остаются.
Наслаждается нажитым богатством двойник Талейрана (и оттого ненавистник) Фуше, стрелявший из пушек по беззащитным, связанным аристократам в Лионе, забивший трупами целую реку. Министр полиции – при Директории, покончившей с революцией, при Наполеоне, покончившем с Директорией, при короле, покончившем с Наполеоном. При короле, родном брате прежнего короля, одним из убийц которого был Фуше!
Какие сцены будут в его книге!
Все успокоилось в душе. Приблизилась старость. И звуки прошедшей жизни яснее слышны, как в осеннем, опавшем лесу. Несправедливость старости… Старый Поэт как старый соловей, – в этом уже противоречие. В конце концов, для Поэта Господь мог бы сделать исключение.
Он придвинул бумагу. Торжественный час…
Надо начать со вступления о тщете. Он много путешествовал в юности, чтобы понять: нет нужды путешествовать по земле. Самое сладкое путешествие – внутрь самого себя, ибо каждый носит в себе целую Вселенную… В лесной чаще сядьте на ствол поваленного дерева и в тишине, когда над верхушками деревьев плывут облака, в душе своей вы ясно почувствуете музыку мироздания, величайшую тайну присутствия Его. Так стоит ли искать Истину далеко от дома – на берегах далеких океанов?
Он решительно взялся за перо.
И тогда…
Маркиз де С, писатель
Вот тогда и заскрипела лестница. Шатобриан обернулся и увидел незнакомца, спускавшегося из верхней комнаты.
В каком-то оцепенении он смотрел, как незваный гость ступил на пол. Пол скрипнул.
Тускло светила свеча. И когда незнакомец все так же молча шагнул к столу, он наконец разглядел его и привычно подробно описал: «Тучен. Очень. И очень стар. Стар и его голубой (отлично сшитый, дорогой) фрак, вытерт до блеска временем, как и его розовые панталоны. Но ни малейших следов дряхлости в движениях. Очень правильные (оттого плохо запоминающиеся) черты: небольшой лоб, небольшой нос, выцветшие голубые глаза. Должно быть, в детстве был хорошеньким ребенком. А теперь его лицо, сохранившее детские черты, брошено в вязаную сумку глубоких рытвин-морщин… (Вычурно, нужно иное.)»
– Пришлось ускользнуть от ваших слуг, – заговорил пришедший дребезжащим голосом, – что, впрочем, нетрудно. Прохвосты, как и положено лакеям, выполняли ваше приказание лишь с показным усердием. Но их жалкие старания все же загнали меня в вашу комнату. Заодно я сумел отдохнуть немного, что не лишнее. Сколько лье пришлось пройти по пути к вам! Так что с вашего позволения… – он уселся на стул и отодвинулся в темный угол комнаты.
Теперь он был почти невидим. И только дребезжащий голос звучал из темноты.
Шатобриан сразу понял: знакомый тип; таких он часто встречал в Америке и ненавидел – публичные скандалисты, понятия не имеющие о застенчивости и приличиях. Но он не мог не отметить: наглый старик держался с неким насмешливым достоинством.
Пришелец прочел его мысли:
– Да, мое прошлое – я подразумеваю древность моего рода – вас не разочарует. Для вас это важно, вы ведь считаетесь паладином монархии. Моя мать-покойница была фрейлиной у принцессы Конде, так что я родился во дворце принца. Впрочем, и давно почивший мой отец тоже щеголял титулами – состоял послом при русском дворе. И был в больших друзьях с вашим папашей. Отменный мерзавец! Я о своем отце, про вашего не скажу, не знаю… Я объясняю вам все это, чтобы впоследствии было понятней, почему я пришел именно к вам. И тем не менее мне не хотелось бы называть свое имя, оно не обрело еще того величия, которое готовит ему будущее. Так что пока зовите меня просто – маркиз де С.
Шатобриан молчал.
Маркиз засмеялся:
– Какой дурной у вас вкус… Я, как и вы, провел детство в замке. Но в отличие от вас, так любовно украсившего всеми средневековыми глупостями свое жилище, я с детства хохотал над подобными украшениями. Единственное, что меня примиряло с нашим замком, – множество необитаемых комнат. Сначала я спасался в них от поучений семьи. А потом в одной из них, самой дальней, изнасиловал смазливую служанку. Мне было тогда тринадцать лет… Кстати, у вас на столе прелестный цыпленок. Ужин Поэта. Богатого Поэта! Богатый и Поэт – разве так может быть?.. Однако я умираю от голода. Я проделал долгий путь… и к тому же обожаю хорошо поесть. Вы не будете, конечно, возражать, если я… – Он потянулся и преспокойно забрал тарелку с цыпленком и бутылку вина – ужин Шатобриана (забота Селесты), стоявший на уголке стола. И вновь отодвинулся в темноту комнаты.
– Но, позвольте… – беспомощно начал Шатобриан. Старик будто не слышал и, с упоением поедая цыпленка, продолжал:
– Кстати, история со служанкой – целый рассказ. Могу подарить, как писатель писателю… Забыл вам сказать – я тоже писатель. Сейчас мало кто знает обо мне. Так же, как мало кто не знает о вас. Но не в обиду вам будь сказано – в будущем все станет наоборот… Итак, о служанке. Считайте это платой за ваше очень скромное угощение. Сначала я застал с ней родича, почтеннейшего аббата, впоследствии приора Тулузского. Кстати, через него мы с вами тоже в родстве. Говорят, этот подлец знавал вашу бабушку и наставил прелестные рога вашему дедушке… Впрочем, тогда это не считалось зазорным – такова была эпоха. Ревнивый муж – вот кто был смешон. Обманутый муж – нет. Я ведь все это застал… Когда у графа А. сбежала жена, он тотчас послал за ней свою карету. Нет, не для того, чтобы настигнуть ее с любовником, графом Б., избави Бог! – Старик расхохотался. – Просто сама мысль, что его жена будет путешествовать в какой-то наемной карете, была для него унизительна. И похитивший ее граф Б. впоследствии с гордостью заявлял: «Какая огромная честь быть любовником жены такого благородного человека!»… Однако вернемся к нашему с вами родственнику аббату. – Старик уже хрустел остатками цыпленка. – Итак, мне было тринадцать, когда я затаился в укрытии и воочию увидел, как наш святоша знакомился с тайнами прелестной пещеры, которую плутовка таила под юбкой. Как он ловко-привычно задрал свою рясу и закинул ей нижние юбки выше живота, при этом продолжая с ней беседовать на вечные темы! «Что делать, – говорил он, – Творец создал нас с тем, что мы, глупцы, смеем называть «пороками» и что, возможно, Он называет «потребностями»…
Я не спрашивал тогда себя, почему до сих пор он жив, почему Господь не поразил его молнией… нет! Я был в безумии, всю ночь изнемогал. Видение запрокинутых женских ног… И уже на следующий день я решился сам отправиться в это восхитительное путешествие – по следам родственника. Я был красавчиком, и уложить в постель жалкую служанку после старика-аббата мне бы ничего не стоило. Но, к счастью, я тогда этого не понимал… Я взял нож и подстерег ее в темном коридоре в самой отдаленной части замка. Там находились помещения для прислуги, а рядом была комната, где, по семейной легенде, обитала прапрапрабабушка, убитая почему-то прапрапрадедушкой. В комнате этой, по причине ужасов, в ней произошедших, никто не жил. Вот туда-то я и загнал ее ножом! Пахло сыростью, было холодно – все-таки комнату не посещали лет двести. Я толкнул ее на кровать, подняв столб двухвековой пыли. Она рыдала от ужаса – боялась не столько меня, сколько самой комнаты – и, наверное, ничего не чувствовала. Но я-то чувствовал! Вот тогда я и совершил главное открытие, – маркиз перешел на шепот. – Я понял: в женском ужасе рождается истинное наслаждение мужчины, пробуждается тайная истина – природа Зверя… Да, мы трусливо отвернулись от своей природы. Вот что я открыл! Простите, но все сладкие глупости, которые вы написали о любви, не стоят одного мига слепящей радости от человеческой боли – награды победителю. Мой глупый родственник-аббат пользовался красоткой бездушно, как ночным горшком. Я же наслаждался… Потом, когда я служил в полку, у нас, офицеров, был обычный по тем временам девиз – «Служить королю и женщинам». Когда полк уходил на новое место, мы обязаны были покидать наших дам без сожаления. И я не просто с охотой исполнял этот кодекс негодяя, но со сладким ожиданием, ибо в их слезах во время моего нарочито бездушного, наглого прощания я чувствовал сладчайшее ощущение женской боли. И когда она рыдала, склонив головку, как же мне хотелось… полоснуть ножом по склоненной шее… и как я любил эту вздрагивающую от рыданий беззащитную шейку! И постепенно я понял: оркестр боли и страсти постоянно звучит в природе. Особенно ясно и громко – на низших ее ступенях, где природа говорит без прикрас. Вот почему амебы при совокуплении поедают друг друга и крабы во время случки выкусывают клочки тел… Впрочем, даже при обычном поцелуе пробуждается будто бы невинная жажда – укусить. Да, боль подстегивает наслаждение… Кстати, я следил сегодня за вами, когда вы стояли здесь с юной красоткой. Неужели вас не посетило желание позвать ее наверх и изнасиловать? Уверен, где-то в тайниках души – посетило. Но вы не сумели услышать. А если бы и услышали этот задавленный шепот истины, тотчас перекрестились бы и трусливо зажали уши. И вместо правды написали очередные сентиментальные вирши, которые так нравятся образованной черни…
Более терпеть Шатобриан не мог (потом он много раз спрашивал себя – отчего он вообще слушал маркиза?).
– Послушайте, вы, старик! Неужто вам не стыдно все это говорить?
Маркиз погрозил ему из темноты пальцем.
– Не будьте банальным пошляком. Правда, кто-то из вас, пошляков, решив объясниться поприличнее, объявил: «У желаний нет возраста». Это тоже глупость. Возраст только утончает желание. И все слышнее голос, который поднимается со дна… загаженного за нашу жизнь дна души… Сонный голос Зверя, убаюканного законами, религией, страхом. И надо быть смельчаком, чтобы разбудить спящего. Вот об этих смельчаках я и писал. Мои сочинения даже издавались во время неразберихи революции. Вы в это время отсиживались по заграницам и не застали мига моей скандальной славы… да, пожалуй, можно употребить это слово – славы! Так что я пришел к вам как писатель к писателю.
– Послушайте наконец…
– Да, конечно, вы торопитесь. Торопитесь начать писать очередную сладкую ложь, которой такие, как вы, столетиями потчуют человечество. Зачем я пришел? Хотите банальной конкретности? Такой же пустой формальности, как мое имя? Мое древнее славное имя, – он расхохотался, – которое я запятнал, по словам идиотов. И которое я возвысил, по будущим словам смелых потомков.
– Послушайте, вы съели мой ужин. Что вам еще нужно от меня?
Шатобриан пытался быть грозным, но почему-то не получалось.
Маркиз будто не слышал его. Он вдруг задумался и долго молчал, а потом со странным усилием заговорил:
1
Chat – кот (φρ.).