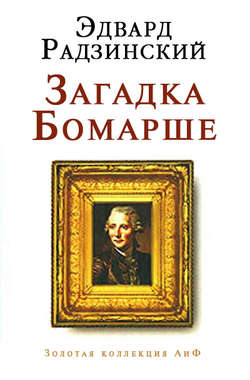Читать книгу Загадка Бомарше - Эдвард Радзинский - Страница 4
Граф Ферзен: «несколько важнейших дат моей жизни»
ОглавлениеГраф Аксель Ферзен писал сестре:
«Моя нежная, моя добрая Софи! Я должен уехать в Париж. Письма, которые я получил от маркиза де С, не оставляют сомнений. Я нашел злодея и обязан свершить суд. Я должен! Двадцать пять лет назад я Ее увидел, и теперь Она зовет меня отомстить. Кто знает, удастся ли мне вернуться из Парижа? Тебе известно, я приговорен там к смерти. Поверь, я все сделаю, чтобы вернуться и не огорчить любимую сестру. Но коли Бог решит иначе, я попрошу тебя помочь мне и сполна вернуть мой долг баронессе Корф. Это та великодушная вдова русского офицера, которая восемь лет назад отдала мне все свои деньги и деньги своей матери… Впоследствии потомки с печальной усмешкой вспомнят, что только русская баронесса согласилась предоставить средства шведскому дворянину, чтобы спасти французскую королевскую семью. Но она не только дала деньги, она рисковала жизнью, передав Ей свой паспорт…
Теперь отважная баронесса Корф и ее мать остались совершенно без средств. Все мои просьбы к европейским монархам помочь баронессе вернуть затраченное тщетны. Даже Ее коронованные родственники не услышали моих просьб. Какой печальный урок! И это в наш век, когда так нужно поощрять преданных слуг монархов.. Ты знаешь, я разорен. Все мои деньги поглотили безуспешные предприятия, которые так и не сумели помочь Ей…
Перед отъездом я счел долгом навестить в Вене своего друга, русского посла графа Андрея Разумовского, через которого я пытался помочь бедной баронессе. Он – воплощение мужественной красоты и хороших манер. Так забавно думать, что предки этого истинного аристократа всего несколько десятков лет назад пасли коз. Как он сам со смехом рассказывает: когда приехали из Петербурга везти его отца к императорскому двору, тот от страха залез на дерево. Отцу тогда было пятнадцать лет, и он был неграмотен, что, однако, не помешало ему уже через несколько лет учиться в прославленном Геттингене и потом возглавлять Российскую академию наук!
Этим чудесным поворотом в своей судьбе его отец был обязан своему старшему брату, которого русская императрица Елизавета случайно увидела поющим в церкви («pevchii» – так называлась в России его профессия, ибо в русских церквах поют). Императрица безумно влюбилась в него с первого взгляда. Фаворит приходил к ней тайно каждую ночь, и двор с насмешливой почтительностью звал его «ночным императором». Влюбленность императрицы была такова, что она тайно обвенчалась с ним и даже понесла от него девочку, которую новая правительница Екатерина заточила в монастырь.
Потом появились самозванки, объявлявшие себя дочерьми императрицы.. Как тесен мир! Я рассказал графу Разумовскому, как в первый свой приезд в Париж встретил на балу в Опера (ты знаешь, как мне памятен тот бал) очаровательную сумасбродку, которая утверждала, что она – дочь Елизаветы… Выслушав меня, граф Андрей только усмехнулся и поведал мне печальное окончание истории сумасбродки. Императрица Екатерина, имевшая весьма малые права на русский престол, очень серьезно отнеслась к этим фантазиям. И подослала к бедняжке какого-то красавца, который влюбил ее в себя, заманил на корабль и отвез в Россию, где несчастная зачахла в заточении… Какое счастье, что ужасный век, столь жестокий к любящим сердцам, наконец-то заканчивается, дорогая Софи!
Что же касается денег баронессы Корф, граф Андрей сказал, что, как и обещал, несчетно писал о них недавно почившей Екатерине, но денег от обычно щедрой императрицы так и не поступило. И хотя, по его словам, Екатерина, узнав о казни несчастного Людовика, слегла в постель, к Ее гибели она осталась совершенно безучастной и даже сказала жестокие слова: «Антуанетта никогда не могла исполнить главной обязанности монарха – быть деспотом для самой себя. Она носила корону в свое удовольствие, как носят модную прическу. Это опасно, ибо можно потерять голову вместе с прической».
Подобные слова когда-то писала и Ее мать… Никто не понимал Ее. Она была последней богиней Любви, зачем-то навестившей наш безжалостный век, воплощением изысканного мира, который погиб с Нею навсегда. Само изящество, само совершенство, сама красота были погублены грязной толпой…
Прощаясь с графом Андреем, я попросил его все-таки написать о баронессе только что взошедшему на престол императору Павлу. Но граф только усмехнулся и сказал: «Худшей рекомендации, чем моя просьба, для нового императора трудно придумать».
Значит, правду болтали при венском дворе, будто первая жена Павла, тогда еще наследника, была влюблена в графа Андрея.
И после ее безвременной кончины Павел нашел в ее секретере письма, из которых все стало ясно… Потому императрица Екатерина и поспешила отправить графа Андрея послом в Неаполь.
Прости за многословное послание, но мне не с кем поговорить. С некоторых пор мне неинтересны люди. Только ты и, пожалуй, этот русский граф… Ты сейчас поймешь, почему. В Неаполе граф Андрей увидел королеву Каролину, Ее сестру. И вспыхнула взаимная страсть… И опять русской императрице пришлось заниматься очаровательным графом: из Неаполя она поспешила перевести его в Вену, безжалостно разбив оба сердца…
В дверях я обнял его. Он все понял, глаза его заблестели. Как много разбитых сердец, погубленных жизней, уничтоженной красоты! Стоя в дверях, мы беседовали почти час – два человека с погибшими сердцами. Мы заговорили о Них. О сестрах. О самых дорогих нам на свете. И еще – о Ее гибели. О море крови. О конце грозного века. Что-то нам сулит век грядущий?..
Он сказал: коли в России случится такое, как нынче во Франции, мир содрогнется от невиданных злодеяний! Он поведал мне о безграмотном кровавом казаке, который чуть было не взял Москву. И, провожая меня до коляски, сказал: «Не дай бог, коли явится вот такой казак да с университетским образованием. Разве что Господь не допустит…»
Надеюсь, ты поняла, дорогая Софи: я старался сделать все, чтобы вернуть деньги баронессе Корф. Но так как сие мне не удалось, то в случае моей гибели прошу тебя, любимая сестра, исполнить мое поручение: продать мое имение и передать деньги баронессе.
Скоро июнь – очередной печальный юбилей. Восемь лет со дня Ее неудачного побега, который я до сих пор простить себе не могу!
Прощай. Или нет – до свидания, моя дорогая сестра.
P. S. Коли не вернусь, бумаги, которые лежат в моем бюро, перевязанные алой лентой, немедля следует сжечь».
Запечатав письмо, граф открыл записную книжку и написал:
«Вена. 21 апреля 1799 года. Ночь стоит теплая при полной луне. Черный парик и бородка ждут меня на ночном столике. Ящик красного дерева с пистолетами и две шпаги слуга уже отнес в карету. Я только что закончил письмо сестре. Письмо сие из-за важности сведений вписываю в записную книжку, подаренную Ею…
Часы пробили полночь, и я вновь возвращаюсь к изложению важнейших событий моей жизни. Не в последний ли раз? Сие известно только Господу».
Через полвека в родовом замке Ферзенов в тайнике над камином нашли пачку писем. Описание находки за подписью «Карл Скотт, профессор (Стокгольм)» было напечатано в лондонской «Санди Таймc»:
«Пачка (13 писем) перевязана алой лентой. Все письма написаны одним почерком, в котором легко узнать небрежный почерк Марии Антуанетты. Также в тайнике обнаружена записная книжка графа Ферзена. На первой странице рукой французской королевы написаны стихи-посвящение:
Что Вы напишете на этих страницах,
Какие тайны доверите им?
О, они, бесспорно, предназначены
Для самых нежных воспоминаний.
А пока они пусты,
Разрешите в знак нашей дружбы
Начертать эти несколько строк
На самой первой странице.
Все дальнейшее в записной книжке написано ровным каллиграфическим почерком графа Акселя Ферзена. Вслед за стихами французской королевы граф пишет: «Она подарила мне свой портрет и эту книжку «для записи памятных дат». И вот через столько лет я решил воспользоваться ею».
Далее заголовок: «Несколько важнейших дат моей жизни».
(Профессор Скотт отмечает, что «последующий текст был написан графом Ферзеном, скорее всего, ночью перед отъездом в Париж… Аксель Ферзен, видимо, опасаясь не вернуться живым из путешествия, решил изложить свою историю. Кто должен был быть ее читателем? Скорее всего, сестра, которую граф безумно любил».)
«В 1773 году я более года путешествовал по Европе, знакомясь с достижениями науки. В Фернее мне выпала честь беседовать с Вольтером.
10 января 1774 года при солнечной морозной погоде я въехал в Париж, где наш посол при французском дворе представил меня мадам дофине Марии Антуанетте. Дочь великой императрицы (Ее Величество Марию Терезию имел счастье знать мой отец) оказала мне воистину самый благосклонный прием. Мне тогда исполнилось 19 лет (я родился 4 сентября 1755 года), как и Ее Высочеству (дофина родилась 2 ноября). Я был поражен [далее старательно зачеркнуто] любезностью и красотой будущей королевы Франции.
30 января [подчеркнуто]. Бал в Опера. Высокая красавица, именующая себя принцессой Владимирской, дочерью покойной русской императрицы Елизаветы от некоего тайного брака, сделала много незаслуженных комплиментов моей внешности. Когда же наконец она покинула меня, ко мне приблизилось восхитительное домино небольшого роста, весьма грациозное. Когда маска заговорила, нежный тембр ее голоса [далее зачеркнуто]. Ее разговор был исполнен благородства и изящества.
Нашу беседу прервало появление фрейлин – мадам де Л. и мадемуазель К. И тогда домино со смехом сняла маску, а я тотчас склонился в самом почтительном поклоне. При том, видимо, был так растерян, что мадам дофина (это была Она!) много смеялась.
15 февраля. Бал в Версале, где Она (подойдя ко мне!!!) оказала великую честь – вновь заговорила со мной.
12 мая. Покинул Париж при весеннем, теплом дожде…
16 августа 1778 года. Я вновь приехал в Париж. Осень стояла очень теплая, хотя уже было много опавших листьев. Его величество Людовик Пятнадцатый умер, и Она стала королевой.
Наш новый посол представил меня королевской чете.
Смел ли я надеяться, что меня помнят?! Я попросил посла представить меня, как если бы я был в Париже впервые. Но доброта Ее не знала границ. Она узнала меня!!! И сразу сказала: «А, это наш старый знакомый!» Я совершенно потерялся и дал повод госпоже де Л. пошутить: «Какая мужественная внешность и какая детская застенчивость».
И в дальнейшем Она не забывала оказывать мне знаки доброго внимания.
8 сентября я посмел сообщить отцу: «Она – самая красивая и самая любезная из государынь, каких я знал».
Помню, отец справедливо ответил мне, что я знаю весьма мало государынь.
А точнее – одну…
18 ноября. В тот день Она была сама любезность. Госпожа Полиньяк рассказала Ей о моей шведской военной форме, которая произвела столь забавный фурор на балу у графини де Брион.
Она изъявила желание видеть меня в этом костюме.
19 ноября я надел белый мундир, голубой камзол, замшевые штаны с шелковыми оборками и золотой пояс со шпагой с золотым эфесом.
А на следующий день я получил анонимное послание, повергшее меня в печальную задумчивость: «Этот стройный, прекрасно сложенный молодой человек с глубоким мягким взглядом уже завладел ее сердцем, что не удивительно. Наша венценосная кокетка не может не взять все самое роскошное, самое яркое».
21 ноября на балу в Версале я танцевал с графиней де Сен-Пре. Она и рассказала мне тогда [далее зачеркнуто]. Помню, я только ответил в сердцах: «Как злы здесь люди».
Декабрь. Весь месяц я был зван на вечеринки, которые устраивали Она и Ее неразлучные подруги герцогиня де Ламбаль и Жюли Полиньяк в божественном Трианоне. Я наслаждался красотой Трианона и Ее вкусом. Миниатюрный дворец, миниатюрные озера, миниатюрный театр, миниатюрная мебель… И Она сама – маленькая Антуанетта – так гармонична, соразмерна игрушечному дворцу. Совершенство и красота здесь царили во всем – от сочетания деревьев до бронзовых дверных ручек, куда столь изящно были вплетены буквы Ее имени. Она «спасалась здесь» (Ее слова!) от чрезмерной грандиозности Версаля, от тысяч слуг, от неумолимости этикета.
«Здесь я сбрасываю корону, здесь нет постоянной французской напыщенности, нет колоколов (есть колокольчик), здесь я могу принимать кого хочу. Здесь, наконец, я имею право на мою жизнь», – сказала мне Она 12 декабря, любуясь маленькой фарфоровой собачкой – детским подарком ее матери.
Графиня де Сен-Пре пересказала мне тогда с плохо скрытым осуждением (как и все прелестницы при дворе, она не могла простить Ей ослепительной красоты) слова Ее брата. Оказывается, когда император Иосиф гостил в Версале, он был поражен: ни Она, ни король не проявляли внимания к знаменитым французским философам. «О них с восторгом говорит весь мир. Почему же французская королевская семья не собирает у себя философских салонов? Ничто так не развивает ум, как споры о вещах, которые еще не приобрели ясных очертаний…»
Я тотчас (13 декабря) посмел пересказать Ей эту сплетню. Она, смеясь, передала мне свой ответ любимому брату: «Как только разговор принимает столь чтимый Вашим Величеством характер, то немедля действует на меня, как самое лучшее снотворное». Из всех перечисленных тогда братом европейских знаменитостей Она, по Ее словам, с удовольствием принимает только некоего Бомарше, часовщика и сочинителя пьес. Его пьесу Она решила поставить (сама!) в придворном театре Трианона.
20 февраля. В этот день Она пела куплеты. Потом все отправились гулять. И мы остались вдвоем – на целых четырнадцать минут! Дозорный, стоявший на миниатюрной башне, затрубил в рог. Этот условный знак всегда сообщал нам о приближении короля. Рог прервал и общее веселье, и нашу встречу.
25 февраля. Этот Бомарше (о котором говорили много нелестного) два часа играл на арфе. Она могла часами слушать музыку. А потом Она пела… О чувствительная душа!
1 апреля меня в первый раз позвали в театр. (Она: «Я не хочу, чтобы вы приходили! Я буду волноваться! Но коли вы настаиваете…» – «Могу ли я, смею ли я настаивать?!» Но я понял: Она хочет, чтобы я там был!)
Она играла в тот день прачку в английской пьесе и была восхитительна в белом чепце. Когда Ей предложили сыграть роль королевы в той же пьесе, Она сказала: «Довольно и того, что я играю эту нудную роль в жизни».
Во время представления, помнится, король освистал своего брата графа д'Артуа, который путался в тексте. Но Она… Как Она была грациозна! И как прекрасна!
После спектакля был устроен фейерверк в Английском саду. На деревья повесили стеклянные сосуды разных цветов со свечами. Они горели, и сад переливался в их свете, как драгоценность… Она всегда была неистощима в изобретении развлечений.
3 апреля 1779 года. Я удивился – как пролетело время. Оказалось, я гостил в Париже восемь месяцев! И вот наступил самый несчастный день в моей жизни – меня позвал к себе наш посол. Он рассказал про сплетни двора и показал озабоченное письмо нашего доброго короля Густава.
Я ответил, что никогда не прощу себе, если брошу хоть легкую тень на королеву. Но посол сказал, что это уже свершилось. «О Боже!» – только и прошептал я.
Он спросил, что я намерен делать. Я сгоряча ответил, что единственное надежное средство заставить замолчать злые языки – удалиться. Прочь из Версаля, Парижа, Франции! Я так надеялся, что он отвергнет мой план, но он горячо его одобрил. Добрый посол справедливо заметил: «Чтобы не вызвать злобных пересудов, нужно найти достаточно естественный и правдоподобный мотив для отъезда». И тут мне пришла в голову мысль: я объявил, что уезжаю воевать в Америку. Посол радостно сказал, что тотчас успокоит нашего короля письмом.
5 апреля. В этот день посол показал мне свое письмо королю. Я переписал его: «Я должен согласиться с Вашим Величеством: юный граф Ф. имел столь теплый прием у королевы, что это внушило необоснованные подозрения. Хотя не могу не признать, что привязанность королевы к графу имела признаки слишком явные, чтобы сомневаться. Я сам тому был свидетелем. (О лукавый дипломат!) Но молодой граф повел себя достойно в этой ситуации: его скромность, сдержанность и, наконец, его вчерашнее решение отплыть в Америку делают ему честь. Уезжая, он устраняет ненужные сплетни и, главное – ту напряженность, которая возникала между нашими дворами. Нужно иметь твердость не по возрасту, чтобы преодолеть этот соблазн – остаться. Я присутствовал вчера на балу, когда королева узнала о его решении и была не в силах оторвать от него глаз, умоляющих и полных слез. В остальном же королева держит себя сдержанно и благоразумно. Король продолжает охотиться в свое удовольствие».
Я потребовал, чтобы было вычеркнуто все о Ней. Он обещал и даже дописал по моей просьбе: «Я не смею умолять Ваше Величество сохранить все это в секрете».
Впоследствии в Стокгольме король милостиво показал мне письмо посла (оказалось, там ничего не было ни вычеркнуто, ни дописано!).
26 апреля. Узнав о моем отъезде, графиня де Сен-Пре сказала мне: «Мсье безумец, неужели вы отказываетесь от своего трофея?» Я, конечно же, сдержался, не смея ответить дерзостью даме, и заставил себя высказаться в парижском духе: «Если бы трофей мог быть моим, поверьте, я бы не отказался. Но я уезжаю таким же свободным, как и приехал. И без сожаления».
В тот же день посол показал мне письмо нашего доброго короля: «Мы восхищаемся античными героями, принесшими свою любовь в жертву долгу, и не видим рядом с собой современников, пожертвовавших не менее высоким чувством и расставшихся invitus invita[3], но по велению долга».
Вечером Она пела арию Дидоны. Ее глаза были полны слез, голос дрожал, лицо покраснело от рыданий. Я сидел, не смея поднять глаз, слова арии заставляли биться мое несчастное сердце. «Вы так бледны, мне кажется, вы сейчас упадете в обморок, – шепнула мне графиня де Сен-Пре. – О, как бы я хотела вас утешить… Бедное сердце!»
В ту ночь я решился позволить графине утешить меня, чтобы не лишить себя жизни. В постели на мой озабоченный вопрос о графе де Сен-Пре графиня, смеясь, сказала, что его не будет до завтра, ибо он, в свою очередь, утешает герцогиню Ш., которую бросил любовник. (О нечестивый Вавилон!) После греха я много плакал, а графиня много смеялась надо мной. Она попыталась рассказывать недопустимое о Ней и графе Т., но я умолил ее замолчать.
Утром я уехал в Гавр, где получил письмо от графини, посланное с нарочным. Графиня писала, что «после моего отъезда Она закрылась в своем кабинете и не выходила до позднего вечера».
И я сказал себе: «Терпи, мое сердце!»
Америка. 19 декабря 1781 года!!! Ставлю три восклицательных знака, ибо в тот день я получил первое восхитительное письмо от Жозефины (так Она подписывает свои письма).
22 октября Она родила дофина. И шутливо описала в письме всю историю. (Как жаль! Это письмо погибло в 1783 году во время возвращения во Францию, когда буря в щепки разнесла мою каюту. Погибли и индейские томагавки, и прочее.)
Она писала, что, как только начались первые схватки, принцы и принцессы крови расположились в комнате, где находилась «родильная кровать», ибо при французском дворе, согласно этикету, они должны присутствовать при родах. У подножья кровати, как положено, уселся в ожидании министр юстиции. Все приготовились к зрелищу. Но Она сумела обмануть глупые нравы двора, Она сказала, что тревога преждевременна и симптомы ложные. И когда все покинули комнату, она позвала свою подругу госпожу де Ламбаль и объявила ей правду. Схватки усилились, и в четверть второго Она родила мальчика. Министр юстиции, которого одного позвали к Ее ложу, торжественно объявил пол ребенка. Наконец-то Она исполнила предназначение – подарила Франции наследника. Я счастлив за Нее.
9 сентября 1783 года. Помню, я въехал в Париж под проливным дождем. Я снова был при дворе. Окончились четыре года добровольного изгнания, я заслужил право вновь видеть ту, чей образ помог мне пережить три года приключений и две опасные раны (я был на краю смерти).
15 сентября. В этот день за боевые заслуги в Америке (где я славно рубился с англичанами) меня наградили орденом Шпаги. Но я беспокоился – не станут ли эти почести и благосклонность доброй королевы поводом для возбуждения слухов, которые я пытался остановить разлукой и кровью? Чтобы избежать необоснованных подозрений, я решился возобновить роман с графиней де Сен-Пре. Но она вздумала ревновать меня к Ней! И пришлось завести роман с покладистой крошкой Люси де Грамон (она тогда была в большой моде при дворе).
Но вся моя жизнь была ожиданием. Я жил только тогда, когда меня звала Она, когда были «божественные вечера в божественном Трианоне»…
1 декабря. Отец, прослышав о моей жизни, прислал письмо. Он пожелал, чтобы я вернулся в Стокгольм, женился, продолжил наш славный род. Я не мог объяснить ему, что никогда не женюсь, ибо бедное мое сердце уже обручено… [Зачеркнуто.] Но чтобы не огорчать его, объявил, что не могу покинуть Париж, ибо надумал жениться на самой завидной невесте Европы – мадемуазель Неккер, дочери великого богача и великого министра. В то время так много самых блестящих юношей претендовало на ее руку, что я счел совершенно безопасным присоединиться к списку кандидатов. Но неожиданный успех у мадемуазель Неккер (которой в будущем предстояло стать прославленной мадам де Сталь) заставил меня поспешно ретироваться с поля сражения, которое грозило мне победой. Утром я… [Зачеркнуто.] Она одобрила.
Июнь… Это было самое счастливое лето в моей жизни. Я присутствовал на всех интимных обедах в Трианоне и сопровождал Ее на все балы в Опера. Какие странные были тогда маскарады и балы в Париже! Даже танцуя, здесь говорили о политике.
Например, 20 июня на маскараде я услышал рядом знакомый голос: «В каждом уголке нашего королевства уже полыхает огонь. И скоро он спалит Париж!» Я узнал говорящего – это был герцог Орлеанский, принц крови и ненавистник королевской семьи, и главное – Ее ненавистник. Но король, увы, покорно терпел его едкие остроты и тайную деятельность, о которой знали все. И я сказал себе: «Что-то будет…»
Когда я рассказал Ей об этом, Она пожала плечами и забыла.
13 августа. Накануне представления «Севильского цирюльника» в Трианоне. День этот (как потом оказалось) был воистину роковым. Но Она и не подозревала…
Все случилось в Ее любимом миниатюрном театре – мраморном с золотом. Она участвовала в представлении пьесы этого подозрительного сочинителя Бомарше, играла бедную девушку по имени Розина.
Я осмелился сказать Ей, что в пьесе многие реплики двусмысленны (как и репутация этого господина).
Но Ей так хотелось надеть «очаровательное и такое простенькое» платье, которое для представления сшила Ее модистка мадам Бертен!
И в ту же ночь открылась грязная, но удивительно искусная интрига.
Она еще была в «очаровательном платьице простушки Розины», когда за кулисами появились два самых известных ювелира в Париже (мсье Л. и мсье К.). Они утверждали, что Его Преосвященство кардинал де Роган приобрел для Нее бриллиантовое ожерелье – будто бы по Ее просьбе.
Она тотчас поняла, что кто-то воспользовался Ее именем и обманул известного глупца Рогана. В дальнейшем оказалось, что некая Ла Мотт уверила кардинала, будто она – ближайшая подруга Антуанетты. Роган, как и все здесь, был влюблен в Нее… Ла Мотт показывала глупцу письма, которые будто бы писала ей Она, и дерзостно обещала, к восторгу безумца, сделать его любовником королевы. Но для начала предложила оказать услугу – выкупить (будто бы по Ее просьбе) самое дорогое в мире ожерелье. Я слышал, что покойный король заказал его для мадам Дюбарри.
И дальше интрига развивалась удивительно. Сейчас я добавил бы – удивительно похоже на другую пьесу господина Бомарше с названием «Женитьба Фигаро».
Ла Мотт предложила кардиналу свидание с королевой – ночью, в Версальском парке, в роще Канделябров. Это скрытый среди деревьев очаровательный зеленый амфитеатр с огромными бронзовыми канделябрами и крохотными фонтанами, окружающими площадку для танцев.
Вместо Нее на свидание к Рогану пришла некто в маске, безумно похожая на Нее (то ли модистка, то ли шлюха), которая не только многое обещала, но и многое позволила кардиналу во тьме ночи…
Когда Она поняла всю интригу… я никогда не видел ее в таком гневе. Она то задыхалась, то заливалась истерическим смехом, представляя свидание кардинала, то опять впадала в бешеный гнев, вспоминая, на что посмел рассчитывать наглец.
Наконец Она позвала короля и потребовала немедленного ареста и суда над кардиналом. Король умолял Ее не делать этого. И я потом на коленях молил Ее одуматься. Но когда Она чего-то желала…
Вечером после спектакля Она преспокойно отужинала с этим проклятым Бомарше, а наутро кардинала арестовали, когда он шел служить мессу.
И началось то, что было так легко предсказать. Его родственники Роганы и Субизы – древняя, могущественнейшая знать Франции – встали на дыбы. Их клевреты засыпали Париж грязными памфлетами, где писали, что королева попросту «испугалась разоблачений», что Ла Мотт «на самом деле действовала по приказу королевы». Десятки пасквилей о Ее мифических любовниках передавались из рук в руки. И вся эта грязь о королеве Франции вылилась на страну.
Именно тогда мне окончательно показалось, что все это было кем-то придумано – кем-то, кто хорошо изучил ее характер. Это была западня…
И вот теперь, через много лет после случившегося, из полученного мною письма маркиза де С. я узнал правду. И потому еду в Париж – отомстить!
Однако возвращаюсь к изложению событий, последовавших за грязным делом об ожерелье, – к истории моей жизни.
1789—1791 годы. В дни взятия Бастилии и последующих беспорядков я метался между Стокгольмом, куда призвал меня служить мой король, и тонувшим в смуте Парижем, куда звала меня…
28 октября 1791 года. Я был в Стокгольме, когда прискакал гонец из Парижа и сообщил, что, по слухам, голодные толпы готовятся идти на Версаль.
Я все бросил и поскакал во Францию. Загнал в пути нескольких лошадей и прибыл в Версаль при дождливой холодной погоде.
Как опустел «божественный Трианон»! Каждую ночь, грохоча по булыжнику, уезжали кареты. Кареты Ее врагов-придворных и Ее друзей… Вчерашние «наши» во тьме, не прощаясь, спешили покинуть опасный дворец и своих владык. И холодный осенний ветер всю ночь рвал листья с деревьев.
Я приехал вовремя. Именно в эти дни чья-то рука (думаю, рука в перстнях – в заговоре участвовали принцы крови) ударила в барабан. И шесть тысяч «библейских Юдифей» (так они сами себя называли), шесть тысяч голодных женщин с пиками, взятыми из дворца герцога Орлеанского, пошли походом на Версаль.
В тот день с утра шел все тот же ледяной дождь. Они шли ко дворцу, задрав юбки и покрыв ими голову от дождя. Это был галантный поход.
Правда, под юбками у многих «дам» оказались весьма волосатые ноги (в этой толпе было много переодетых мужчин). Но все было безукоризненно срепетировано и точно рассчитано: не мог же французский король и его солдаты, с молоком матери всосавшие: «женщину можно ударить, но только цветком», решиться стрелять в женщин. И толпа беспрепятственно вошла в Версаль.
Я наблюдал встречу короля с посланцами разгневанных голодных парижанок. Король был так галантен, а восторг удостоенных аудиенции рыбных торговок был столь пламенным, что одна даже упала в обморок. Дамам было обещано, что мука из подвалов Версаля с утра отправится в Париж.
Меж тем наступила ночь. И все спокойно уснули.
Но отцы похода (те, кто оставался в Париже) приготовили продолжение…
Пока во дворце мирно почивали, через тайные ходы, которые никто не мог знать, кроме принцев крови, толпа бунтовщиков проникла во дворец. И посреди ночи топот сотен ног разбудил Версаль.
Толпа негодяев бросилась к Ее покоям. Два гвардейца пытались преградить им путь с криком: «Спасайте королеву!» Но совсем не женские руки разом отрубили им головы. Потом я узнал, что Она спаслась, бежав полураздетая через потайной ход в покои короля.
Но утром Ее ждало самое страшное и самое для Нее необычное – публичное унижение. Чернь, заполнившая двор, орала, требовала, чтобы Она вышла на балкон. Я видел, как головы обоих несчастных гвардейцев качались на пиках над вопящей, проклинавшей Ее толпой.
Изменник трону, командир национальной гвардии маркиз Лафайет, сказал Ей, что единственный выход – выйти на балкон с наследником к орущей непотребные ругательства черни. Ей предложили совершить то, что Она презирала всей душой: заискивать перед грязной толпой торговок и переодетых негодяев… Мы обменялись взглядами. В моем Она прочла [зачеркнуто]…
Она вышла. И полетели камни – на балкон, в Нее! Я не мог сдерживаться более, я решил броситься на балкон, хотя понимал, что погублю и себя, и Ее.
Но в тот миг изменник Лафайет (надо отдать ему должное) спас всех: он сделал, пожалуй, единственный жест, могущий спасти положение. Галантный жест – он склонился в изящнейшем поклоне и поцеловал руку королевы.
Вот тогда-то они наконец вспомнили, что перед ними прежде всего красивая женщина (ибо, как я уже отмечал, в толпе было много мужчин). И они закричали то, что и должны кричать французы при виде Прекрасной Дамы: «Да здравствует королева!» Думаю, Она в последний раз слышала эти слова…
Впрочем, через мгновение они уже грозно орали: «Короля и австриячку – в Париж!»
А потом их везли в Париж, и я следовал на лошади рядом с Ее каретой. И мы [зачеркнуто]… Они очутились в заброшенном со времен «короля-солнца» дворце Тюильри. Так они стали пленниками толпы. Она от унижения [зачеркнуто]…
Несколько слов о короле. Благородный и очень замкнутый человек, который долго не мог выполнять супружеские [зачеркнуто]… Он был болен неким предчувствием. Однажды он прямо сказал Ей, что с ним непременно случится великая беда. И поэтому, когда все началось, он с редкостным равнодушием наблюдал крушение своей власти. Она же вдруг совершенно преобразилась, Она начала борьбу. Я не ожидал от Нее этого…
Она жила, как в лихорадке, писала бесконечные секретные письма европейским монархам. Эти безуспешные зовы о помощи отправлялись из Тюильри через мои руки. И я доставлял их государям. Экипаж, повозка или просто конь… такова была в те дни моя жизнь.
Именно тогда, после многих моих просьб, Она решилась на побег. Я поклялся ей, что они благополучно покинут Париж и достигнут границы.
Светает. У меня нет времени излагать всю историю, тем более что я до сих пор не знаю, что случилось. Ведь все было отрепетировано до мелочей! Все было продумано!
К сожалению, король решил везти в одной карете всю семью. Более того, выяснилось, что он хочет взять и свою сестру. И еще: он не может не взять в карету воспитательницу детей герцогиню де Турзель, ибо, согласно этикету, она не может расставаться с детьми Франции. Короче, нужен был какой-то огромный дилижанс. И я достал такой. Но во Франции кареты так красивы и так непрочны, что я сам решил все проверить.
15 июня. И вот тогда – случилось! На Версальской дороге громыхающая огромная карета на полном скаку чуть было не врезалась в экипаж герцога Орлеанского, врага, предавшего своего короля, и кумира (столь недолгого!) парижской черни.
Герцог узнал меня и закричал:
«Вы с ума сошли, мой дорогой граф? Вы свернете себе шею! – Он засмеялся. – Почему-то молодые люди совсем не думают о своей шее!» (Черт любит шутить! Вспомнил ли герцог свою шутку, когда нож гильотины при радостных криках вчера боготворившей его толпы опустился на его шею?!)
«Просто не хочу, чтобы моя карета развалилась в дороге, – ответил я, – а это часто бывает с французскими экипажами. Вот и решил испробовать ее в деле».
«Но зачем вам такая огромная карета? В нее, пожалуй, поместится весь хор Опера».
«Ну уж нет, монсеньор, этих дам я оставляю вам. А в карете будет все мое имущество. Я навсегда покидаю Францию».
«И вы бежите? – сказал герцог насмешливо. – Тогда прощайте, счастливого пути!»
Мне показалось, что он не поверил! И теперь, по прошествии стольких лет, эпизод этот не выходит у меня из головы. Хотя потом все шло так удачно…
16 июня. Шевалье де Мустье, участвующий в побеге, ухитрился проникнуть в Тюильри. Он рассказал мне, что сегодня передал Ей одежду служанки.
Все делалось в строжайшем секрете.
Утром 17 июня русская баронесса Корф, давшая деньги на побег, принесла мне свой заграничный паспорт. История с ее паспортом – моя выдумка. Сначала госпожа Корф сообщила властям, что решила покинуть Париж. Получив паспорт, баронесса написала русскому послу, что случилось несчастье: она собиралась в дорогу, бросала ненужные бумаги в камин и случайно бросила туда и паспорт. Посол тотчас выхлопотал ей дубликат. С ним баронесса и отбыла из Парижа.
По подлинному ее паспорту должна была выехать королевская семья.
18 июня. Шевалье де Мустье в очередной раз совершил чудо – проник в Тюильри, который день и ночь охраняется национальной гвардией. Оказалось, он знает тайный ход. Этим же ходом он провел и меня. Я оставался с Нею три часа и сорок минут.
Я передал Ей «утерянный» паспорт баронессы Корф с разрешением покинуть Париж. Мадам де Турзель должна будет изображать саму баронессу Корф, Она – воспитательницу ее детей, а король – дворецкого баронессы.
Я хотел сопровождать их до границы, но Она объяснила: король не захочет этого.
Взволнованная приближением отъезда, боясь за детей (да и за себя), Она много плакала. И слезы Ее разрывали мне сердце. Король, как обычно, был спокоен, даже апатичен и слушал мои инструкции весьма рассеянно. В последний раз условились о месте и времени встречи, порядке отъезда. Все казалось так ясно…
И все же, несмотря на принятые меры, надо было думать о возможности провала. Было решено, что вслед за ними я покину Париж, отправлюсь в Брюссель, и коли их задержат – начну тут же хлопотать об их освобождении перед другими государями.
Час отъезда приближался. В 6 часов я покинул дворец. «Мсье Ферзен, что бы ни случилось, я не забуду, что вы сделали для меня», – сказал король на прощание.
20 июня. После встречи с герцогом мне казалось, что за мной следят. И оттого весь последний день перед побегом я провел, отвлекая подозрения: в полдень отправился к шведскому послу, потом был на заседании Национального Собрания, где дискутировался весьма насущный вопрос об уничтожении бесправного положения палачей (об этом пожаловался в длинном письме главный палач города Парижа мсье Сансон).
Ночью в одежде кучера я ждал их в карете.
Шевалье де Мустье вывел их из дворца.
Я правил каретой с беглецами вплоть до заставы в Бонди.
По дороге де Мустье рассказал мне удивительные подробности. Оказалось, многое в эти дни придумал мсье Казот. И это он нашел тайный ход… [далее зачеркнуто и вырвана целая страница].
В Бонди я слез. Мы простились. Я долго смотрел вслед карете, уносившейся в неизвестность.
Разлука обещала быть кратковременной. Успех казался достигнутым. В Париже их могли хватиться только утром, когда они должны были быть уже далеко.
22 июня, 6 часов утра. Написал отцу уже из Монса: «Я здесь проездом. Король со всей семьей удачно покинул Париж 20-го в полночь. Я проводил их до первого блокпоста. Даст Бог, и оставшаяся часть пути будет удачной. Я продолжу свой путь вдоль границы, чтобы присоединиться к королю в Монмеди».
Но в тот час, когда я еще надеялся на удачу, все уже было кончено.
25 июня 1791 года. День, когда я узнал, что все погибло. Их схватили!
21 апреля 1799 года. Рассвет. Теперь, через 8 лет, я знаю, кто был в начале Ее несчастий.
Я уезжаю в Париж. Господи, не смею просить о помощи в мести, но должен отомстить. Она бы одобрила? Или нет? Но иначе я не смогу жить далее…
И я увидел…
Полная луна над черепичными крышами. Зеркальная стена комнаты раздвинулась, и показалась Она, опираясь на руку злодея. На лице Ее была та, особая – хмельная радость. И глаза были опущены. Я знал, когда они так блестят… Ее бедное, чувственное сердце… И когда я шагнул из кустов, Она увидела мое жалкое, побледневшее лицо… что-то сказала злодею. И Бомарше церемонно, изящно, как умеют это делать только при французском дворе, раскланялся и пошел прочь по аллее.
Ее нежный смех… И мой голос: «Я ревную вас ко всему… к деревьям, к этой луне, к вашему смеху. Простите меня».
Теперь Она опиралась на мою руку, я чувствовал удары Ее сердца.
Сад был в вечернем тумане. Мы долго шли молча. Наконец показалась голландская деревушка, построенная для Ее забав. Домики выступали из тумана, и, медленно поворачиваясь, являлось из белого дыма мельничное колесо. Скрип колеса, плеск реки… и всюду висел, стелился белый туман. Караульный на дозорной вышке дремал над облаком тумана.
И вдруг туман рассеялся. В просвете облаков показалась огромная желтая луна. И эфес моей шпаги поймал ее свет.
Она чуть пожала мою руку, легонько потянула… и мы вошли в прохладную тьму маленького домика.
«Осторожнее, лестница», – сказала Она шепотом. Заскрипели ступени – Она поднималась наверх, в спальню. И все мучило, все казалось предназначенным другому… Я украл Ее страсть к другому!
А потом лицо… губы… запах волос, упавших на мое лицо… И я все забыл…
Смерть. Страсть. Как смерть.
Это сон… Я записал свой сон – не более! Слуга тихонечко тронул меня за плечо. Теперь я проснулся. Время ехать.
Треуголка, плащ, черная наклеенная бородка… Улицы пусты, рассвет. Я покидаю Вену. Вернусь ли? Это знает один Господь.
На самой границе меня ждал проводник со свежей лошадью. В ночь на 28 апреля 1799 года я благополучно пересек границу мятежной Франции.
2 мая с великими предосторожностями я въехал в Париж при ясной теплой погоде. Я поселился у Люси, своей давней подруги, приемной дочери несчастной герцогини де Грамон, гильотинированной в дни революции. Мы не виделись восемь лет. Люси рассказала мне, что после неудачного побега королевской семьи она чуть не поплатилась жизнью. Кто-то донес о нашей связи, ее арестовали.
В дни террора она ждала смерти в одной камере с Жозефиной, женой гильотинированного генерала Богарне. Гибель Робеспьера спасла обоих. Креолка Жозефина стала женой другого генерала, о котором наслышана нынче вся Европа. Так что у Люси, близкой подруги жены могущественнейшего генерала Буонапарте, я могу чувствовать себя в безопасности. Я ей благодарен.
Ночью она пришла ко мне. Я закрыл глаза. Я не хотел видеть чужое тело. У всех у них – чужое тело…
Я слушал счастливые стоны Люси. Я понял, что мертв. После Ее смерти я мертв, но зачем-то жив…
Потом «птичка Люси» (как звали ее при исчезнувшем дворе) без устали болтала в темноте. Этот самый Буонапарте воевал в Египте, и Люси рассказывала о веселых любовных приключениях подруги-креолки в отсутствие героя-мужа.
Все ужасы революции не смогли изменить этот жалкий легкомысленный народ.
Ненавистный мне народ…»
3
Против воли.