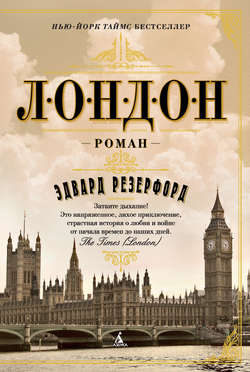Читать книгу Лондон - Эдвард Резерфорд - Страница 7
Распятие
604 год
ОглавлениеЖенщина смотрела на море. Длинные волосы ниспадали на охотничье платье, колеблемое ветром. Ясное осеннее солнце еще пребывало на востоке.
Это последний миг ее свободы. Здесь, в диком уголке, она укрывалась три дня, но теперь была обязана вернуться. И принять решение. Какой ответ дать мужу?
Пришел халигмонат – священный месяц, как называли в языческих северных странах римский сентябрь.
Место, где она стояла, находилось на огромном изрезанном побережье за эстуарием Темзы, где Англия примерно на семьдесят миль вдается в воды холодного Северного моря. Впереди простиралась бескрайняя серая морская гладь. Позади – топи и вересковые пустоши; леса и поля, уходившие к горизонту. А справа – пустынные, протяженные отмели, тянувшиеся к югу на пятьдесят миль до того, как изогнуться и явить широкий вход в Темзу.
Ее звали Эльфгива, что означало на англосаксонском языке «дар фей». Богато вышитое платье выдавало в ней женщину знатную. К тридцати семи у нее народилось четверо сыновей. Она была белокура, с красивым лицом и ясными голубыми глазами. В золотистые волосы вплелись серебряные пряди, но она знала, что сохранила привлекательность. Еще и родить могла. Даже дочь, о которой давно мечтала. Но что в этом толку, если останется неразрешенным это ужасное дело?
Хотя двое слуг, ожидавших с лошадьми, не видели ее лица, искаженного страданием, им были ясны ее чувства. Они жалели ее. Все домочадцы знали о внезапном разладе между господином и госпожой после четверти века счастливого брака.
– Она отважна, – прошептал один грум другому. – Но выстоит ли?
– Только не против господина, – ответил тот. – Он всегда добивается своего.
– Твоя правда, – согласился первый. И восхищенно добавил: – Однако она горда.
Чрезмерная гордость была диковинной для женщины, принадлежавшей к англосаксам.
За последние два столетия на северном острове произошли глубокие перемены. Римская империя пала в результате очередного вторжения, отголоски которого достигли и Англии. После крушения империи Британия перестала быть ее провинцией.
Врата Римской империи часто атаковали варвары, но Рим либо давал им отпор, либо поглощал как наемников и поселенцев-иммигрантов. Однако в 260 году, когда разросшаяся империя распалась на части, обуздывать набеги стало труднее. И вот, году примерно в четырехсотом, многие племена Восточной Европы, подгоняемые ужасными азиатскими гуннами, несметными полчищами потянулись на запад. Процесс развивался постепенно. Тем не менее готы, бургунды, франки, саксы, славянские племена и многие прочие, селившиеся вблизи уже осевших народов, обозначили свои племенные территории, после чего былые устои и цивилизация Западной Европы пришли в окончательный упадок.
Вскоре по наступлении 400 года от Рождества Христова теснимый римский император вывел из Британии гарнизон, направив островным провинциалам лишь хладное послание: «Защищайтесь сами».
Те поначалу справлялись. Да, случались нападения германских пиратов, но города и порты острова были укреплены. А спустя несколько десятилетий там начали прибегать к услугам германских наемников. Однако со временем, когда торговые связи с материком прервались, положение изменилось. Выросли местные вожаки. Наемники осели и разослали своим заморским сородичам письма, в которых указывали на слабость и разобщенность островной провинции.
То были северные германцы – племена из прибрежных районов нынешних Германии и Дании – англы, саксы и прочие, включая, по всей вероятности, родственное племя, известное как юты. В большинстве эти люди были белокурыми и голубоглазыми.
Они буквально наводнили Англию, растекаясь с востока на запад. Иногда им оказывали сопротивление. Году приблизительно в пятисотом от них защитил западную часть страны один римско-бриттский полководец. Имя его было открыто позднее летописцами и положило начало легенде о короле Артуре.
Но, несмотря на эти доблестные попытки сохранить старый римско-бриттский мир, иммигранты превратились в хозяев этой земли через полтора века после своего появления. Овладеть Уэльсом, находившимся далеко на западе, и Шотландией, располагавшейся на севере, им не удалось. Древние кельтское и латинское наречия преимущественно вымерли, за исключением некоторых имен собственных, в частности рек: из Тамесис, к примеру, образовалась Темза. Из колонии развилось несколько славных королевств: англы основали Нортумбрию и Центральную Мерсию; на юге раскинулись саксонские королевства – Уэссекс на западе, Сассекс в центре и Кент на былом полуострове кантиев. Огромный низинный восточный участок земли от Кента и дальше, через эстуарий, разделили надвое: в северной половине обитали англы Восточной Англии, а на юге правил восточносаксонский король Эссекский.
Эльфгива возвращалась к мужу как раз из Восточной Англии.
Там она провела детство и отправлялась туда ежегодно к могиле отца. На этот раз Эльфгива особенно надеялась, что посещение придаст ей сил – так в некотором роде и случилось. Она была счастлива бродить по открытому побережью, где широкие отмели нарушались лишь вытянутыми и сглаженными песчаными дюнами, пока их не накрывали мелкие волны. До чего отраден соленый ветер с моря, порывистый и бодрящий! Гуляла молва, что благодаря ему жители Восточной Англии жили дольше прочих.
Чуть глубже по суше раскинулся погост – ряды могильных холмов в несколько футов высотой средь зарослей дрока и небольших деревьев, верхушки которых стараниями ветров давно стали плоскими. Она провела здесь не один час. Самый крупный холм был отцовской могилой.
Как же она любила отца, восхищалась им! Он пересек все северные моря и взял себе невесту из шведок. Отец был настолько отважным мореплавателем, что дочь похоронила его в лодке при всех регалиях. Ей до сих пор слышался его грудной голос. Покоясь здесь и распустив свою длинную бороду, видел ли он сны о небесных морях? Возможно. Присматривали за ним боги Севера? Она не сомневалась в этом. Разве он не хранил их в крови? Днем Тива, бога войны, был вторник, по римскому календарю отводившийся Марсу; Воден, или Вотан, как звали его германцы, считался величайшим из богов, и день его был серединный, среда; Тунор-громовержец правил четвергом; Фригг, богиня любви, – пятницей, придя на смену римской Венере.
«Мой прапрадед был младшим братом в королевском роду, – напоминал ей отец, – а значит, мы происходим от самого Водена». О своем происхождении от Водена заявляли чуть не все королевские фамилии Англии. Неудивительно, что отец был могуч, черпая силу, казалось, прямо с небес и из моря.
Разве не перешло от нее это наследие к четверым сыновьям, еще когда те покоились в колыбели? Неужто не учила она их тому, что они суть дети моря и ветра, равно как и самих богов? И чем ответил бы отец на постыдное требование ее мужа? Стоя возле могилы, она отлично знала, что бы тот сказал. Именно поэтому поездка хоть и придала ей сил, но не принесла успокоения.
Муж пожелал обратить ее в христианство.
В круге селян у реки стояли бок о бок мужчина и его молодая жена. Оба пребывали в ужасе.
Подобно остальным, чета была одета в простые рубахи и чулки, перетянутые бечевкой. Однако сейчас две женщины уже стягивали чулки с девушки, а затем они собирались снять рубаху.
И злодеяние, и суд, какой уж был, свершились накануне; исполнили бы тотчас и приговор, да деревенский старейшина решил подождать, пока не изловят змею. Теперь имелась и змея.
Дровосек осторожно держал гадюку чуть ниже головы, иногда поднося к костерку, чтобы раздразнить.
Перед девушкой разложили большой мешок, уже нагруженный камнями. Едва раздев, ее принудят забраться внутрь. Затем швырнут туда же гадюку, затянут верх и полюбуются на конвульсии мешка, когда змея ужалит. После по слову старейшины кинут мешок в воду – пускай утонет.
Такое наказание полагалось женщинам за колдовство.
Вина была несомненна: их поймали с поличным. Никто за них не вступился. Понятно, что малый вопил, будто женка ни при чем, но на него можно было не обращать внимания. Перед деянием он вышел из хижины, жена же осталась там. А посему, на взгляд деревни, виновна.
«Она и подбила его», – судили одни. «Не остановила», – рядили другие. Разницы не было. Древние англосаксонские законы, именовавшиеся правдами,[10] отличались суровостью и беспощадностью.
– В мешок ее! – кричал народ.
Молодому человеку, имя которого Оффа, сочувствовали больше, несмотря на окончательный приговор. Никто не мог отрицать, что он выказал силу духа. Факты были просты. Сельский старейшина, человек видный и хитрый, воспылал страстью к юной жене Оффы. Он попытался соблазнить ее и чуть не изнасиловал, но был остановлен ее воплями. На том и конец. Он не причинил ей никакого вреда. Но Оффа с женой любили друг дружку. Оффа не примирился с покушением. В деревне поговаривали, будто он малость спятил.
Если бы он просто отметелил старейшину, вышло бы не так скверно. В подобных случаях можно и откупиться. Отрубишь кисть – лишишься кисти; всю руку – значит, руки. Хоть это означало кровную вражду, семье нередко удавалось заплатить даже в случае смерти. Но Оффа совершил иной проступок. Он, несомненно подстрекаемый женой, днем раньше покинул хижину и воткнул в старейшину булавку. Это была совсем другая статья: колдовство.
Колдуны обычно кололи фигурки, изображавшие жертв, но существовал и иной способ – вонзить булавку непосредственно в обидчика, как и по сей день повествуется в сказке о Спящей красавице, а после просить, чтобы жертва не заснула, но истекала гноем, пока не помрет. В этом-то ужасном злодеянии и обвинили Оффу. Будучи лицом незначительным, парень оказался обречен.
Он был энергичным мужчиной двадцати лет – жилистый, ниже ростом, чем большинство саксонских крестьян-крепышей; с каштановыми волосами против их белокурых, однако с такими же голубыми глазами. Некоторая живость мышления и нрава также выдавала в нем скорее кельтскую, нежели саксонскую кровь. У него были две особые приметы: прядка белых волос точнехонько надо лбом и забавные перепонки меж пальцев обеих рук. Хоть звали его Оффа, селяне даровали ему прозвище Утка.
Прошло полтора века с тех пор, как его предки покинули некогда римский город Лондиниум. Будучи первоначально мелкими купцами, к моменту исхода легионов они служили в народной милиции и с горечью наблюдали упадок города. Они еще оставались там, когда в году четыреста пятьдесят седьмом туда хлынули тысячи жителей Кента, спасавшиеся от орд саксонских грабителей. На сей раз всех защитили могучие стены, укрепленные дополнительными бастионами, а также еще одним валом вдоль побережья, высоким и прочным. Но то был последний час городской славы – начало конца, наступившего очень скоро. Фермерам, заполонившим землю, города были ни к чему. Старый метрополис, лишенный былого значения, пришел в упадок и опустел. Поколением позже семейство Оффы разорилось; следующее устремилось прочь. Дед Оффы промышлял тем, что сделался угольщиком в лесах Эссекса. Отец, веселый малый и бесподобный певец, был принят в это мелкое саксонское селение, где ему дозволили жениться на местной девушке. Деревенские и стали сородичами Оффы, других у него не было.
Деревушка была маленькая – буквально поляна, однако возле ручья. Одного из многих потоков, что неприглядно вились по лесам и болотам к низовьям Темзы. Стояло несколько сирых хижин, крытых соломой; имелся длинный деревянный амбар; два поля: одно готовое к жатве, другое под паром. А еще – луг и участок открытой травы, где праздно паслись четыре коровы и лохматая лошаденка. У берега виднелась лодка, выкрашенная черным. Вокруг уныло высились дубы, ясени и буки. В лесной траве-мураве рылись свиньи, охочие до орехов и желудей.
Дорога от Лондиниума к восточному побережью, некогда построенная римлянами, проходила лишь в миле отсюда, но ныне она полностью заросла. Однако селение не было полностью отрезано от людей, ибо оставались извилистые лесные тропы, а через ручей жители перекинули небольшой деревянный мост – для удобства случайных путников.
Юный Оффа был из числа беднейших селян. Он не располагал полноценным крестьянским наделом. Ухаживая за невестой, предупредил ту, что владеет сущими грошами – четвертью оного. Пропитания ради он батрачил на других. Но все же был свободным человеком. Саксонский крестьянин, житель деревни. Однако вот же – его жену утопят, а ему уготовили кару похуже смерти.
– Пусть носит волчью голову, – возгласил старейшина.
Ему суждено уподобиться волкам и жить в лесу – без товарищей, в одиночку. Изгоем. Это было страшное наказание, припасенное для вольного лица. Изгой не имел никаких прав. Старейшина, пожелай он того, мог убить его без всяких помех. Его не приютит ни единая душа окрест. Ему предстояло бродить где попало и выжить или подохнуть – на его усмотрение. Такой была англосаксонская правда.
Рикола, его жена, осталась обнаженной. Она взглянула на него. Бодрое, округлое лицо Оффы было белее мела. Он знал, что жена любит его, но в глазах ее читалось одно: это твоих рук дело – я умру, а ты останешься жить.
Мужчины глазели на нее. Им было не удержаться. В конце концов, она обладала прекрасным юным телом. Розовая и белая плоть, небольшой детский жирок, мягкие юные груди. Двое мужчин растянули мешок. Третий, державший наготове гадюку, ухмылялся.
– Воден, – пролепетал молодой человек, – спаси нас!
И в отчаянии огляделся.
Нет, их жизни не могут оборваться вот так запросто.
Эльфгива и ее свита медленно продолжали путь. Они были в пути уже день, а она все еще пребывала в смятении. Дело было не только в отказе от веры, хотя для нее и не существовало ничего дороже. Имелось кое-что иное: дурное предчувствие. И чем ближе она подъезжала к дому, тем сильнее оно становилось. Что это значило? Не было ли оно посланием от богов?
Тучи ввергали ее в глубокое уныние. Они обогнали процессию и теперь закрывали солнце. Путники проезжали по дикой местности: подлесок, выжженная трава, бурый папоротник-орляк. Эльфгива погрузилась в задумчивость. Она вспомнила отцовские слова, произнесенные много лет назад. «Когда странник собирается в путь, он готовит корабль, намечает маршрут и ставит парус. Что еще ему делать? Но он не знает исхода – ни бурь, с которыми встретится, ни земель, которые откроет, ни того, вернется он или нет. Это судьба, и до́лжно ее принять. Никогда не надейся убежать от судьбы».
Англосаксы называли ее словом «вирд». Вирд был незрим, но правил всем. Ему подчинялись даже божества. Они были актерами, вирд – сказителем. Когда громы Тунора гремели в небе и отдавались в горах, за небесами пребывал вирд, содержавший это эхо. Он не был ни плох, ни хорош – непостижим. Он постоянно ощущался в земле, неспокойном море, ноздреватом небе. Вирд известен любому англосаксу и норманну; он правил жизнью и смертью, сообщая их песням и виршам неизбежный фатализм.
Одной судьбе ведомо, чему назначено быть и когда Эльфгива увидится с мужем.
– Увижу его и решу, что сказать, – пробормотала она вслух.
Этой ночью женщина решила обратиться с молитвами к Водену и Фригг.
Двигаясь лесом, процессия дошла до глубокого ручья. Эльфгива поняла с досадой, что, если пуститься вброд, они промокнут насквозь, и несколько минут искала переправы получше. Именно тогда, близ небольшого моста, она разглядела странное сборище и направила коня легким галопом.
Мгновением позже потрясенный Оффа обнаружил, что взирает на красивую даму, которая волей богов явилась из леса верхом на изящном скакуне.
– Что она натворила?
Дама с любопытством смотрела на обнаженную девушку. Старейшина поспешил объяснить. Эльфгива окинула взором толпу и вздрогнула при виде змеи и мешка. Затем осторожно вновь глянула на юную чету. Она совершенно случайно наткнулась на эту лесную деревню. Каков был промысел, приведший ее сюда? Возможно, ей предстояло выступить спасительницей. При взгляде на пару ее личные треволнения показались не столь ужасными. Она испытала даже некоторую зависть. Они были молоды. Юнец, похоже, любил девицу чуть ли не до безумства.
– Что вы хотите за них?
– Госпожа?
– Я покупаю их. Как рабов. Я заберу их с собой.
Старейшина замялся. Действительно, человека могли обратить в рабство за некоторые преступления, но в данном случае он не знал, какая правда окажется подобающей.
Эльфгива вынула монету из поясного кошеля. У саксов не было своих денег, но они пользовались теми, что доставляли через Английский канал торговцы. Монета сверкнула золотом. Вся деревня уставилась на нее. Мало кто видел такое прежде, однако старейшина и еще несколько человек смекнули, насколько она ценна.
– Вам оба надобны? – осведомился старейшина. Он предпочел бы увидеть голую девку в мешке со змеей.
– Да.
Старейшина мигом понял, какого решения ждут селяне, а потому подал женщине знак отпустить девушку, которая спешно принялась одеваться.
– Обрежьте им волосы, – велела Эльфгива слуге.
Так метили всех рабов, но Оффа с женой оказались настолько потрясены случившимся, что кротко подчинились. Когда дело было сделано, Эльфгива вручила старейшине монету и повернулась к молодой чете.
– Отныне вы принадлежите мне. Следуйте за мной, – приказала она и направила коня через мостик.
Какое-то время они двигались в молчании. Оффа отметил, что всадники держат путь почти прямиком на запад.
– Госпожа, – почтительно обратился он, – куда мы идем?
Эльфгива лишь коротко мотнула головой.
– Вряд ли вы слышали об этом месте. Всего лишь мелкий торговый пост, далеко отсюда, – улыбнулась она, – называется Лунденвик. – И она снова отвернулась.
Как бы ни рассудила судьба окончательно, не приходилось сомневаться, что тем утром участь Эльфгивы была в железных руках могущественного лица, которое, неведомо для нее, в тот самый момент ехало в точности параллельно ее маршруту всего в двадцати милях южнее.
Все знавшие ее мужа сошлись бы в следующем: она отважна, но ей далеко до мужа. Два события – одно произошло накануне, другое Сердик наметил на следующее утро – укрепили бы их во мнении: «Ничего у нее не выйдет».
Сердик неуклонно продвигался вперед. Пусть по прямой он находился всего в каких-нибудь двадцати милях, он с тем же успехом мог пребывать за тридевять земель. Путь его лежал по другой стороне эстуария Темзы вдоль великих меловых хребтов королевства Кент.
Два края эстуария несказанно разнились. Если огромные пределы Восточной Англии представляли собой равнину, то более узкий полуостров Кент разделялся массивными гребнями, что уходили на восток до места, где они резко обрывались и нависали над морем высокими белыми скалами. Между грядами простирались обширные долины и населенные области: восточнее – холмистые, открытые поля; на западе – леса и кустарник, поля поменьше и фруктовые сады.
Если Эльфгива была уроженкой дикого, вольного побережья, то Сердик происходил из чинного Кента. И в том заключалась разница.
Семья его обосновалась в Кенте во времена первых поселений саксов и ютов. Западные владения оставались им родным домом, но Сердик в молодости обзавелся и вторым на реке Темзе при маленькой фактории под названием Лунденвик. Оттуда он вел речную торговлю, оттуда же с вьючными лошадьми объезжал все области острова. Благодаря купеческому промыслу он по-настоящему разбогател.
Человек он был крупный, широколицый; сакс до мозга костей – светловолосый, голубоглазый, не без норова. При густой бороде шевелюра у него редела, а кожа была такая, что гнев его не мог остаться незамеченным – он мог побагроветь вплоть до апоплексического удара. Одновременно его широкое германское лицо с высокими скулами выдавало рассчитанную, даже холодную силу и властность. «Силен как бык, но крепок как дуб», – говаривали о нем. Опять же по общему мнению, его век обещал быть долгим, как и отцовский. «Слишком сметливые, чтоб помереть в спешке, такая кровь».
Особенно сохранились в Сердике еще две черты, неизменно яркие в его предках. Во-первых, дав слово, он никогда его не нарушал. А это качество для торговца бесценно.
Вторая же, хотя и бывала причиной тайных насмешек со стороны его друзей, внушала чаще благоговение и даже страх. Любой вопрос решался Сердиком или так, или этак, третьего не дано. О чем бы ни заходила речь – об образе действий, характере человека, вине и невиновности, – ответов было лишь два: правильный и неправильный, без всяких полутонов. Если он останавливался на чем-то, то разум его, весьма развитый, захлопывался на манер железного капкана. «Сердик знает только черное и белое, о сером не ведает», – говаривали в его окружении.
Все это не сулило его жене ничего доброго. В настоящий момент Сердик возвращался от двора своего бессменного господина, славного короля Этельберта Кентского, пребывавшего в городе Кентербери.
Где жили христиане.
Во времена, когда Юлий, предок юного Оффы, подделывал монеты в римском Лондиниуме, христианство являлось неофициальным культом, адептов которого иногда подвергали гонениям. В веке же следующем, благодаря обращению императора Константина, оно стало государственной религией, а Рим – христианской столицей. В Британской провинции, как и везде, возвели церкви, зачастую – на местах языческих храмов. Британская церковь пользовалась известным влиянием. Даже спустя десятилетия после ухода с острова римлян местные епископы продолжали посещать удаленные церковные соборы. «Впрочем, мы оплатили им дорожные расходы, – докладывали итальянские священнослужители, – ибо они несказанно бедны».
А затем пришли англосаксы, закоренелые язычники. Британские христиане сопротивлялись, затем оказались отрезаны от Рима, а потом и вовсе притихли. С тех пор прошло больше века.
Не все оказалось потеряно. Миссионеры прибывали. Из Ирландии, недавно обращенной святым Патриком, явились кельтские монахи – пылкие духом, искусные в ремеслах. На севере острова, невдалеке от границы со скоттами, возникли монастыри. Тем не менее бо́льшая часть Англии оставалась верной древним северным богам. До недавних пор.
Ибо в 597 году от Рождества Господа нашего папа отрядил монаха Августина обращать англосаксов в истинную веру. Миссия привела его прямиком в Кентербери, на юго-восточный полуостров Кент.
Место было, безусловно, удобное. Кентербери, расположенный на малом холме в составе возвышенности посреди полуострова, еще с римских времен выступал узлом, соединявшим кентские порты, отделенные от Европейского материка лишь двадцатью милями пролива, – тот же Дувр. Для прибывавших из Европы Кентербери был местом первостепенного значения. Но много важнее географии было то обстоятельство, что славный король Этельберт Кентский, имевший там главную резиденцию, сочетался браком с франкской принцессой, подданные которой уже получили крещение. Именно присутствие сей христианской королевы привлекло Церковь в Кентербери и обеспечило ей возможность существовать и расти. В ту эпоху для обращения бытовало простое правило: «Наставь короля. Остальное приложится».
– Тебе же, мой добрый Сердик, мы знаем, можно доверять безгранично.
Лишь только вчера седобородый король Этельберт возложил ему длань на плечо, королева Берта одобрительно улыбнулась. Конечно, они могли на него положиться. Разве не были его предки верными соратниками первых кентских королей? Не обменялись ли король Этельберт и его отец кольцами – сокровеннейшим залогом между властителем и его подданными?
– Мы всегда и бесконечно рады тебе при нашем дворе в Кентербери, – произнесла королева.
Согласно древним традициям, двор кентского короля представлял собой местечко без излишеств. Место, где при римской власти располагались скромный форум, храм, бани и прочие каменные строения, теперь было обнесено высоким частоколом, за которым по центру выросло длинное здание, смахивавшее на сарай, с бревенчатыми стенами и высокой соломенной крышей. То было жилище короля Этельберта. Неподалеку, за оградой, виднелась намного более примечательная постройка. Хотя она тоже напоминала сарай и была меньше королевской резиденции, но ее возвели из камня.
Кентерберийский собор строился под личным контролем монаха Августина. Возможно, это было единственное каменное здание в сегодняшней англосаксонской Британии. Несмотря на чрезмерную простоту, оно знаменовало собой поворотную точку в истории острова.
– И ныне, когда оплотом для нас стал Кентербери, – горячо произнесла королева, – мы можем всерьез приступить к миссионерской деятельности. – Она улыбнулась мужу.
– Смотри, – пояснил король, – положение делает тебя особенно полезным.
Теперь Сердик постиг амбициозность плана, охватывавшего прочую часть острова. Миссионеры намеревались освоить восточное побережье в северном направлении. Однако первейшей задачей было обезопасить оба берега эстуария Темзы, что предполагало обращение в христианскую веру эссекского короля.
– Он мой племянник, – растолковал король Этельберт, – и выразил согласие креститься из уважения ко мне. Но, – помрачнел он, – у него есть приближенные, с которыми будет труднее. – Король вперил в Сердика жесткий взгляд. – Ты верный сын Кента и торгуешь из Лунденвика, который находится на северном берегу и относится к королевству моего племянника. Я хочу, чтобы ты оказал миссионерам всю посильную помощь.
– Непременно, – кивнул Сердик.
– Там будет новый епископ. И новый собор, – с энтузиазмом подхватила королева Берта. – Мы порекомендуем тебя епископу.
Сердик склонился. Затем, подумав о многочисленных резиденциях эссекского монарха, осведомился:
– Но где же хочет построить церковь этот епископ?
Король лишь рассмеялся:
– Я вижу, ты так и не понял, мой дорогой друг. – Он улыбался, но глаза оставались серьезными. – Собор возведут в Лунденвике.
В тот день Сердик достиг места назначения лишь далеко за полдень. Покинув Кентербери, он отправился старой римской дорогой – теперь сплошь заросшим бурьяном трактом. Она проходила вдоль северного края полуострова, пока не достигала устья реки Медуэй, где находилось скромное саксонское поселение, известное как Рочестер. Здесь Сердик, вместо того чтобы продолжить путь по римской дороге до бывшего города Лондиниума, свернул вглубь, поднялся на крутой гребень, тянувшийся через северную часть полуострова, и, немного проехав, очутился на южном краю возвышенности. Там он улыбнулся, ибо добрался до дому.
Имение, служившее домом семье Сердика на протяжении последних полутора столетий, располагалось сразу под гребнем великого хребта. Оно состояло из деревушки и находившегося поодаль жилого строения, крытого соломой, возле которого вокруг двора стояли деревянные вспомогательные постройки. От этих построек нисходил в долину протяженный склон, живописно поросший лесом. Это место называлось Боктон.
Боктонское имение было обширно: поля, яблоневые сады и плодородные дубравы. Еще имелся заброшенный с римских времен карьер, где некогда добывали кентский крупнозернистый песчаник.
Но главной прелестью, неизменно вызывавшей на суровом лице Сердика улыбку сладчайшего довольства, была панорама: к югу от Боктона открывался вид на широкую долину с великолепным лесным массивом на двадцать миль поперек, известным как кентский Уилд. Эта панорама, одна из лучших в Южной Англии, открывалась из Боктона и нескольких других поместий, расположившихся вдоль протяженной гряды. И Сердик, заявив «вот я и дома», имел в виду не только собственно дом, но и сей грандиозный вид на Уилд, хранившийся в его сердце.
Однако нынче он здесь не ради вида. Утром ему предстояло нанести визит в другое имение, неподалеку. И о цели визита он не сообщил никому.
Скорость, с которой Оффа и Рикола оправились от перенесенного испытания, поистине удивляла. Подобно щенятам, свалившимся в пруд и живенько отряхнувшимся, молодая чета смирилась со своим положением и восстановила присутствие духа еще до того, как достигла нового дома.
– Мы не задержимся в рабах, – внушил жене Оффа. – Я что-нибудь придумаю.
И Рикола вполне поверила ему, хотя из них двоих была более практичной.
На следующий день после прибытия Оффу отправили на луг помогать собирать урожай.
– Будешь под началом у мужниного десятника; делай все, что он скажет, – объяснила Эльфгива, хотя Оффа считался ее личным рабом и должен был явиться по первому зову.
Риколу отослали помогать женщинам.
Поначалу чета оказалась слишком занята, чтобы предаваться раздумьям. Но все же у Оффы было время понаблюдать, и он остался доволен увиденным. Спору нет, маленький торговый пост в Лунденвике – замечательное место.
Оно, конечно, не имело большого значения. Брод, находившийся неподалеку, был удобен для перехода через реку, но относился к ничейной земле между саксонскими королевствами Кент и Эссекс и в прочем смысле был ни к чему.
Когда саксы наконец основали здесь небольшое поселение во времена отца Сердика, они оставили без внимания величественные руины Лондиниума на соседних холмах-близнецах. Не привлекла их и заболоченная местность по течению выше, близ острова и брода. Они и впрямь выбрали место удобное, точнехонько между островом и бродом, где река поворачивала, а северный берег спускался к воде футов на двадцать. Здесь они выстроили единственный причал. Пристань эту теперь именовали Лунденвиком: «Лунден» – от старого кельтско-римского названия, а «вик» на англосаксонском означало «порт» или, в данном случае, факторию, торговый пост.
Над деревянным молом теснились постройки: амбар, загон для скота, две лавки и усадьба Сердика с его домочадцами, окруженная прочной плетеной изгородью. Все эти строения были одноэтажными и по большей части прямоугольными. Стены из кольев и досок высотой всего в четыре-пять футов снаружи были укреплены земляными насыпями, покрытыми дерном. Однако крутые соломенные крыши возносились чуть ли не на двадцать футов. В каждом здании имелась прочная деревянная дверь. Пол обители Сердика немного утопал, ступать приходилось по доскам, крытым тростником. Внутри было тепло и уютно, но довольно темно, так как при запертой двери свет проникал лишь через отдушины в крыше, сделанные для выхода дыма от каменного очага посреди комнаты. Все домочадцы трапезничали именно здесь. Возле усадьбы стояли маленькие хижины, в самой крохотной из которых поселили Оффу и Риколу.
И сколь же прекрасно оказалось это местечко! Травянистый северный берег был достаточно высок, чтобы открылся достойный вид на великий изгиб реки вкупе с болотами на противоположном берегу. Справа, меньше чем в миле, проходил брод, тогда как слева, на том же расстоянии, среди деревьев угадывались внушительные римские руины на двух холмах. От них через реку тянулась к южному берегу гравийная коса. «Лучшее рыболовное место», – сообщил Оффе один из мужчин. От крепкого же римского моста, соединявшего некогда эти участки, осталось лишь несколько гнилых свай на южной стороне.
Оффа нашел Лунденвик невеликим, но вскорости открыл, что дела в нем кипели. «Хозяин проводит здесь времени больше, чем в Боктоне», – сказали ему. Из глубины острова прибывали лодки. По мере же того как Сердик наращивал свою деятельность, суда могли достигать самого эстуария, являясь из краев норманнов, фризов и германцев. На складах Оффа обнаружил посуду, тюки шерсти, красиво сработанные мечи и саксонские изделия из металла. Имелись в поместье и псарни. «Охотничьи собаки у нас нарасхват», – пояснил десятник. Однако еще занятнее оказалось строение, стоявшее чуть особняком. Как прочие склады, то была крепкая хижина с соломенной крышей, но длинная и узкая, а крыша почему-то низкая, так что едва хватало места выпрямиться. У каждой стены виднелись загончики будто бы для свиней или мелкой живности. К этим загонам крепились цепи.
– А цепи зачем? – осведомился Оффа.
Десятник покосился на него и негромко ответил:
– Для главного товара. На нем-то хозяин и богатеет.
И Оффа понял. Остров вновь, как было еще до римлян, прославился рабами. Ими торговали по всей Европе. Если на то пошло, то непосредственно перед отсылкой на остров монаха Августина сам папа при виде на римском рынке белокурых английских рабов изрек знаменитую фразу: «Не англы, но ангелы суть».
Рабов было много. Встречались проигравшие в усобицах между разными англосаксонскими королевствами; попадались преступники. Но бо́льшую часть ввергли в рабство не войны и даже не набеги жестоких работорговцев, но собственная нежеланность: их продавали сородичи, потому как в трудные времена бывало не прокормить.
– Фризы нагружаются ежегодно, – заметил десятник и добавил с ухмылкой: – Тебе свезло: тебя купила хозяйка, а не хозяин, иначе отправился бы уж следующим кораблем!
Сердик выдвинул Эльфгиве ультиматум на второй день после своего возвращения. Он сделал это с глазу на глаз. О разговоре не знали даже сыновья. Слова его были настолько же грубы, насколько просты.
– Если не подчинишься, возьму другую жену.
– Ко мне в придачу?
– Нет. Вместо тебя.
И Эльфгива уставилась на него, мучимая болью тупой и ужасной, ибо знала, что он не шутил.
Он был в своем праве. У англосаксов существовали немудреные законы насчет женщин. Эльфгива принадлежала мужу. За нее заплатили. Он мог по желанию прирасти и другими, а если бы она изменила ему, Сердик не только вышвырнул бы ее вон, но и получил бы компенсацию от обидчика – новую супругу. Однако вздумай он заменить ее, такое тоже разрешалось.
Нельзя сказать, чтобы решительно все саксонские женщины пребывали в угнетении. Эльфгива знала жен, которые полностью подчинили себе мужей. Но это не меняло дела: закон, прибегни к нему Сердик, был на его стороне.
– Тебе выбирать, – растолковал он. – Когда прибудет этот епископ, покрестишься с сынами заодно. Если откажешься, я буду волен поступить как пожелаю. Все остается на твое усмотрение.
Сердик действовал правильно, в полном согласии с моралью. Для него вопрос не стоил выеденного яйца. Как верный подданный короля Этельберта, он перешел в христианство, приняв крещение в этом же году. И хотя Сердик сочувствовал жене, он считал прямой обязанностью Эльфгивы поступить так же по его просьбе. То обстоятельство, что они много лет прожили в любви, лишь усугубляло вероломство ее отказа. Чем больше он думал об этом, тем яснее ему становилось: существовало два пути: правильный и неправильный, черный и белый. Обязанность Эльфгивы очевидна. Нравилось это кому или нет, а говорить было больше не о чем.
Сердик оставался в неведении насчет неодобрения, с которым христианская Церковь взирала на многоженство и развод. Католические миссионеры были не только бесстрашны и глубоко преданы вере, но и мудры, а потому в вопросах древних обычаев предпочитали держаться простого правила: «Сперва обратим их в истинную веру, а после уж примемся за привычки». И сменится немало поколений, прежде чем Церковь сумеет отвратить англосаксов от полигамии.
Девушка, которую он прочил на место Эльфгивы, была молода и приходилась дочерью такому же, как Сердик, хозяину славного имения невдалеке от Боктона. «Я полагал ее для кого-нибудь из твоих сыновей, нежели для тебя», – мягко заметил накануне отец, когда днем раньше Сердик беседовал с ним. Действительно, такая тайная договоренность между ними существовала. Если Сердик откажется от жены, то девушка пойдет за него; если нет, то за его старшего сына. Она была милая, благоразумная и совсем еще юная саксонка, любившая упорядоченную жизнь Кента, которому принадлежала всей душой. Она также согласилась принять крещение.
Надо было на такой и жениться, думал Сердик, покуда ехал из Боктона в Лунденвик. С ней не было бы хлопот, как с Эльфгивой, с ее дикими восточноанглийскими нравами.
Опять же девица молода. Не в том ли дело? Разве не ощутил он себя неожиданно юным, помолодевшим в присутствии этой свежей пятнадцатилетней красотки, которая могла принадлежать ему? Возможно. Не опасался ли Сердик втайне утратить былую силу? Нет, его еще хватит надолго. Он напомнил себе, что Эльфгиве было бы нечего бояться, веди она себя, как приличествовало жене.
Так вот и вышло, что Эльфгива выслушала этот унизительный ультиматум молча и с понуренной головой. Даже не спросила, кто была другая женщина. Она вообще ничего не сказала.
На следующий день после беседы с Эльфгивой Сердик решил разобраться с сыновьями.
В известном смысле ему не терпелось. Хотя он нисколько не сомневался в их послушании, но был бы разочарован, не встретив хоть малого сопротивления.
«Недоросли, бугаи, – сказал он себе. – Думаю, мне покамест по силам их приструнить».
Он все изложил жестко, прямо на улице перед домом. На этом этапе он предпочел умолчать о своей угрозе их матери, но сообщил о прибытии епископа и требовании короля Этельберта.
– Мы его подданные, – напомнил он. – Поэтому вы, как я, примете эту новую религию.
Четверо юношей неловко топтались. Он видел, что они уже обсуждали дело промеж собой, так как теперь дружно поворотились к старшему, дюжему детине двадцати четырех лет, который заговорил от их имени:
– В том ли наш долг, отец, чтобы отречься от наших богов во имя короля?
– Боги короля – наши боги. Я его слуга. Король Эссекский уже пообещал последовать за королем Этельбертом, – сказал Сердик, желая приободрить их.
– Мы знаем. Но слышал ли ты, что сыновья короля Эссекского отказываются последовать примеру отца? Они говорят, что не станут исповедовать этого нового бога.
Сердик побагровел. Нет, он не слышал об этом, но намек уловил хорошо.
– Эссекские принцы поступят по воле отца, – заявил он твердо.
– Как можешь ты просить нас почитать этого бога?! – взорвался вдруг старший. – Говорят, он позволил пришпилить себя к дереву и погиб. Что это за бог? Неужто нам отречься от Тунора и Водена ради того, который не сумел за себя постоять?
Сердик и сам неважно разбирался в христианстве, и это обстоятельство смущало его не меньше.
– Отец Христа умел насылать потопы и разводить моря, – заверил он сыновей. – Король же франков, с тех пор как принял христианство, одержал славные победы. – Но Сердик видел, что это не произвело на них впечатления. – Это ваша матушка постаралась, – буркнул он и взмахом руки отослал их прочь.
Неделей позже Эльфгиве было знамение.
Она отправилась верхом с младшим сыном Вистаном. Как часто бывало, она поехала недалеко – до острова близ брода, повторяя изгиб реки. Ей нравилось там. Маленькая римская вилла на старом острове друида сгинула, и все заросло, за исключением тропы, которая тянулась к броду. Саксы называли остров Торни, ибо он славился ежевикой. Возможно, именно запустение влекло сюда Эльфгиву.
День выдался погожий, небо чистое, с редкими белыми облачками, бросавшими легкие тени на реку. Поскольку задувал довольно холодный ветер, Эльфгива закуталась в тяжелый плащ бурой шерсти. Левая рука в толстой кожаной перчатке была воздета; в нее вцепилась когтями хищная птица с изогнутым клювом и в клобучке.
Как многие англосаксонки ее положения, Эльфгива любила соколиную охоту. На Торни ей часто везло. И ей нравилось видеть при себе Вистана. Ему всего шестнадцать, но из всех сыновей он больше походил на нее. Покладистый и добродушный, юноша с готовностью шел с братьями на охоту, однако не меньше нравилось ему бродить и в одиночестве. А то еще садился и вырезал из дерева, в чем был большой мастер. Эльфгива подозревала, что он же и любил ее пуще других. Знала она и то, что если трое его братьев просто ершились насчет религии, то этот и в самом деле был глубоко озабочен. Поэтому она воспользовалась возможностью призвать его: «Покорись отцу, Вистан! Это твой долг».
Когда он ответил, что только на пару с ней, она печально покачала головой: «Это другое дело. Я старше». – «Значит, откажешь ему?» – спросил сын, но она пока не дала ответа и обратилась к охоте, ибо они прибыли на Торни.
Стоило ей сдернуть клобучок, Эльфгива задохнулась от колдовской красоты желтоватых соколиных глаз. В мгновение ока расправив крылья, сокол взлетел; она же проследила за ним, завидуя его вольнице.
Тот пребывал высоко в небесах – свободный, подобно ветру над водами. Он парил, вбирая ветер, как парус; затем бесшумно упал, сбивая добычу.
Эльфгива смотрела, как сокол хватает птицу. Увидев незадачливую жертву, беспомощно бившуюся в когтях, она испытала внезапную скорбь и тяжкое предчувствие. Сколь жестока и преходяща жизнь! И тут она поняла, осененная вспышкой предельной ясности.
Паривший в воздухе сокол был свободен. То же и Сердик. Разницы никакой, даже если новое божество являлось для него не только поводом порвать с ней, а она не сомневалась, что дело было в этом и больше ни в чем. Что-то ему вступило. Он сделал шаг от нее к свободе, а коли так, то в итоге возобладает природа – жестокая, но неотвратимая. Она подумала, что даже если уступит сейчас, через год или два муж изыщет что-нибудь новое. «Или оставит меня, но будет брать в жены кого помоложе. Я окажусь поверженной, как эта птица в соколиных когтях. Не потому, что Сердик жесток, а потому, что он, подобно соколу, не властен над собой».
То был вирд. Она знала это всей древней, языческой мудростью нордических богов.
Что же ей делать? Не сдаваться. В конце концов, если от нее избавятся за верность богам, останется хотя бы достоинство. Подняв глаза на сокола, спускавшегося с лазурных небес, она издала про себя вопль, веками свойственный замужним женщинам: «Если мне нет любви, сохрани честь!»
На обратном пути Эльфгива удовольствовалась вторичным призывом к Вистану: «Что бы ни случилось, пообещай мне повиноваться отцу». Говорить большего она не хотела.
Оффа был полон планов, но неожиданно тоже натолкнулся на препятствие – свою жену.
В Лунденвике он провел десять дней. Однажды Вистан с братом отплыли вверх по течению за товарами из хозяйства, отстоявшего на несколько миль, и Оффа отправился с ними. Увиденное привело его в восторг. Вскоре за поворотом, когда брод остался позади, берега рассыпались в целую сеть заболоченных островов.
– Справа Чок-Айленд, – сообщил ему Вистан.
Однако на англосаксонском слово «айленд» («остров») произносилось как «ай», а «Челч-Ай» (Chelch Eye) звучало примерно как «Челси» (Chelsea).
– А напротив Бадрикс-Ай.
А это название в дальнейшем стало звучать как «Баттерси».
Оффа открыл, что эти острова находились повсюду вдоль топких берегов Темзы и попадались даже мелкие, по сути – грязевые проплешины.
Здесь уже развелось множество крошечных селений – тут крестьянское хозяйство, там деревушка. Они тоже носили типичные саксонские названия: «хэм» – ham, – если речь шла о деревушке; «тон» – ton, – если о крестьянском хозяйстве, а «хит» – hythe – означало гавань. Вскоре за Чок-Айлендом Вистан вновь кивнул на северный берег, где над деревьями поднимался дымок.
– Это Фуллас-хэм, – объяснил он. – А вон там, – он указал на местечко повыше в паре миль севернее, – Кенсингс-тон.
Однако на Оффу, пока они забирали вверх по реке, произвело наибольшее впечатление буйное изобилие окрестных земель. За илистыми топями и болотами открылись луга и пастбища, вдали же виднелись пологие холмы.
– И далеко так тянется? – осторожно спросил он у Вистана.
– Да. Думаю, до самого верховья реки.
А потому, вернувшись вечером, Оффа сказал Риколе:
– По-моему, нам удастся удрать, когда будешь готова. Вверх по реке. Там здорово. Если заберемся подальше, нас обязательно где-нибудь примут.
Но та, к его удивлению, категорически воспротивилась.
Жена была еще весьма юна, но Оффа успел заметить в ней живую независимость духа, которую нашел привлекательной. С мужчинами она наладила дружескую легкомысленную болтовню. Однажды, к его ужасу, она даже отпустила колкость в адрес десятника, но столь добродушно, что тот лишь покачал головой и улыбнулся.
– Уж эта-то глупостей не потерпит, – смеялись мужчины.
Оффа поэтому и решил, что она грезит свободой не меньше, чем он. Но ошибся.
– Ты спятил, – заявила она. – Какого рожна тебе понадобилось в лесу? Хочешь, чтобы нас волки сожрали?
– Это не лес, – возразил он. – Не то что Эссекс.
Она помотала головой:
– Совершенно незачем!
– Но мы же здесь в рабстве! – раскипятился Оффа.
– И что с того? Кормят хорошо.
– Неужто тебе на волю не хочется? – возопил он.
И тут она удивила его всерьез:
– Не очень. – Видя его изумление, Рикола продолжила: – Какой в этом прок? В деревне мы были свободны, и меня чуть не утопили на пару со змеей. – Ее передернуло. – Если сбежим, то свободными все равно не станем. Мы вне закона. Откровенно говоря, – улыбнулась она, – быть здесь рабами не так уж плохо. Ты не согласен?
Конечно, он не мог отрицать ее правоту, продиктованную житейским здравомыслием. В каком-то смысле оно было так. Но юноша, не умея изъясняться умными фразами, все же имел представление о независимости, которое оказывало на него сильнейшее влияние. Это было нечто первобытное, вроде потребности рыбы плавать в море.
– Я не хочу быть рабом, – сказал он просто, однако на время их спор иссяк.
Вскоре он нашел себе другое занятие. Через несколько дней после речного путешествия кое-кто из мужчин отправился на южный мыс порыбачить. Оффе, показавшему себя усердным тружеником, разрешили пойти с ними.
Место и впрямь было отличное для рыбалки. Коса, далеко выступавшая в Темзу, достаточно поросла кустарником и подлеском, чтобы укрыть рыбаков, которые ставили сети и забрасывали леску с наживкой. Оффа отчетливо видел серебристых рыб, скользивших в прозрачной воде. В действительности же его внимание привлекла не вода. Перед ним, более не скрытая деревьями, раскинулась огромная сокрушенная цитадель, когда-то бывшая Лондиниумом.
Вид был замечательный. Хотя приречная стена, возведенная последними жителями города, пришла в плачевное состояние, другая, береговая, еще стояла, и в этом огромном кольце дыбились призрачные руины, тянувшиеся через холмы-близнецы.
– Диковинное место, – заметил один из мужчин, проследив за взглядом Оффы. – Говорят, его построили великаны.
Оффа промолчал. Хотя он знал все куда лучше.
В его большей, чем саксов, осведомленности насчет римского города не было ничего удивительного. Семейство Оффы покинуло опустевший город всего четыре поколения назад. И хотя они с отцом имели лишь самое смутное представление о том, как тот выглядел, Оффа всегда знал, что город был огромен и вмещал великолепные каменные здания. Ему было известно и кое-что еще. По правде сказать, то была лишь семейная легенда, как всякое устное предание, манящая смесь истины и домыслов. Однако эти нехитрые и любопытные сведения переходили от отца к сыну на протяжении трех веков.
«Мой дед всегда сказывал, – говаривал Оффе отец, – что есть два холма, они находятся в великом городе. На западном зарыто золото. Несметные сокровища».
«Где на холме?» – спрашивал Оффа.
«Ближе к вершине. Но его так и не нашли».
И вот перед ним лежал город на двух холмах.
Покуда остальные рыбачили, он взял лодку и отправился через реку.
Лондиниум пустовал больше века, но крошившиеся стены с красными горизонтальными полосами оставались внушительными и производили грандиозное впечатление. Двое западных ворот остались нетронутыми. Между ними в различных участках стены выступали неприступные бастионы. Позади, нависая над вершиной ближнего холма, высился величественный каменный амфитеатр, уже сильно обветшалый, подобный угрюмому стражу, который будто говорил, что Рим удалился лишь на день. Он вернется. Речка на западной стороне имела саксонское название – Флит, хотя в дальнейшем ее стали именовать Холборн. Поднявшись по склону, Оффа вошел в ворота.
В город-призрак. Перед ним простиралась широкая римская улица, теперь поросшая травой и мхом, из-за которых шаги становились бесшумными. Саксы, не понимавшие, что такое Лондиниум, оставили это место в покое. Но время от времени ходили через него и даже перегоняли скот, из-за чего на древний рисунок двух больших проспектов и сети улиц и переулков между ними наложился другой, по-деревенски более грубый. Сколько хватало глаз, от ворот к воротам прямо через разрушенный город тянулись протоптанные скотом тропы. Однако они, поскольку наталкивались на препятствия вроде громадной окружности амфитеатра, сплетались в хитроумный узор, изобиловавший замысловатыми поворотами, которые казались странными и нелепыми, так как римские сооружения давно исчезли.
Все это место было в полном распоряжении Оффы. Он заглянул на возвышенность в юго-восточной части города, но спешно убрался, наткнувшись на воронов. Без всякой особой цели он направился вдоль речушки, струившейся между холмами, туда, где та подныривала под северную стену. А когда взобрался на парапет, то обнаружил, что из-за римских сливных труб на тамошнем побережье образовалось огромное болото.
При спуске обратно на пристань его озадачила одна вещь. Безмолвные воды реки покрыли кромку разрушенных причалов, которые, по идее, должны были быть выше. Не опустился ли город – или это река поднялась?
Его наблюдение в точности соответствовало действительности. Это явление возникло в результате двух процессов. Первый заключался в том, что арктическая ледовая шапка, разросшаяся в последнее оледенение, продолжала таять, а потому вода слегка прибывала как в море, так и во всех реках. Второй причиной было то, что в ходе грандиозного смещения геологических пластов Земли юго-восточный край Британского острова очень медленно, но верно клонился в море. Действие этих двух факторов и привело к тому, что с каждым веком уровень воды в Темзе близ эстуария повышался примерно на девять дюймов. Поскольку предок Оффы, Юлий, подделывал монеты в 250 году, река поднялась приблизительно на два с половиной фута.
– Но где же золото? – крикнул он вслух, как будто безлюдный город мог ответить.
Оффа обследовал малопонятные руины храма Митры, вернулся к форуму и устремился по верхней из двух больших улиц через город к западному холму. Он миновал лежащие в руинах колоннады, осмотрел полуразрушенные дома с деревьями, проросшими из окон, заглянул в проулки, захваченные кустарником, как будто расположение этих реликтов могло подсказать ему путь к сокровищу.
Тогда он вспомнил, что воду ищут посредством лозы. Возможно, с ее помощью удастся найти и золото под землей. Какой, однако, годится для этого прут? Он рыскал вокруг, пока не начало смеркаться. «Еще вернусь», – буркнул он. Еще и еще. В конце концов, это было занятие не хуже прочих. Кроме того, он никогда не сдавался. Оффа решил ни с кем, даже с Риколой, не делиться своими похождениями.
В таких делах и завершился в Лунденвике халигмонат, священный месяц.
У Риколы была и другая причина отказываться бежать – она все сильнее привязывалась к госпоже.
Возможно, все дело в новом лице или же в горестях. А может быть, в том, что Эльфгиве всегда хотелось иметь дочку, но женщина прониклась к Риколе симпатией. Она часто призывала ее к себе, по поводу и без повода, порой лишь с целью посидеть вдвоем, но чаще – заплести или расчесать ей волосы, к чему у девушки был настоящий талант. И Рикола была рада услужить.
Поскольку Эльфгива оказалась первой знатной особой в жизни Риколы, та пристально за ней наблюдала. Госпожа выделялась не только нарядом – длинным подпоясанным платьем взамен обычной скромной туники, но и вообще манерами, хотя отличие было тонким. В чем же оно заключалось?
– Сердится точно как я. Смеется, может, чуть поспокойнее, но я знаю много таких, – объясняла девушка Оффе. – И все же она другая. Госпожа. – Постепенно Рикола приблизилась к выводу: – А знаешь, в чем дело? Она ведет себя так, будто все время под присмотром.
– По-моему, так и есть. У всех, кто работает на господина.
– Я знаю. И она, как мне кажется. Но, – Рикола сдвинула брови, – есть что-то еще. Даже когда мы с ней одни. Ей нет никакого дела до того, что я о ней думаю. Я простая рабыня. Она слишком горда для этого. Госпожа всегда считает, что на нее смотрят. Я это чувствую.
– Боги небось.
– Может быть. Но я думаю, что это ее собственная семья. Покойный отец, отец отца, все предки, многие поколения. Она считает, что они следят, вот и ведет себя подобающе. Так я разумею. – Она удовлетворенно кивнула. – И мы, когда ходим мимо, глядим не только на госпожу Эльфгиву, но и на весь ее род до самого небось бога Водена. Они, понимаешь ли, все у нее в голове, что бы она ни делала. Вот что значит быть госпожой.
Оффа удивленно взглянул на жену. Он понимал, о чем шла речь.
– Тебе что же, хочется походить на нее? – спросил он.
Рикола грубовато хохотнула:
– Зачем? Чтобы таскать на закорках всю эту ораву? Да лучше в мешок со змеей! Больно хлопотно! – Но когда Оффа усмехнулся ее здравомыслию, она заметила уже серьезнее: – Знаешь ли, я страшно за нее переживаю. Понаблюдала за ней. Я говорила, что господин причинил ей какой-то вред. Пока не знаю, в чем дело, но она искренне страдает. Но она госпожа и слишком горда, чтобы это показывать.
– Что ж, с этим нам ничего не поделать, – произнес Оффа.
– Ничего, – согласилась жена. – Но очень хочется.
Связь между Риколой и госпожой укрепилась, когда Эльфгива дозволила той разделить с ней занятие, которое было девушке в новинку.
Англосаксонские дамы даже в те давние времена славились рукоделием, но вышиванию предавалась лишь знать, так как ткани стоили слишком дорого для простолюдинов. И вот Рикола увлеченно коротала дни у ног Эльфгивы, держа свою работу поближе к светильнику, а благородная госпожа растолковывала ей, что делать.
– Берешь сначала отрез тонкого льна. При королевском дворе бывает, что даже и шелк. Наносишь на него узор. – К удивлению Риколы, Эльфгива не взяла грифель сама, а послала за Вистаном. – Он чертит лучше меня, – объяснила она.
И юноша в самом деле рисовал чудо какие узоры. Сперва по центру полотнища он провел линию, длинную и кривую. «Ствол», – пояснил он. Затем, неизменно простейшими штрихами, отвел от него ветви, поверх которых с той же естественной простотой набросал листья и цветы, так что, когда он закончил, посередине льняного отреза красовался узор столь живой, что проглядывала самая сущность растений, и в то же время вполне абстрактный, сродни восточному.
Далее он наметил несколько звездочек и сделал штриховку, чуть приукрасив рисунок. Наконец, не трогая пустовавший фон, принялся за рамку. Она тоже явилась произведением искусства. Возникли тщательно выверенные, схематические цветы, птицы, животные, всевозможные языческие и магические символы – изящные и аккуратные, как звенья браслета. От внутренней кромки, подобно весенним крокусам, неукротимо рвущимся сквозь девственную почву, в центр стремились причудливые растения с элегантно скрученными листьями-завитками, а также грубоватые деревца, настойчивые и игривые, и все это как бы гласило: «Искусство есть порядок, но природа главнее». Возможно, то была самая суть англосаксонского духа.
Лишь после этого Эльфгива поместила лен в пяльцы и занялась неспешным вышиванием. Начала она с середины.
Орудуя бронзовыми иглами, она вышивала листья пересекающимися стежками. Для этого ей понадобились цветные шелковые нитки.
– Фризы всегда привозят мне с юга шелк, – пояснила она, – когда приходят за рабами.
Не довольствуясь этим, она прибегала и к ниткам золота, а чтобы сделать вышивку еще краше, добавила в пару мест по жемчужине. Наконец, когда с этим было покончено, Эльфгива взяла толстый шнурок зеленого шелка и выложила по кривизне ствола. Затем закрепила, пустив с изнанки поверх шелковую нить. Она увенчала свой труд дополнительными цветными стежками, выделив основные фигуры.
– Дальше займемся краями, – улыбнулась Эльфгива. – На это уйдет много месяцев.
Обнаружив, что у девушки ловкие пальцы, госпожа нередко давала ей сделать пару стежков и развлекалась ее восторгом. Она даже позволила Риколе пригласить Оффу и показать, чем они занимаются.
И все это время Рикола наблюдала за ней, восхищалась ее величавой статью и ежедневно задавала вопросы: то о платьях, то о жизни при дворе, то о Боктонском имении, мало-помалу обогащаясь знанием. Одновременно она изыскивала пути зарекомендовать себя полезной.
– Ты же хочешь воли, – напомнила она мужу, – и если мы ей достаточно полюбимся, когда-нибудь госпожа нас отпустит. – Рикола улыбнулась. – Нужно просто потерпеть, выждать.
Примерно тем же в своем духе занималась и Эльфгива. Она быстро поняла, что пусть даже Сердик нанес ей глубокую рану, страдание придется скрывать. Давным-давно старухи сказали ей: «Коль муж отбился от рук, то средство только одно». Это был факт супружеской жизни – к добру ли, к худу, однако единственным способом приструнить загулявшего мужа была постель. И чем быстрее и чаще, тем лучше. Увы, все прочие ухищрения, какие подсказывали нравственность и рассудок, тщетны. Эльфгива поступила соответственно. Она не дулась, не спорила, не охладела к нему – напротив, из вечера в вечер после ужина старалась его соблазнить и удовлетворить. На рассвете они не раз просыпались, держа друг друга в объятиях, и она молча внимала пению птиц, думая, что муж, быть может, доволен и останется с ней в силу простой инерции, великой подруги всех супружеских пар. Даже в сей поздний час она все же поймала себя на тайной мольбе, обращенной к богам предков: «Пошлите мне еще дитя». Или другой: «Дайте мне время. Не допускайте сюда покамест этого епископа». Весь следующий месяц так и прошел.
Ноябрь у саксов назывался блодмонат – кровавый месяц. Блодмонат – пора забивать быков, а дальше выпадет снег и последние листья, хрустящие изморозью, падут на землю, твердеющую после осенних дождей.
В начале блодмоната к торговому посту причалил корабль. Он прибыл из-за моря из франкских земель на реке Рейн, и Оффе велели помочь с разгрузкой.
Он впервые увидел настоящее морское судно и был захвачен зрелищем. Хотя у саксов имелись прилично слаженные плоты и весельные лодки, на которых ходили по Темзе, этот корабль принадлежал к совершенно иному классу.
Больше прочего поражал киль. Возвышаясь огромным деревянным гребнем над кормой, он по плавной кривой нисходил к воде, проделывал долгий путь под днищем и снова вздымался, образуя роскошный нос, горделиво изгибавшийся над речной гладью. Вистан, как бывало часто, стоял рядом с Оффой и восхищенно взирал на эту прекрасную картину.
– Совсем как линия, которую ты вычертил на шитье госпожи Эльфгивы! – вскричал в порыве вдохновения юный невольник, и Вистан согласился.
Деревянные ребра – остов корабля – крепились через хребтину киля и были внахлестку покрыты досками на гвоздях. Хоть корпус был вытянут, Оффа сообразил, что расширение, допущенное по центру, придавало судну немалую вместительность. В передней и задней части судна – на носу и корме – две небольшие площадки; в остальном оно оставалось открытым. Имелась мачта с парусом на траверсе. Но истинная мощь таилась в полудюжине длинных весел по обе стороны.
То была ладья викингов из северных пределов. Похожие суда доставили на остров саксов. В такой ладье похоронили на побережье Восточной Англии отца Эльфгивы.
Оффу заинтересовал и груз: изящные гончарные изделия, пятьдесят огромных кувшинов с вином и, для королевского двора, шесть клетей со странным прозрачным материалом, которого он прежде не видел.
– Это стекло, – сказал ему матрос.
В северных землях близ Рейна вино и стекло производили еще с римских времен.
Так Оффа впервые приобрел представление о великом заморском наследии, известном его предкам и некогда наполнявшем пустынный город за стенами, где он любил бродить.
Через несколько дней он получил из римского мира сигнал поважнее.
Оффа снова улизнул в заброшенный город и пару часов провел на западном холме. Коль скоро время на изучение местности у него было – быть может, вся жизнь, уныло подумал Оффа, – нужно действовать методично. Он решил сосредоточиваться на небольшом участке зараз, который будет тщательно обыскивать, пока не уверится, что раскрыл все секреты, и лишь потом переходить к следующему.
Тем днем на полпути от реки по склону он обнаружил многообещающий домишко с погребом. Стоя на четвереньках и орудуя самодельной лопаткой, он разгребал завалы, и вдруг ему почудились в отдалении чьи-то голоса. Оффа выбрался из развалин и глянул на холм.
Западный уступ со стороны реки был обнажен куда больше, чем остальные. Печи для обжига давно рассыпались, хотя о былом их присутствии напоминали многочисленные черепичные осколки. От небольших храмов остались жалкие камни, обозначавшие основания колонн. Вокруг образовалось нечто вроде заросшей поляны с видом на реку.
На этом пятачке Оффа увидел двоих мужчин, один из которых, предположительно грум, держал лошадей. Другой, низкорослый, в черной хламиде до щиколоток, расхаживал и что-то высматривал. В сердце Оффы мгновенно закралось дурное предчувствие, и он подумал: небось явились за кладом. Откуда узнали? Он изготовился скрыться, когда человек в хламиде заметил его и наставил палец.
Оффа выругался про себя. Что теперь делать? Тот все указывал, и парню, коль скоро они верхом, далеко не уйти. «Прикинусь-ка я дурачком», – пробормотал он и медленно направился к ним.
В жизни Оффа не видел фигуры занятнее, чем человек в черном. Малого роста, с широким, чисто выбритым овальным лицом, седые волосы выбриты на макушке. Похож на яйцо, подумал молодой человек.
Это впечатление укрепилось, когда он приблизился и разглядел мелкие черты лица и крошечные уши. Оффа глазел на него, не в силах оторваться, но тот не обиделся и чуть улыбнулся.
– Как тебя звать? – осведомился он по-английски, как называли свое наречие англосаксы, но со странным акцентом, которого парень не распознал.
– Оффа, сударь. А вас? – отважно спросил невольник.
– Меллит.
Оффа нахмурился – диковинное имечко; затем огляделся.
– Любопытствуешь, что я тут делаю? – поинтересовался чужак.
– Да, сударь.
Меллит в ответ показал ему начатый контур, который выкладывал из камней в нескольких ярдах от места. Тот напоминал абрис будущего фундамента для какого-то небольшого прямоугольного здания.
– Здесь я намерен строить, – заявил он.
Участок был бесспорно хорош, с отменным видом в трех направлениях с холма.
– Строить?
Странный человек опять улыбнулся.
– Cathedralis, – ответил он, прибегнув к латинскому слову. Заметив недоуменный взгляд собеседника, пояснил: – Храм истинного Бога.
– Водена? – уточнил Оффа.
Но тот помотал головой и ответил:
– Христа.
Тогда Оффа понял, кто перед ним.
Конечно, он знал, ибо всем было объявлено о скором прибытии человека из Кентербери. Епископа, что бы это ни значило. Так или иначе, но птица очень важная. Оффа взирал на монаха в черной рясе с удивлением и сомнением. Смотреть было не на что. Но все-таки лучше вести себя осторожно.
– А из чего же вы будете строить, сударь? – поинтересовался Оффа.
Он рассудил, что его того и гляди заставят тягать на холм доски.
– Из этих камней, – отозвался Меллит и указал на остатки римской каменной кладки и черепки, сплошь валявшиеся вокруг.
Почему здесь? Оффа не знал, но, вспомнив рассказы скотников о том, что здесь же, неподалеку, на большой круглой площадке, приносили в жертву быков, счел территорию культовой, а потому лишь вежливо кивнул.
– А ты что здесь делаешь? – вдруг осведомился чужак.
Оффа мгновенно насторожился:
– Ничего особенного, сударь. Просто смотрю.
– Ищешь что-то? – Меллит улыбнулся, и Оффа заметил, что его карие глаза глядели хоть и мягко, но зорко и с любопытством. – Может, я помогу найти, – приветливо произнес Меллит.
Что ему известно? Вправду ли он подыскивал место для стройки, расхаживая и опустив глаза долу? Или имел другие намерения? Мог ли он откуда-то вызнать о спрятанном золоте? Был ли он искренен, предлагая помощь, или пытался выведать, насколько осведомлен сам Оффа? Епископ, ясно, хитрый малый, с ним нужно держать ухо востро.
– Я должен вернуться к хозяину, сударь, – пролепетал Оффа и зашагал прочь, сознавая, что Меллит провожает его взглядом.
Но почему же епископ избрал для постройки собора покинутую крепость близ расположенного на отшибе торгового поста?
Причина была проста и восходила к Риму.
Направив на Британский остров миссионера Августина, папа совсем не хотел, чтобы тот задержался в Кентербери. С чего бы, в конце концов, понтифику испытывать пристальный интерес к Кентскому полуострову, не считая возможности, предложенной франкской принцессой? Он намеревался взять весь остров. А что он знал о Британии? То, что она была римской провинцией, пока, к несчастью, не оказалась отрезанной.
– В записях ясно сказано, – доложили ему архивариусы, – что она разделена на провинции и в каждой есть столица: Йорк – на севере, Лондиниум – на юге. И Лондиниум главенствует.
А потому, когда Августин со своими присными сообщил о любезности кентского короля и о том, что Лондиниум пуст, из Рима последовал недвусмысленный ответ: «Пусть у короля будет в Кентербери епископ. Лондиниум же и Йорк обустроить без промедления». Римскую традицию надлежало хранить.
По этой причине епископ Меллит ныне стоял среди заброшенных развалин Лондиниума. Священник смекнул, что в этом были свои преимущества. Место находилось возле развивающегося торгового поста и в то же время пребывало отдельно, окутанное древним величием, как бы в пределах огромного монастыря. Участок близ старых храмов производил сильное впечатление. Церковь, которую здесь возведут, станет его собором; небесный покровитель уже был выбран.
Это будет собор Святого Павла.
Тем вечером епископ остановился в доме Сердика. Его свита была невелика: всего трое слуг, два молодых священника и пожилой дворянин из окружения короля Этельберта. Сердик порывался закатить пир, но миссионер умолил его не делать этого.
– Я несколько устал, – признался он, – и спешу к королю Эссекскому. Я вернусь через месяц с проповедью и крещением. Тогда и готовьте пир.
Однако он не сказал, что утром намерен отслужить мессу при закладке новой церкви. Сердик уговорил епископа ночевать в его доме, не отсылая свиту; сам же с семьей перебрался в амбар.
Ранним солнечным утром епископ Меллит повел своих немногочисленных спутников в покинутый город. Один молодой священник нес флягу с вином, второй – суму с ячменным хлебом. Придворный короля Этельберта имел при себе простой деревянный крест высотой примерно семь футов. Дойдя до места, они вкопали его в землю. Меллит и священники приготовились служить нехитрую мессу.
Наблюдавший за всем Сердик был премного доволен. Сближение налицо. На глазах у семьи он преломит хлеб с посланником короля Этельберта, совершив евхаристию. Он гордился участием в таком событии. «На севере Темзы я, несомненно, окажусь единственным крещеным человеком», – заметил он дворянину. Когда же чин чином построят собор, на освящение, видно, прибудут со своими дворами короли Кента и Эссекса. Тогда и ему воздадут должные почести за помощь епископу в строительстве.
Одна досада: накануне вечером двое его старших сыновей испросили дозволения не участвовать в событии.
– Почему? – осведомился он.
– Мы собирались на охоту, – небрежно ответили те.
Он пришел в ярость и загремел:
– Вы все останетесь при мне и будете вести себя как подобает!
Когда же мальчишки попросили растолковать смысл церемонии, он до того рассвирепел, что лишь проорал:
– Не ваше дело! Уважайте отца и короля, и чтобы я больше не слышал об этом!
И сейчас, взирая на их превосходные плащи, светлые волосы и ухоженные юные бороды, он решил, что в общем и целом его уважили, а потому шел к мессе в лучшем расположении духа.
Служба не затянулась. Меллит прочел короткую проповедь, в которой подчеркнул достоинства короля Кентского и радость, коей им всем надлежало исполниться в этом священном месте. Он неплохо говорил по-англосаксонски, с чувством и красноречием. Сердик одобрительно кивал. Затем перешли к причастию. Благословили хлеб и вино, и таинство евхаристии свершилось. Сердик гордо шагнул вперед на пару с получавшим крещение дворянином.
Эльфгива мало что смыслила в этих чужеземных обрядах, но хотела доставить удовольствие мужу, который, быть может, все еще любил ее, подтолкнула четверых своих сыновей:
– Идите и делайте, как отец.
Те, помявшись, нехотя подчинились.
И вот сыны Сердика, слегка краснея, направились к римскому священнику, свершавшему евхаристию. Неуверенно поглядывая друг на дружку, они преклонили колени, дабы принять Святые Дары. Сердик, уже коленопреклоненный, не видел, как они подошли, не ждал этого и не заметил их присутствия, пока не встал и не повернулся, чтобы уйти, но тут услышал голос епископа:
– Крещеные ли вы?
Четыре парня уставились на него с подозрением. Меллит повторил вопрос. Он уже сообразил, что – нет.
– Чего ему нужно, безбородому чудику? – буркнул младший.
– Давай волшебный хлеб, и ладно, – брякнул старший. – Как отцу. – Он указал на Сердика.
Меллит уставился на него:
– Волшебный хлеб?
– Да. Он-то нам и нужен.
И один, не имея в мыслях ничего дурного, потянулся к чаше за куском.
Меллит отпрянул. Теперь он осерчал.
– Это гостию, да чтобы так?! Иль нет в вас почтения к телу и крови Господа нашего? – возопил священник. Затем, видя их крайнюю обескураженность, гневно повернулся к Сердику и прогремел, колебля эхом городские стены: – Этому ты, значит, научил своих сыновей, болван? Так ты чтишь твоего высочайшего Повелителя?
Сердик, вообразивший, будто епископ имел в виду короля, пошел пятнами от унижения и стыда.
Воцарилась жуткая тишина. Глава семьи посмотрел на сыновей.
– Что вы здесь делаете? – процедил он, обращаясь к старшему.
Тот пожал плечами и указал на мать:
– Она велела идти за хлебом.
Какое-то время Сердик вовсе не шевелился. Он был слишком потрясен. Суть заключалась в том, что купец не только не научил сыновей и не призвал к порядку семейство, но и сам не до конца разобрался в тонкостях евхаристии. Он подражал королю. Ему казалось, что этого достаточно. И вот Сердик опозорен перед придворным, унижен этим епископом, выставлен тряпкой и дураком. Он никогда не считал себя ни тем ни другим. Страдание его было неимоверно. В горле пересохло, лицо побагровело. Едва не задыхаясь, он зна́ком повелел сыновьям встать, и те неуклюже повиновались. Затем он направился к Эльфгиве. А когда он взглянул на нее, ему вдруг показалось, что она-то и виновата во всем. Без ее упрямства и вероломства ничего не случилось бы. Она послала сыновей ввергнуть его в немилость. И пусть в глубине души он понимал, что не нарочно, но разницы уже не было никакой. Вина лежала на ней, и точка.
С холодным бешенством Сердик залепил ей пощечину.
– Вижу, тебе надоело у меня в женах, – изрек он, едва сдерживаясь.
Затем устремился к коню и вскачь пустился с холма.
Через несколько часов от Лунденвика отъехали пятеро всадников. Они миновали рощу и направились к речушке, называвшейся Флит и протекавшей у западных стен римского города. Они, однако, не воспользовались деревянным мостом, проехали чуть выше по течению, спешились и направились к травянистому берегу, где ждали Меллит и священники. Там, под присмотром Сердика, четверо юношей разделись и по команде священника прыгнули в ледяную воду.
Епископ Меллит был милостив. Он продержал их там совсем недолго – перекрестил и дозволил, дрожащим, поспешно выскочить и вытереться. Крещение состоялось.
Сердик спокойно наблюдал. После несчастья на мессе ему пришлось приложить все усилия, дабы убедить взбешенного епископа не уехать тотчас. Однако в итоге Меллит рассудил, что для его миссии будет лучше отложить путешествие на несколько часов и совершить таинство над этими юными язычниками.
– Полагаю, – с улыбкой заметил он священникам, – что в скором времени нас призовут крестить молодчиков похуже, чем эти.
При виде вымокших сыновей у Сердика появился еще один повод к тайному удовлетворению. Ярость, которую он излил на них по возвращении в факторию, пошла на пользу. Он восстановил свой авторитет. Они покорно отправились креститься, уже не заикаясь об охоте.
Не хватало лишь одного человека.
Эльфгива осталась в усадьбе и безгласно рыдала.
На следующий день новость облетела всех. В Кент был отправлен грум с депешей: господин пожелал объявить свою новую невесту. Госпожа Эльфгива оказалась в опале. Натянутые отношения между хозяевами установились давно, но домочадцы были потрясены до глубины души. Впрочем, никто не посмел и слова сказать. Сердик был тих, но мрачен. Эльфгива, худая и бледная, проводила дни с чинным достоинством, которое все боялись оскорбить. Одни гадали, останется ли она, непокорная Сердику, здесь. Другие считали, что госпожа вернется в Восточную Англию.
Однако для Эльфгивы самым болезненным в этой истории была даже не унизительность ее положения. Дело не в том, что случилось, а в том, чего не произошло.
Ибо она рассчитывала на сыновнюю защиту или хотя бы на протест, но ответом было молчание.
По правде сказать, трое старших явились к ней, поочередно. Они соболезновали и предположили, что воссоединение еще, быть может, возможно, если она обратится в христианскую веру.
«Все дело в том, – сказала она себе однажды, стоя возле реки и взирая на воду, – что отца они боятся больше, чем любят меня. И даже охота, по-моему, им отчасти милее родной матери».
За исключением Вистана. Тот, когда явился, был безутешен. Отец настолько огорчил его, что ей пришлось умолять сына не нападать на Сердика и не гневить его пуще.
– Но ты же не можешь смириться, – воспротивился тот.
– Ты не понимаешь.
– Ладно, я не могу, – торжественно изрек Вистан и больше ничего не сказал.
Через три дня после этого разговора Сердик, возвращавшийся по тропинке с острова Торни, не слишком удивился, обнаружив у себя на пути юного Вистана.
Купец, помрачнев лицом, едва удостоил его кивком, полагая, что этим повергнет юнца в молчание. Но Вистан не струсил и твердо произнес:
– Отец, я должен поговорить с тобой.
– Ну а мне незачем – прочь с дороги! – воскликнул Сердик с холодной властностью, заставлявшей большинство людей трепетать, но Вистан отважно заступил ему путь.
– Речь о матери, – сказал он. – С ней нельзя так обращаться.
Сердик был крепкий орешек. Сильный характером, он знал все уловки власти. При желании он мог и до смерти напугать. Сейчас он свирепо воззрился на сына и буквально заревел:
– Это наша забота, а не твоя! Помалкивай!
– Нет, отец, не могу.
– Можешь и будешь. Прочь с дороги!
Он воспользовался намного большим весом и сшиб юношу. В бешенстве, сверкая глазами, Сердик устремился по тропе.
«Но парень многих стоит», – подумал он втайне.
Однако мнения об Эльфгиве не изменил.
Грум, посланный Сердиком в Кент, вернулся через четыре дня с ответом от отца девушки. Невесту обещали доставить в Боктон две недели спустя после Йоля.[11]
У Сердика и Эльфгивы издавна повелось возвращаться в Боктонское имение задолго до больших саксонских торжеств по случаю Йоля, но с прибытием сих новостей купец лаконично объявил:
– Я отпраздную Йоль здесь, в Лунденвике. Потом на всю зиму уеду в Боктон.
Что ж, смысл ясен. Старым порядкам пришел конец. Близились новые.
Когда домашние усвоили эти сведения, настроение на торговом посту начало меняться. Сперва неуловимо, однако с течением дней ошибиться уже было нельзя.
Эльфгива оставалась на месте. Формально, коль скоро Сердик не отослал ее, она продолжала быть ему женой. Однако люди исподволь уже вели себя так, будто госпожа исчезла. Так, если она о чем-то распоряжалась, ей учтиво повиновались, но что-то в глазах слуги говорило, что тот уже прикидывал, как ублажить новую госпожу. «Словно я сделалась гостьей в собственном доме, – говаривала себе Эльфгива и с горькой иронией добавляла: – Изрядно подзадержавшейся».
Но если все вокруг гадали, когда же она уедет, сама Эльфгива еще не решила, что делать. В Восточной Англии у нее был брат. «Но я не виделась с ним годами», – напомнила она себе. В нескольких милях от дома ее детства жили какие-то далекие родственники. Может быть, к ним? «Но не отправит же меня Сердик в лес?» – завопила она. На короткое время, хотя женщина этого не осознала, ее охватила странная апатия. Эльфгива постановила для себя принять решение до Йоля. И ничего не делала.
Молчал и Сердик. Она не знала ни его желаний, ни планов насчет нее. Он просто оставил ее в своеобразном заточении, сохранив за ней статус жены.
Рикола обнаружила, что все чаще бывает при госпоже. Хотя Эльфгива отличалась немногословием и чопорностью, в своем одиночестве она снизошла до рабыни и доверилась ей. Рикола не сомневалась в полном разрыве Сердика с женой. «Хозяин больше не спит с ней, – поделилась она с Оффой. – Я совершенно уверена». Она с тайной нежностью расчесывала и заплетала Эльфгиве волосы. И вот однажды, когда та призналась, что пока не решила, куда податься, Рикола осторожно спросила:
– Но, госпожа Эльфгива, если супруг хочет вас отослать, то почему никак не устроит это дело?
– Очень просто, – печально улыбнулась Эльфгива. – Я знаю своего мужа. Он осмотрительный торгаш. Разведется со мной, лишь когда заполучит новую девицу. Не раньше. До тех пор он будет ждать.
– Я бы сама взяла да и ушла! – выпалила Рикола.
На что старшая женщина ничего не ответила.
Однако эта неопределенность породила затруднение, которым Оффа однажды ночью поделился с Риколой:
– Если ее отошлют, то что, по-твоему, станется с нами? С тобой и мной? – Парень был озабочен. – Купила нас она. Означает ли это, что мы отправимся с ней?
– Надеюсь, что да! – негодующе воскликнула девушка и сама удивилась силе своего чувства. – Эльфгива спасла мне жизнь, – добавила она, объясняя свой пыл. И, пристально посмотрев на Оффу, осведомилась: – А разве ты не хочешь остаться с ней?
Сначала Оффа лишь озадаченно посмотрел на жену. Куда заберет их Эльфгива? Он подумал о темном эссекском лесе; у него не было ни малейшего желания туда возвращаться. Затем прикинул, как мало он знает о бескрайних холодных просторах Восточной Англии. А после переключился на пышную пойму Темзы и опустевший город с кладом золота.
– Не знаю, – произнес он наконец. – Решительно не знаю.
Дни текли, и в жизни Риколы произошли два события, которые она ни с кем не обсудила. Первое оказалось связано с купцом.
Он обратил на нее внимание всего через неделю после крещения сыновей. В том не было ничего особенного. Девушка, слегка пригнувшись, выходила из низких дверей господского дома, а купец в это время возвращался с пристани. Она прошла близко, и он посмотрел на нее.
Рикола не испытала ни удивления, ни потрясения. Она была чувственна и чувственность свою признавала. Рикола подумала, что у него неделю не было женщины, и пошла по своим делам. Не слишком встревожило ее и то, что на следующий день все повторилось. «Лучше держаться от него подальше, – решила она, а после с усмешкой добавила про себя: – И Оффе не говорить».
Второе событие было приятнее. На исходе блодмоната Рикола заподозрила, что беременна. «Но выжду-ка я лучше еще месяц», – подумала довольно. Впрочем, теперь она немного встревожилась, не ведая, где и как они будут жить после рождения ребенка.
Оффа, как и прежде, старался угодить господину. Сумел он и пару раз ускользнуть в брошенный город, где смастерил небольшую кирку и лопату и вторгся в места, казавшиеся ему перспективными. Однажды вечером он как раз возвращался с такой тайной вылазки, когда заметил, что на торговый пост доставили новый груз.
Там было с полдюжины рабов, связанных веревкой. Их вел отталкивающего вида грубый купец, но Сердик приветствовал его довольно учтиво.
– Что-то ты припозднился, – заметил он.
Невольники – сплошь малые видные, темноволосые. Коротко остриженные волосы и печаль на лицах выдавали их новое положение.
– В прошлом году король Нортумбрии устроил набег на скоттов, – объяснил торговец и ухмыльнулся. – Пленные. Когда уезжал с севера, была сотня. Вот все, что осталось.
– Отбросы?
– Сам посмотри. Они неплохи.
Сердик осмотрел рабов и придираться к товару не стал.
– Выглядят крепкими, – согласился он. – Но мне придется кормить и содержать их всю зиму. Работорговлю принято открывать весной.
– Ну так заставь их работать!
– Да чем их занять, когда выпадет снег?
– И то правда. Коли так, то сколько за них даешь?
Людям нравилось вести дела с Сердиком, ибо тот был откровенен и никогда не тратил времени понапрасну. Оффа увидел, как оба проследовали в дом. А скоро торговец отбыл.
Шестерых парней разместили в жилье для рабов и каждую ночь заковывали в цепи. Днем их натаскивали, а одного или двух обязали переносить шерсть и ремонтировать склад. Оффа наблюдал за ними, сочувствовал им и гадал об их дальнейшей судьбе.
Исчезновение юного Вистана заметили лишь на исходе дня. Никто не знал, куда он делся – разве что брату сказал, будто пошел на охоту. Охотиться в одиночку уже казалось странным для него, а когда он не вернулся, Эльфгива забеспокоилась. Сердик был настроен оптимистичнее.
– Девка, должно быть, – сказал он коротко. – Вернется.
Когда же прошла еще одна ночь, Сердик мрачно заметил:
– Придется ему держать ответ, коли скрылся без разрешения.
Но прошли еще день, ночь, а Вистан так и не объявился.
Вистан поднялся рано. Едва забрезжил рассвет, он уже шел через брод близ пустоши возле Торни. Был отлив. Конь проплыл совсем немного, и юноша выбрался на южный берег почти сухим. Цель увлекла его примерно на милю к югу. Сперва – по склонам над топями, затем он повернул на восток, держась параллельно реке.
День выдался холодный и ясный. Проехав поверх болот и через дубраву, Вистан различил примерно в двух милях на другом берегу смутные развалины покинутого города. Почва начала вздыматься, перетекая в две гряды, которые становились все выше. Еще две-три мили – и ему, едва взошло солнце, явился великолепный вид на поворот сверкающей реки. А дальше – грандиозная череда изгибов на пути к устью. У подножия длинного склона под грядой, вблизи от берега, ютилось крохотное селение, известное как Гринвич. Хребет постепенно расширялся, дубравы сдавались перед огромной пустошью. Вистан устремился через нее по плотному дерну, покрывшему щебенчатую римскую дорогу, что должна была привести его в поселение Рочестер к полудню следующего дня.
Он собирался повидаться с девушкой.
Ночевал он в Боктоне. Рано же утром Вистан, приободренный восхитительным видом Уилда, поехал к ее дому.
Семью он, конечно, знал, но девушку не видел уже несколько лет. «В самом деле, – скривился юноша, – в последний раз, как встречались, она была таким же костлявым недорослем, как я». Ему не верилось, что отец вознамерился на ней жениться.
Вистан добрался до места, когда утро было в разгаре, однако за дело взялся не сразу. Он остался в отдалении за деревьями, выжидая. Наконец он увидел ее выходящей из дому: ему повезло – она пошла по соседней тропинке, тянувшейся в подлесок.
Во всяком случае, Вистан предположил, что это она. Вблизи же он едва узнал ее, ибо вместо нескладного подростка перед ним оказалась молодая женщина. И милая притом. Почти с него ростом, с прежним пушком на губе, волосы забраны в косу, голубые глаза умны и ярки – сие прекрасное создание всего пятнадцати лет от роду находилось от него в каких-то десяти ярдах, и Вистан негромко окликнул ее по имени:
– Эдит!
Она не испугалась, когда ей заступил дорогу кроткий юноша с едва пробившейся бородкой, однако удивилась. Невозмутимо взглянув на него, она улыбнулась.
– Да я же тебя знаю. – (Юноша, к своему изумлению, покраснел.) – Ты Вистан, – сказала она и просияла. Он кивнул. – Что ты здесь делаешь? – Девушка явно заинтересовалась. – И почему прячешься в лесу?
– Обещаешь никому не говорить обо мне? – спросил Вистан.
– Не знаю. Наверное, да.
– Я здесь… – Он сделал глубокий вдох, вдруг осознав всю чудовищность своих действий. – Я приехал сказать, что ты нам не нужна.
Они проговорили почти час. Ей не составило труда выведать у него все. К его облегчению, Эдит не разгневалась.
– Значит, ты приехал спасать свою мать? – подытожила она. И с улыбкой продолжила: – Ты столько порассказал об отце, что, похоже, решил спасти и меня заодно.
Вистан смутился, и она рассмеялась. Затем услышала, как ее зовут.
– Уходи, – сказала она внезапно. – Давай, живо.
Он кивнул, девушка развернулась.
– Что будешь делать? – негромко спросил он вдогонку.
Но Эдит уже спешила через подлесок.
День Тунора, день Громовержца.
Вистан объявился неделю назад. Сердик закатил скандал и грозился выпороть его. Однако оправдания юноши, сводившиеся к тому, что он пошел на охоту, встретил друзей и заблудился, звучали настолько неправдоподобно, что купец усмехнулся и заявил складским рабочим: «Я же сказал, что девка какая-то». Он даже послал парню пару дружеских, понимающих взглядов.
Однако сегодня, как гром среди ясного неба, прибыли новости. Молодая невеста передумала. Гонец ее отца, откровенно смущенный, с сожалением сообщил, что вышла ошибка. Она не приедет.
Сердик знал, насколько был огорчен его младший сын предстоящим разводом. Теперь тот побледнел, и он вмиг обо всем догадался. Хватило нескольких секунд яростного натиска, чтобы правда вышла наружу. Не помня себя от бешенства, Сердик схватился за кнут, и если бы Вистан не удрал после нескольких ударов, убил бы.
А следом возник вопрос: что делать? Он поиграл с идеей послать за девушкой вновь и напомнить отцу о данном слове, но счел это низким. Вдобавок, если он хотел избежать неприятностей со стороны Эльфгивы, в иных отношениях верной, то зачем настаивать на браке с юной девицей, которая, похоже, уже созрела, чтобы причинить головную боль?
В безмолвной ярости он несколько дней тяжело шагал по торговому посту. Младший сын вел себя мудро и не попадался ему на глаза. Но постепенно, по мере затухания гнева, Сердик начал томиться. Он сам себе не признавался в тоске по налаженной супружеской жизни и нехотя рассудил, что та, по крайней мере, была получше беготни за переменчивыми девушками.
Однако Эльфгива, когда он нет-нет да и бросал на нее задумчивые взгляды, не отвечала ничем, кроме холодного упрямства и немоты в его присутствии.
Прошла добрая неделя, прежде чем он решительно вошел в дом к жене, сидевшей в обществе хорошенькой рабыни, и спокойно уведомил ее в том, что, если она последует за сыновьями и примет крещение, он бросит поиски новой супруги и вернет ее.
– День тебе на раздумья будет нелишним, – изрек он любезно.
Секундой позже купец вылетел вон в негодовании большем, чем ранее.
Она отказалась.
Рикола долго таращилась на госпожу, пока не обрела дар речи.
– Вы спятили. Понимаете? Спятили!
Неделей раньше подобные слова в устах невольницы, обращенные к хозяйке, были немыслимы, но за последние дни эти женщины пережили слишком многое.
Именно Рикола, единственная из всех домочадцев, сидела с Эльфгивой по вечерам, когда та молча лила слезы, не в силах скрыть скорбь. Потеряв юного Вистана, сбежавшего от разъяренного отца в лес, Эльфгива обратилась именно к рабыне. Рикола отправила мужа на поиски и после спрятала юношу на ночь в их крохотной лачуге. «Господину и в голову не придет искать его здесь», – заметила она с улыбкой. Пока же Сердик торчал на молу, Рикола, и никто другой, тайком провела Вистана к матери и услышала его мольбы: «Я остановил девушку, она не придет. Покрестись же и возвращайся к нему!»
Поэтому Эльфгива не осадила рабыню за дерзость и только молча вперила взгляд в огонь.
Беда была в том, что она не знала, как поступить. Ее глубоко тронули увещевания сына и все, что он для нее сделал. Как можно отказать ему, такому любящему? Но это было нелегко. Что изменилось? «Сегодня меня просят уступить, – размышляла она. – Твердят, что ничего страшного. А завтра? Угомонится ли мой муж? Не выйдет ли так, что все повторится и будет еще мучительнее?»
Она внимала уговорам Риколы.
– Если вы не обратитесь в его веру, он обязательно захочет себе другую жену. Иначе снова выставит себя глупцом. Конечно, он всяко может вас бросить, но почему не рискнуть? – И, покачав головой, девушка твердо произнесла: – Вам нечего терять.
– Кроме чести.
Рикола откровенно усомнилась. «Но честь, – подумала Эльфгива, – дешевле, когда тебе всего пятнадцать и ты рабыня».
И вот они сидели в молчании, так ничего и не решив, пока госпожа не утомилась и не отослала ее. Рикола ушла, но не раньше, чем развернулась у двери и бесстрашно сказала:
– Он не настолько плох, ваш муж. Не забывайте об одном: не будет вашим – станет чьим угодно еще. За него любая пойдет.
Здравомыслие подсказало ей, что это даст госпоже пищу для размышлений.
С приближением Йоля жители Лунденвика оживились. Оффа помог затащить в обитель Сердика огромное бревно, которому предстояло неспешно сгорать там многие дни: символ того, что пусть погаснет солнце – здесь, на земле, англосаксонский очаг будет теплиться до прихода весны. Рикола помогала женщинам. К йольскому пиру готовили оленину. Со склада доставят огромные сосуды с фруктами, заготовленными с лета, – яблоками, грушами и шелковицей. Будет и выпивка, в том числе национальный напиток саксов из меда и тутового сока – морат.
И каждый божий день, по мере трудов и приближения праздника, женщины судили да рядили: останется ли госпожа Эльфгива?
Что до той, она пребывала в чувствах расстроенных чуть ли не больше, чем прежде. Чем ближе был Йоль, тем сильнее одолевали ее счастливые воспоминания об этой поре. Идти ей некуда. Муж снова без обиняков предложил ей восстановить былое. Она согласилась бы даже на его условия. Эльфгива вполне понимала, сколь предан он долгу; его гордость была отлично известна ей. Но разве не вправе она рассчитывать на ту же гордость и самоуважение?
Ему стоило лишь попросить. Проявить хоть сколько-то ласки, пусть даже толику раскаяния. Но он бросил ее, как несчастную животину на привязи, забытую в ненастье.
В это нелегкое время и наступил вечер, когда у Риколы созрел план спасения госпожи. Он был типичен для ее мироощущения: приземленный, чувственно-осязаемый, дерзкий и, надо признать, исключительно смелый. Оффа, услышав, пришел в ужас.
– Теперь и ты рехнулась! – воскликнул он.
– Но дело выгорит, – настаивала девушка. – Я уверена. Главное, провернуть все правильно. – Она улыбнулась. – Вспомни, как она нам помогла. Да и что нам терять?
– Все, – отозвался он.
Вестник, прибывший от короля Кентского Этельберта, застал их врасплох; его послание даже слегка раздосадовало Сердика.
– Епископ Меллит возвращается, как обещал, и выступит с проповедью, – объявил гонец. – Вам надлежит собрать всю округу, дабы внимали.
– В Йоль?! – завопил купец. – Почему именно в Йоль, как будто мало других дней?
Однако он сделал, как велели, и когда через два дня прибыл епископ в сопровождении десяти священников и двух дюжин придворных, Сердик согнал им навстречу внушительную толпу в несколько сот человек из прибрежных селений.
– Сегодня суббота, – заявил Меллит. – Завтра буду проповедовать и крестить.
Остаток дня прошел в лихорадочных трудах. Всю честную компанию требовалось подобающим образом разместить. В служебных постройках не осталось и ярда, который не был бы застелен одеялом или соломенным ложем. Хлопотали не покладая рук все, включая Эльфгиву. Та распоряжалась в точности на былой манер, а потому Сердик не раз и не два смотрел на нее восхищенно. Со складов доставили мясо. Когда же в ходе этих приготовлений волшебным образом нарисовался и взялся за дело Вистан, Сердик решил не обращать на это внимания.
Идиллию испортила лишь мелочь. Не приходилось удивляться, что некоторые монахи стали неодобрительно коситься на подготовку к пышному пиру – в аскетичный-то адвент, да еще и в канун субботы. Но Меллит с улыбкой сказал им:
– Об этом пока не время тревожиться. – Затем, еще пуще возмутив некоторых, изрек: – Что до меня, то нынче и я вкушу от доброй трапезы с нашими саксонскими друзьями.
Он так и поступил.
В субботу же ближе к полудню епископ Меллит, сопровождаемый примерно полутора сотней людей, вступил в опустевший город и взошел на холм к месту, где надлежало вырасти собору Святого Павла. Облаток он не взял, но в помощь своим трудам захватил примечательный предмет, который несли впереди.
То был большой деревянный крест. Укрепленный в земле, он поражал размерами – добрых двенадцать футов в высоту – и придавал окружающей местности величественный вид, как любая церковь. Но истинным чудом была великолепная резьба.
В центре креста покорно раскинул руки распятый Христос, взиравший запавшими глазами так, что каким-то образом передавал наблюдателю и римскую божественную иерархию, и мрачное северное чувство рока. Однако по-настоящему внимание саксов приковалось к орнаменту, ибо вокруг Спасителя каждый дюйм был покрыт искусными изображениями растений, цветов, животных, а также красиво переплетенными узорами, чем издавна славилось англосаксонское искусство, которому теперь, соединенному с христианскими фигурами и символами, предназначалось явить славу островной Церкви.
Это было еще одно великое правило миссионеров: «Не разрушай укоренившегося – поглощай».
Потому-то и прибыл в Лунденвик добрый епископ Меллит, готовый отпраздновать саксонский Йоль. Разве столетия назад христианская Церковь не приложила все усилия, чтобы преобразовать языческие римские, порой непристойные зимние Сатурналии в праздник более одухотворенный? Разве не стало каким-то образом рождество персидского бога Митры, отмечавшееся в двадцать пятый день декабря, Рождеством Христовым?
– Если англосаксам нравится Йоль, – втолковывал своим монахам Меллит, – то пусть Йоль станет христианским.
Сейчас же, стоя пред саксонским деревянным крестом, Меллит обозревал собравшихся.
Явились все. Крестьяне, складские трудяги, пришли даже Оффа с Риколой и госпожа Эльфгива. Не зная, на кого оставить северных рабов, Сердик в последний момент приказал привести их тоже и держать подальше, позади остальных.
Стало быть, такова его паства – простецкий люд, едва ли не все – язычники. Возможно, они будут наведываться в маленький каменный собор, который воздвигнет Меллит посреди сей позаброшенной крепости. Он должен возлюбить их, пестовать и даже, если Господь ниспошлет ему благодать, вдохновлять.
Миссионер был реалистом, но также человеком веры и неустанно повторял священникам: «Господь наш спас мир. Вам же приличествует кротость. Коль вашей проповедью спасете вы единственную душу, то и того довольно». Взирая на неотесанную толпу, епископ улыбнулся про себя и пробормотал: «Которую же из этих спасем? То ведомо лишь Тебе, Создатель».
Оффа завороженно наблюдал. Служба длилась недолго. Десять священников пели псалмы и ектении по-латыни, а потому он понятия не имел, о чем шла речь. Пение звучало странно гнусаво, хотя в нем присутствовала тоска, мучительная в этих холодных, сирых развалинах. Оффа заскучал и уже собирался улизнуть, не дожидаясь конца, но неожиданно ему стало интересно: яйцеголовый епископ обратился к собранию не на латыни, а на англосаксонском.
И на каком! Речь Меллита поразила Оффу. Он вспомнил, что в первую встречу странный жрец изъяснялся на островном языке, однако сейчас его речь повергала в изумление. Оффа подумал, что не иначе тот учился у поэтов, певших при королевском дворе.
Англосаксонский язык был несказанно богат. Гласные, сочетавшиеся многими способами, обогащали его массой оттенков и настроений. Германские согласные могли греметь и шептать, скрежетать и выстреливать. Даже в строгих виршах строчки разнились ударениями и длиной, сообразуясь с естественным ритмом картины, задуманной к воспроизводству поэтом. Это был язык скандинавских саг и людей, проживавших вблизи лесов, морей и рек. Когда поэты выступали, слушатели почти улавливали свист топора, видели, как гибнут герои, чувствовали присутствие оленя в чаще, внимали музыке лебединых крыльев по-над водой. Но прежде всего искусство поэта заключалось не в рифмовании, но в умелой аллитерации, столь свойственной этому могучему языку; в обнаружении средь многих его сокровищ неистощимого запаса эвокативных[12] повторов.
И проповедник уже начал овладевать этим мастерством. Его речь была простой и сладкозвучной. Он рассказал о пришествии Создателя на землю – то был Богочеловек, который, похоже, даровал человечеству возможность попасть в удивительное место, именовавшееся раем. Юный Оффа узнал, что очутиться там могли не только герои, павшие в битвах, не только короли и вельможи, но и бедняки, женщины и дети, даже рабы вроде него самого. Это не укладывалось в голове.
И кем же был этот Бог? Героем, но все же больше, чем героем, объяснил Меллит. То есть, по его словам, походил на Фрейра, но выше. И он был рожден зимой, в эту самую пору. Явился в зимнее солнцестояние, однако возвестил новую весну и наступление вечной жизни.
Оффа знал Фрейра. Это был бог прекрасный и юный, добрый и любимый всеми англосаксами. Епископ, пользуясь англосаксонскими понятиями, пламенно заявил:
– Фрейр, ведомый людскому роду, сей молодой герой, был Бог Всемогущий. Он Тот, кто смывает прегрешения наши водой, даритель жизни.
В дальнейшем этого Фрейра, именовавшегося Христом, принесли в жертву на кресте – англосаксы называли оный словом «rood» – распятие.
– Распятием убиенный, Он вновь восстал! – вскричал проповедник. – Он принес Себя в жертву за наши грехи и даровал нам вечную жизнь!
Чудо, как это звучало. Меллит знал свое дело.
Зачем же Фрейра распяли на кресте? Оффа не очень это понял. Но духовная составляющая, заключенная в словах проповедника, была ясна. Молодой Бог каким-то образом пожертвовал собой ради всех. Странно, но дивно. Впервые в жизни Оффа ощутил, что сама судьба – мрачный, непознаваемый вирд – могла преобразиться в нечто радостное и утешительное. Он задрожал от внезапного невыразимого восторга.
Посланием же епископа в сей день было следующее: коль скоро Христос смог положить Свою жизнь за людей, насколько же большей должна быть их собственная готовность пожертвовать собой, примириться друг с другом, чтобы оказаться достойными Его?
– Среди нас нет места жестокости, гордыне и злой воле, – изрек Меллит. – Если поссорились с соседом, слугой или женой – ступайте исправить дело. Простите их и попросите прощения в ответ. Не думайте о себе. Приуготовьтесь пожертвовать своими желаниями, ибо Бог обещал защитить нас, провести даже смертной тенью, как только мы уверуем в Него.
И он звучно завершил проповедь стихами, будучи вдохновлен англосаксонской поэзией:
Высо́ко на холм под взором небес
Возведен Господь наш и поднят на крест.
Сей добрый Воитель пришел в мир стенаний и слез;
И страшная тень пожрала свет солнца и звезд.
Ибо для нас Он повергся и крови не пожалел,
Распятый Христос, Царь творенья, за всех претерпел.
Какое-то время ошеломленная толпа молчала. Затем пронесся шелест, подобный вздоху. Римский священник растрогал сердца.
Оффа взирал на него и дивился. Не относились ли слова о примирении и прощении к Сердику и его жене? Что до прочего – обещания рая, призыва к жертве, – то юноше, к его удивлению, почудилось, хотя он и не понял всего, что для него это не пустые звуки. Переполненный чувствами, еще дрожа, он оставался на месте до конца службы.
Епископ же повел свою паству принять крещение, однако на сей раз не за стену, к Флиту, а к небольшому ручью, бежавшему между городскими холмами. Всех пригласили подойти ближе, и домочадцы повиновались под строгим взглядом Сердика. Оффа, Рикола и даже сильно обескураженные северные невольники ступили в ручей; за ними удовлетворенно наблюдали те, кто уже вымок в ходе этого короткого ритуала. Сердик, его сыновья и кентские придворные, уже ставшие христианами, взирали на это с чувством выполненного долга.
И только в самом конце процедуры суровый взор Сердика пал на Эльфгиву.
Говоря откровенно, в тот самый момент она еще не знала, как поступит, ибо ее проняло, как и Оффу, против собственной воли. Епископ, сам того не зная, обратился прямо к ее сердцу. Возможна ли надежда бо́льшая, чем та, которую предлагали ее суровые нордические божества? Неужто заоблачное провидение полнилось любовью, способной утешить страждущих вроде нее? Будь она одна и не смотри на нее Сердик, могла бы даже шагнуть с остальными. Но тот не сводил с нее глаз, как обычно жестких и беспощадных. Она колебалась, считая, что он хотел одного – капитуляции.
Епископ Меллит направился от ручья прямиком к ней. Он глянул, распознал сомнения, увидел мрачное лицо ее мужа и, припомнив недавний досадный эпизод, встал рядом и поманил к себе Сердика.
– Ты хочешь принять крещение? – мягко осведомился он у Эльфгивы.
– Так хочет мой муж.
Меллит улыбнулся и повернулся к Сердику:
– Друг мой, я окрещу твою жену, когда она придет ко мне с чистым сердцем. Когда возжелает этого, а я надеюсь, что так и будет, и не раньше. – И уже тверже он добавил: – Ты должен явить христианскую милость. Тогда она будет охотно повиноваться тебе. – И он вернулся к своим обязанностям, надеясь, что выказал понимание и тем улучшил отношения этой четы.
Сердик страстно просил Меллита задержаться в Лунденвике до утра, однако епископу не терпелось продолжить путь, несмотря на субботу.
– Братия ждет меня к вечеру в Эссексе, – объяснил он. – Путь неблизкий.
Вскоре он и его свита уже ехали через город тропой, что вела к восточным воротам. Сердик же и остальные медленно двинулись в Лунденвик, и Оффа замыкал шествие.
К вечеру атмосфера чуть потеплела. После задушевных речей проповедника поселение объял некоторый покой. Юному Оффе казалось, что и мужчины, и женщины обрели в лицах некую кротость. Он был уверен, что нынче его хозяин распахнет свое сердце, утешит жену и воссоединится с ней. Но, несмотря на всю убежденность в том, что купец был потрясен не меньше других, Оффа увидел, как Сердик отправился почивать в соседнюю хижину, оставив жену в одиночестве.
А потому далеко за полночь Оффа, уже лежа в объятиях Риколы и все еще глубоко взволнованный дневными событиями, пробормотал:
– Я думал о господине и госпоже.
– Так.
– Мы обязаны ей очень многим. Она спасла нам жизнь, хочу я сказать.
– Верно.
– Просто позор. Если бы мы только могли что-нибудь сделать.
– Вроде того, что я давеча предложила? Ты это имеешь в виду?
– Не знаю. Что-нибудь.
Когда муж уснул, Рикола еще долго лежала в раздумьях.
Главное йольское торжество приходилось на канун самого короткого дня, двумя сутками позже отъезда Меллита.
Зимнее солнцестояние! Сколь недолгим казался дневной свет! С запада набежали серые тучи, слившиеся над рекой в подобие одеяла. Когда мужчины установили в зале обеденные столы и разожгли в очаге огонь, все сошлись на том, что снежная буря разразится еще до пира. И в самом деле, в середине дня небо на западе приобрело оранжевый оттенок, знаменующий скорый снегопад.
Рикола хлопотала. Она пекла хлеб и овсяные лепешки, а также помогала двум женщинам вращать вертелы с огромными кусками оленины. Мясо, скворча, распространяло божественный аромат, и дым поднимался к соломенной крыше. Но при этом девушка не забывала о своем плане. И чем дальше, тем больше она твердила себе, что затея выгорит – не важно, верил в это Оффа или нет.
План, составленный Риколой и столь ужаснувший ее мужа, зиждился на двух чрезвычайно простых посылках. Во-первых, она знала мужчин. Во-вторых, понимала госпожу.
– Стало быть, так, – объяснила она Оффе. – Я наблюдала за ней. Она не в состоянии передумать. Считала, что потеряла его, но теперь ей известно, что можно и воротить. Эльфгива хочет уступить, но так боится лишиться его снова, что шагу не может сделать. А он тоже не станет, потому что… – Она поискала ответ, неуверенная в охвате всех возможных причин, и припечатала: – Потому что он мужчина. – Тут девушка осклабилась. – Ты знаешь, как госпожа себя ведет? – Рикола встала и великолепно изобразила особу, мнущуюся на берегу и все никак не решающуюся нырнуть. – Вот на кого она похожа. Она уже совсем созрела, надо лишь чуточку подтолкнуть. – Рикола снова улыбнулась Оффе. – Малюсенький толчок, Оффа! И дело сделано.
– И кто же толкнет?
– Мы, – ответила она, готовая вспылить.
Время, похоже, пришло.
– Я понимаю ее, – повторила Рикола. – А что до него, ему будет достаточно легко.
– А если дело зайдет слишком далеко? Если ничего не выйдет…
Последствия представлялись ужасными.
– Выйдет, – пообещала она. – Главное, делай, как я скажу.
На пир явилось с десяток гостей. Они с удовольствием прибыли в Лунденвик, зная щедрость хозяина.
В зале горело множество светильников. Длинный стол ломился. Участвовать в торжествах позволили даже домашним рабам – Оффе, Риколе и еще четверым. Повсюду были видны развеселые лица, раскрасневшиеся от эля. Один из работников только что порадовал компанию песней. Свет угасал, и крошечные снежинки ложились морозной пудрой на соломенную крышу, прежде чем медленно истаять. Небо оставалось подкрашенным в оранжевый тон.
Оффа нервничал. В голове так и звучали слова Риколы:
– Пустяки, глупыш! Он положил на меня глаз. Это естественно. Но мы можем этим воспользоваться. Неужели не понятно?
А права ли она? Риск ужасал его, но Рикола умела убеждать:
– Она мне друг и не рассердится на меня. Если мы будем сидеть сложа руки, а госпожу отошлют, что станет с нами? Отправимся за ней или куда похуже.
До проповеди Оффа не допускал и мысли об этом. И даже теперь не мог сказать толком, почему передумал. Должен ли он рискнуть ради этой женщины, которой они обязаны жизнью? Или дело заключалось в чем-то большем – чувстве, что он воспринял от проповедника: мол, все каким-то чудом наладится благодаря удивительному новому Богу? Проповедник наказал одно: веровать в Его имя. Он поверил. Он в этом не сомневался. Фрейр защитит их.
Однако Оффа вновь призадумался. Попытался отогнать неприятные мысли. И постепенно, разомлев от жара оленины и густого, пряного эля, мало-помалу начал признавать правоту Риколы. Пустяк. Все быстро закончится. Если получится – хорошо; нет – вреда никакого не будет. Он потянулся за деревянным кубком и отхлебнул еще эля.
Хозяин тоже ел и пил так, что за ушами трещало. Он выглядел довольным, хоть и оставался начеку. Эльфгива, в золотом ожерелье, выглядела, по мнению Оффы, не хуже любой молодки. Госпожа грациозно обносила гостей медовухой и элем. Ее благодарили и поднимали кубки за хозяев, клянясь в дружбе и верности. Все шло своим чередом.
Оффа заметил, что Сердик, разгоряченный медом, то и дело посматривал на Эльфгиву. Да оглянись же ты на него, беззвучно молился Оффа. Хватило бы мимолетного покорного взгляда. Если она уступит, затея Риколы станет ненужной и все разойдутся счастливые по постелям.
Однако Эльфгива, исправно игравшая свою роль, не подала Сердику знака, и тот потемнел лицом. Другие мужчины улягутся нынче с женами, но только не купец. Оффа вздохнул. План оставался в силе. Пир продолжался, а Оффа напряженно размышлял.
Гулянье было почти на исходе, когда Рикола сделала свой ход.
Люди бродили туда-сюда. Мужчинам, перебравшим эля, приходилось отлучаться. Одна или две пары, насытившиеся и раскрасневшиеся, уже удалились. Когда вышел Сердик, а Рикола с Оффой выскользнули следом, никто этого не заметил.
Чуть позже Сердик обнаружил возле своей хижины девушку-невольницу. Ее силуэт выдавался в слабом отблеске огня, выхватывая также короткие светлые волосы и придавая им странный блеск. Милашка, подумал купец. Шерстяная шаль соскользнула с плеч, приоткрыв груди – маленькие, но округлые. Если она и замерзла, то и сама не замечала. Сердик замедлил шаг.
– Где твой муж?
Она улыбнулась и кивнула на хижину:
– Спит. До утра не протрезвеет.
– Всю ночь одна, получается? – хмыкнул он.
Девушка взглянула на него, чуть помедлила и ответила:
– Похоже на то.
Сердик начал было поворачиваться, но остановился. Задумчиво посмотрел на нее. Внутри разлилась истома. Другие с женами, а он, хозяин дома, вынужден спать один.
С какой стати?
План был довольно прост. Даже груб. Но не так уж глуп.
– Нам нужно, чтобы она увидела, как он пойдет со мной. Больше ничего.
– Тогда она тебя и обвинит, – возражал Оффа.
– Нет, – мотала головой Рикола. – Не обвинит, если мы сделаем все правильно. Ему захочется женщину. Госпожа будет знать об этом. Я как бы перепугаюсь, потому что он господин и мне непонятно, что делать. Ты сходишь за ней. Скажешь, что это я послала тебя и зову на помощь.
– Она разгневается на него.
– Может быть. Но он все равно ее муж. Она не позволит ему спать с рабыней у нее на глазах. Быстро все прекратит, а женщина может сделать это только одним способом.
– Ляжет с ним сама?
– Она знает, что это возможно. На сей раз ей придется решать: либо принять его, либо он уцепится за другую. Да или нет. На месте. Она его жена! Если госпожа хотя бы наполовину женщина, то не стерпит. В конце концов, – мудро добавила Рикола, – будь она и вправду готова расстаться с ним, ее бы здесь уже не было.
Таков был план. Небольшой толчок, в котором нуждалась Эльфгива.
Оффа вгляделся в темный двор из амбара, где прятался. Они были всего в двадцати шагах, и он отчетливо видел обоих на фоне тускло освещенного дверного проема. Рикола отлично справлялась, смеясь над какими-то словами хозяина и чуть запрокинув голову. Она вела себя дружелюбно, естественно, приветливо и соблазнительно, не искушая его всерьез. Девушка увидела, как Оффа скрылся внутри.
Дело было проще простого, но ему следовало поторопиться.
В доме Сердика царила жара. У Оффы на миг защипало глаза от дыма, напитавшего воздух. Очаг и светильники заливали помещение теплым сиянием. Вопреки ожиданиям он не сразу разобрал, где сидела Эльфгива. Стол тянулся через весь небольшой зал. На полпути Оффе помешали пройти двое складских рабочих, которые вздумали отключиться в обнимку и мирно храпели. Обогнуть их не удалось, пришлось перелезать. Те ничего не заметили.
Наконец он добрался до госпожи, готовый произнести слова, которые Рикола заставила его много раз повторить.
Но Эльфгива беседовала с пожилым землевладельцем с верховья реки. Когда с ней попытался заговорить раб, она отмахнулась. Малый, однако, оказался настырен, и она велела обождать. Эльфгива продолжила учтивый разговор со стариком, который выкладывал какую-то нескончаемую историю. Это утомляло, но нужно было выказать уважение. Предок землевладельца сразил в бою не меньше трех человек, включая видного северного вождя, – на этом месте Эльфгива вновь посмотрела на раба и заметила, что тот пришел в величайшее нетерпение.
Сообщение, отрепетированное Оффой, было очень простым. «Леди, меня послала жена. Она умоляет о помощи. Ей не хочется оскорбить господина». Верная рабыня, очутившаяся в неловком положении. Остальное же пусть он предоставит Риколе, велела та.
Но время истекало. Похоже, что землевладелец настроился поведать Эльфгиве еще и о братьях своего пращура. Оффа обеспокоился всерьез. Когда же госпожа чуть раздраженно повернулась к нему, он смешался.
– Моя жена… – начал он.
– Она мне сегодня не понадобится, – улыбнулась Эльфгива и стала отворачиваться.
– Нет же, госпожа! Моя жена…
– Не сейчас. – Она вновь вознамерилась показать ему спину.
– Госпожа, моя жена… – попробовал он опять, уже не без отчаяния. Затем продолжил, забыв заученное: – Ваш муж и моя жена… – Он указал на дверь.
Эльфгива нахмурилась:
– О чем ты говоришь? – Она наскоро улыбнулась землевладельцу.
– Они вас зовут! – выпалил парень, смутившись уже вконец.
Госпожа наконец пожала плечами, извинилась и направилась к двери.
Где же Оффа? Рикола так тщательно все рассчитала! Она хотела, чтобы купец дошел до известного предела и дальше не лез, но время шло, и Сердик возбудился. Она не знала, как быть. Прошло еще сколько-то времени, купец положил ей руку на плечо. Либо дать ему отпор и рассердить, либо…
Тех же все не было. Сердик улыбался шире и шире. Она чуть не скривилась в осторожной попытке убрать его лапу, которая уже нащупала грудь. Не сейчас, хотелось ей взвизгнуть. Не сейчас.
Но тот уже распалился до поцелуев.
Когда Эльфгива шагнула из низкого дверного проема в темный двор, то отчетливо различила у входа в хижину силуэты мужа и рабыни. Муж целовал девушку, которая ничуть не противилась. Платок валялся на земле. Когда они расцепились и глянули в ее сторону, Сердик улыбнулся одновременно виновато и торжествующе. Но девушка, изобразив странную пантомиму, будто отталкивает его, посмотрела на Эльфгиву со страхом.
Эльфгиве вспомнилось лишь одно. О чем имела дерзость заявить ей маленькая невольница? «Не будет вашим – станет чьим угодно еще». Что-то вроде этого. А теперь она решила, что может забрать его и сама.
Женщина повела плечами. Конечно, она была уязвлена. Да просто пришла в бешенство! Однако с горечью подумала, что если муж предпочел развлекаться с рабыней, то будет ниже ее достоинства обратить на это внимание. Не глядя более ни на Оффу, ни на любовников, госпожа вернулась на пир, преследуемая юношей, который порывался что-то сказать. Но она не слушала.
Ибо несчастная Рикола не осознала одного. Горюя, Эльфгива могла ей довериться, однако Рикола была для высокорожденной саксонской госпожи всего лишь рабыней и никакая не соперница. Дело не стоило и ломаного гроша. Она невольница, которой муж мог воспользоваться ночью за неимением лучшего, а после избавиться от нее. Эльфгива же даже в таких обстоятельствах легко могла выбросить ее из головы.
Что и сделала. Возвращаясь к болтливому старикану, она просто махнула юному Оффе, чтобы шел прочь.
Когда тот снова вышел наружу, Сердик с Риколой исчезли.
Ночь показалась Оффе долгой. Ветер стих. Поначалу, сидя у двери хижины, он видел, как из господского дома напротив выходили люди и, спотыкаясь, брели по двору. Иногда он слышал приглушенное бормотание и пьяный смех. Не купец ли с Риколой?
У той не осталось выхода. Оффа понимал это. Даже окажи она сопротивление, купец был больше и намного сильнее, а прав у них с Риколой, как у рабов, немного. Его поразила ирония ситуации. В родном селении, будучи вольным человеком, он мог противостоять старейшине – по крайней мере, потребовать возмещения ущерба. Но, потеряв голову, а за ней и свободу, обеспечил себе повторение этой истории, на сей раз оказавшись совершенно беспомощным.
Оффа застонал, сокрушаясь о собственной глупости.
Недолгое время он тешил себя тщетной надеждой на то, что Риколе удалось сбежать от купца. Может, Сердик оказался слишком пьян или она как-то сумела отвертеться. Это упование было в лучшем случае призрачным. Оно иссякло, когда ночь сгустилась, а Рикола так и не пришла.
Вопреки здравому смыслу Оффу подмывало отправиться на поиски. Где они – может, в амбаре? Или в какой-то хижине?
«Но что я сделаю? – буркнул он себе под нос. – Воткну и в него булавку? – Обдумывая безнадежность ситуации и свою глупость в том, что он позволил Риколе эту затею, Оффа покачал головой. – Никогда бы такого не сделал, если бы не проповедник. Много же мне проку от его нового бога!» Фрейр-на-Кресте показался ему бессильным божеством.
Рикола же, покоившаяся в могучих руках Сердика, размышляла. Сперва она уплыла мыслями к мужу, затем к Эльфгиве. Чем обернется для них нынешняя ночь? Для ее брака, положения при госпоже, дальнейших отношений с купцом? Она мягко провела рукой по его груди, ощутив жесткие волоски. Хотела уйти, но тот уснул, прижимая к себе крепкой рукой. В предутренние же часы купец пробудился.
Рикола знала, по крайней мере, одно. Она уже понесла новую жизнь, принадлежавшую ей и Оффе, которую была обязана защищать при любых обстоятельствах.
Однако Рикола несказанно удивилась бы, разгляди она в предрассветные зимние сумерки свою госпожу.
Эльфгива не спала. Она лежала без сна, беспокойно ворочаясь. Перед глазами вновь и вновь проходили события минувшего вечера, и вскоре гнев уступил место другому чувству, попроще, – сожалению. «Почему я не остановила его?» И дальше, словно обращаясь к кому-то еще: «Он был твоим, и ты его отвергла».
Она была оскорблена, но и мужа жалела. Ей было известно о его нуждах, но она отказала ему. И почему? Из-за верности своим богам. Из страха унижения. Из гордости. Но счастлива ли она в гордыне? Хуже ли унижение этого безобразия? А что до богов ее предков и верности оным, то разве утешили ее этой зимней ночью Воден, Тунор и Тив? Ей казалось, что нет.
Чуть до того, как забрезжил рассвет, Эльфгива закуталась в тяжелые меха и сошла по склону к реке. Вода текла еле слышно и в темноте казалась черной. Сгорбившись, Эльфгива присела на мол и уставилась на реку.
Как поступил бы отец? Он поднял бы парус и отправился к далеким берегам, доверившись богам и бросив вызов морю. Но он был мужчина. Ночь длилась, и выбор старого мореплавателя казался ей все менее важным. И все же эта бесстрашная душа могла бы одобрить решительность, с которой Эльфгива устремилась вверх по склону.
В конце концов юная Рикола оказалась права. Ее уловка сработала, хотя и позднее, чем ей хотелось. Эльфгива решила восстановить свою власть над браком.
А потому наутро Сердик внимал жене с облегчением и теплым довольством, та же твердо рекла:
– Я приму твоего нового бога. Скажи своему жрецу – пусть крестит. – Однако добавила: – Девчонка-рабыня должна уйти.
Тот улыбнулся и обнял ее.
– Девчонка должна уйти, – повторила Эльфгива.
Он пожал плечами, как будто это не имело значения.
– Все, чего пожелаешь, – сказал он. – В конце концов, она принадлежит тебе.
Той долгой ночью произошло еще одно событие, неведомое никому из них.
Прибыл гость.
Едва над протяженным эстуарием Темзы занялся рассвет, течением понесло одинокое судно. И с наступлением тягостного, промозглого дня оно только-только нырнуло в большое колено книзу по течению от поселка.
Когда с приплюснутого ходкого судна стала видна пристань Лунденвика, стоявший на баке невысокий и коренастый человек в предвкушении уставился на него. Ему было за сорок, он отличался довольно грубым лицом и пегой, очень коротко стриженной бородой. Из всех фризийских торговцев он один отваживался путешествовать к острову в это холодное и опасное время года. Он делал это потому, что был бесстрашен, умен и алчен. Товар свой он покупал задешево, ибо его владельцы экономили на обустройстве и пропитании оного в зимние месяцы. Купец этот также оказывался обычно единственным, кто доставлял припасы, остро потребные до прихода весны. Он промышлял людьми. Всему североевропейскому побережью было известно: «Зимой рабов дождешься только от этого хитрого фриза». Он достиг Лунденвика к полудню.
При виде фризийского судна Сердик улыбнулся.
– Так и знал, что прибудет, – заметил он десятнику.
– Рассчитывал, – ухмыльнулся тот.
– Верно. – Торгуя северными рабами, Сердик предоставил купцу думать, будто потратится на их содержание в течение всей зимы, а потому приобрел по намного более выгодной цене. – Я и не говорил, что не сумею продать их до весны, – напомнил Сердик. – Я только сказал, что работорговля обычно начинается весной.
– Разумеется.
Сердик никогда не лгал.
К середине дня фриз осмотрел северных рабов и дал хорошую цену. Он удивился и восхитился, когда Сердик сделал жест доброй воли и предложил еще двоих сверху – мужчину и женщину – со скидкой.
– Я просто хочу избавиться от них, – объяснил Сердик. – Но они не доставят тебе никаких хлопот.
– Беру, – сказал фриз и заковал обоих в цепи вместе с прочими.
Совсем без хлопот, впрочем, не обошлось. На закате девка принялась вопить, что хочет поговорить с хозяйкой. Но та, похоже, разговаривать не желала, а потому работорговец быстро утихомирил ее кнутом, после чего отправился трапезничать к Сердику. Утром он собирался отчалить с отливом.
В англосаксонском календаре самая длинная ночь в году называлась модранехт – мать всех ночей.
Сердик с женой уже давно не спали вместе, но нынче, когда легли, купец словно вернулся домой, а что до Эльфгивы, то ей показалось, будто этой долгой ночью в ней что-то раскрылось вновь. Нечто чудесное и загадочное.
Утром она проснулась с мирной, особенной улыбкой.
Судно подготовили к отплытию.
Это была скандинавская ладья с высоким килем, очень похожая на ту, которую осенью разгружал Оффа. Ширина позволяла рабам сидеть в средней части с вытянутыми ногами. Во избежание неприятностей лодыжки у них были скованы.
И все же Рикола продолжала лихорадочно размышлять. Несчастная пролежала в невольничьей конурке всю ночь, надеясь на помилование. Пыталась поговорить с Эльфгивой. Ей было нужно всего несколько секунд – она объяснила бы все. Рикола не сомневалась в этом. Однако с момента, когда наутро за ними с Оффой пришли люди Сердика, хозяйка как в воду канула. Для Эльфгивы и ее мужа оба они вдруг перестали существовать. Когда Рикола воспротивилась и попыталась криком донести свое сообщение до людей вне жилища рабов, фриз жестоко избил ее кнутом. После этого к месту, где жили рабы, не подходил никто. Ни одна живая душа.
Конечно, сочувствующий найдется. Хотя бы Вистан, раз не его мать. Рикола сочла свою изоляцию преднамеренной. Кто-то об этом распорядился – либо Эльфгива, либо ее супруг. Приближаться к ним с Оффой запретили. Никакого общения. Этих рабов надлежало вычеркнуть из жизни.
Но если бы только Эльфгива знала ее секрет! Сказать бы ей лишь о беременности! Неужто женщина не исполнится сострадания? Когда наконец рассвело и Риколе почудилось, что вокруг ходят люди, ее надежды чуть укрепились и сосредоточились на одном, жизненно важном деле. Неведомо как, но по пути от жилища рабов к лодке она должна передать Эльфгиве это единственное сообщение. Без разницы, сколько безжалостных ударов кнутом она заработает. Рикола была обязана сказать.
Миновал час. Под дверь проникал свет. Немного позже она распахнулась, вошел фриз. Он молча выдал им ячменные лепешки с водой и скрылся вновь. Прошло еще какое-то время, пока он не вернулся с четырьмя матросами из своих восьми и не вывел всех в холодное, серое утро.
Как и ожидала Рикола, на берегу столпились люди, желавшие посмотреть на отплытие. Она увидела складских рабочих, десятника, женщин, с которыми трудилась изо дня в день. Но не было никого из семейства Сердика – даже ни одного из четверых сыновей. Если они и следили, то пребывали вне поля зрения.
Очутившись на прибрежной возвышенности, Рикола прошла вблизи от одной из женщин – стряпухи.
– Я понесла, – шепнула она. – Передай госпоже Эльфгиве. Скорее!
– Молчать! – рявкнул фриз.
Рикола умоляюще взглянула на женщину.
– Ты что, не понимаешь?! – крикнула она. – Я понесла!
В следующую секунду ее плечи ожгло; затем на шею легла рука фриза и толкнула вперед. Больно вывернув шею, девушка изловчилась оглянуться на женщину. Широкое саксонское лицо стряпухи было бледным – возможно, слегка испуганным, но она не шелохнулась.
Фриза что-то отвлекло. Он отнял руку и направился в начало строя. Рикола же проходила мимо десятника.
– Я понесла, – обратилась она к нему. – Передай госпоже, это все! Я понесла.
Тот бесстрастно уставился на нее, как на скотину. Хрясь! Со свистом кнут опустился вновь. Один раз, другой, обвиваясь вокруг шеи, понуждая к страдальческому крику.
Теперь Рикола была вне себя. Терять было нечего. Достоинства не осталось, о боли можно забыть.
– Я тяжелая! – закричала она во всю мощь своих легких. – Госпожа Эльфгива! Я понесла! Неужели вы не понимаете? Понесла! У меня будет дитя!
Четвертый удар пришелся на место первого и рассек глубоко. На миг Рикола едва не лишилась чувств. Она ощутила, как сильные руки волокут ее вниз, и все причитала:
– Дитя… У меня будет дитя…
Она содрогалась всем телом от потрясения и боли. Но никто так и не сдвинулся с места.
На судне она сидела тихо и минут пять приходила в себя. Фризские матросы равнодушно грузили товар. Сам торговец, руководивший ими, как будто забыл о ней, словно и не было вспышки ярости.
Крик ее, разумеется, разнесся по всему торговому посту. Эльфгива или хоть кто-нибудь из семьи не могли не услышать. Рикола посмотрела на северных рабов впереди. У них, по крайней мере, и надежды-то не было. Их ждала какая-нибудь далекая франкская ферма или средиземноморский порт. Этим рабам предстоял тяжелый труд, пока они не ослабеют, после чего им, вполне вероятно, придется работать еще усерднее. А потом наконец они отдадут себя до капли и умрут. Если только не повезет очень и очень крупно.
А как поступали с беременными? Позволят ли ей остаться с мужем? Рикола подумала, что вряд ли. А что будет с ребенком? Кто бы ее ни купил, он мог сохранить ему жизнь. Но вероятнее… Об этом она едва могла думать. Вероятнее, как говорили, дитя утопят, едва оно родится. Какая польза хозяину от младенца?
Ее взгляд упал на высокий изогнутый нос ладьи. До чего же он был безжалостен, подобный некоему огромному холодному клинку, готовому резать воду! Или, подумалось ей, напоминает клюв зловещей хищной птицы. Она обратила взор к берегу.
Лунденвик. Последнее место, где ноги их ощутили британскую почву. Серый, угрюмый Лунденвик – причал, откуда англосаксы продавали своих сыновей и дочерей. Она ненавидела его вкупе с бесстрастными лицами на зеленом берегу.
– Похоже, им дела нет до нашего отплытия.
Рикола вдруг поняла, что в своем отчаянии не говорила с Оффой с минувшего вечера. Бедняга Оффа, воткнувший булавку в старейшину, поверивший в ее неудачный замысел. Оффа, отец ее ребенка, которому, быть может, суждено умереть. Она взглянула на него, но ничего не сказала.
Фриз шел назад. Матросы на корме и носу приготовились отчалить. Все было кончено. Сокрушенно тряся головой, Рикола уставилась в днище, а потому не увидела Эльфгиву, спускавшуюся по травянистому склону.
Она услышала.
Но сломил ее не только вопль Риколы. То был вопль вкупе с чем-то еще – тем, что произошло между мужем и женой в усадьбе Сердика, когда сошла мать всех ночей – крохотное семя радости долгой ночью зимнего солнцестояния. Утром она проснулась, потянулась и ощутила мужнин поцелуй, а после услышала крик девушки. Сжалиться над несчастной Риколой и ее мужем Эльфгиву заставило это новое, тайное тепло.
Потому вскоре, к своему великому изумлению, чета вновь оказалась во дворе длинного, крытого соломой здания перед своей госпожой.
Беседа, однако, не затянулась. Эльфгива оказалась лаконична. Она велела им замолчать немедля, как только те попытались объясниться. У нее не было желания слушать.
– Радуйтесь, что вы не на невольничьем судне, – заявила она. – И можете считать, что вам повезло еще больше. Я возвращаю вам свободу. Идите куда хотите, но чтобы ноги вашей не было в Лунденвике.
Она повелительно махнула им, и те поспешили уйти.
Чуть позже Сердик, с причала наблюдавший за их уходом, испытал соблазн сделать девчонке подарок, но передумал.
Днем посыпал снег. Размеренный, неспешный. Побережье укрыло белым одеялом.
Рикола и Оффа ушли недалеко. Оффа сладил шалаш неподалеку от брода на острове под названием Торни. Снег был ему в помощь. Работая проворно, мужчина окружил строение снежными стенами. К сумеркам они с Риколой неплохо согрелись в этом подобии дома, укрепленном хворостом и валежником. У входа он развел костер. У них было немного еды: стряпуха снабдила их ячменными лепешками и мясом, оставшимися с пиршества; этого должно было хватить на несколько дней. Но с приходом ночи к их маленькому лагерю подъехал всадник. Голову скрывал капюшон; он спешился, и пламя высветило дружелюбное лицо юного Вистана.
– Держите, – ухмыльнулся он и бросил наземь предмет, крепившийся к седлу, – оленью ляжку. – Завтра наведаюсь опять, чтобы узнать, все ли у вас ладно, – пообещал он, прежде чем уехать.
Так молодая чета начала новую жизнь средь дикой природы.
– Пусть волосы отрастают, – с улыбкой напомнил Риколе Оффа. – Отныне мы хотя бы не рабы.
Из оленьего жира он как мог изготовил немного масла, чтобы смазать следы от кнута на ее шее и плечах. Она поморщилась, когда муж дотронулся до них, но ничего не сказала, и Оффа продолжил.
Ни тогда, ни впоследствии они не говорили о ночи, проведенной Риколой с купцом. Но когда Оффа спросил, действительно ли она беременна и та кивнула, он испытал облегчение. Теперь вторжение купца в его жизнь почему-то казалось не столь уж важным.
– Проведем здесь несколько дней, – заявил Оффа. – Потом я что-нибудь придумаю.
Река была протяженной. Долина – изобильной. Река позаботится о них.
Той же зимой на реке зародилась еще одна жизнь. Ко второму месяцу года Эльфгива убедилась, что зачала.
– Я уверена, что это случилось в модранехт, – заметила она мужу, к его удивлению и восторгу, однако не поделилась с ним своим предчувствием, что на этот раз будет девочка.
Эльфгиве осталось исполнить единственный долг. Епископ Меллит вернулся проинспектировать строительство маленькой соборной церкви Святого Павла лишь к весне, в четвертый месяц года, когда англосаксы отмечали древний праздник богини Эостры. Стройка теперь продвигалась стремительно. Окрестные землевладельцы, не исключая Сердика, выделили дополнительную рабочую силу. Под надзором монахов и с применением римских камней и плитки, лежавших повсюду, строители возвели скромный четырехугольник стен с маленькой круглой апсидой с одной стороны. Крышу сделали деревянной, не умея выстроить ничего сложнее. Постройка, выросшая близ вершины западного холма, смотрелась очень неплохо.
И вот накануне чествования Эостры Эльфгива в присутствии четверых своих сыновей была препровождена мужем к речушке Флит, где преклонила колени на берегу, а епископ Меллит окропил ее водой в простом обряде крещения.
– Коль скоро имя твое, Эльфгива, означает «дар эльфов», – улыбнулся епископ, – я крещу и нарекаю тебя новым. Отныне ты будешь зваться Годивой, что означает «дар Бога».
В тот же день он обратился к жителям Лунденвика с очередной проповедью, в которой подробнее растолковал смысл Страстей Христовых и то, как сей невиданный Фрейр воскрес из мертвых после распятия. По его словам, этот великий праздник имел первостепенную важность в христианском календаре и всегда выпадал примерно на эту пору.
А потому с тех пор Пасха – главный христианский праздник – на английском звучит как Easter, и это название идет от имени языческой богини весны Эостры.
Переход англосаксов в христианскую веру и восстановление древнего римского города Лондиниума, или Лундена, как называли его саксы, не был окончательным.
Миновало чуть больше десяти лет, и короли Кента и Эссекса упокоились вечным сном. Их народы восстали против новой религии, и новоявленным епископам пришлось уйти.
Но Римская церковь, единожды утвердившись, так просто не сдавалась. Епископы вскоре вернулись. На протяжении следующего столетия или около того великие миссионеры – епископ Эрконвальд среди них – устремлялись в отдаленнейшие уголки, и Англосаксонская церковь пополнилась видными святыми и стала одним из ярчайших светочей христианского мира.
В последующие века Лунденвик разросся в важный саксонский порт. А много позднее, в эпоху короля Альфреда, над ним снова возобладал римский город, после чего старый торговый пост в миле к западу вспоминали как «старый порт» – auld wic, или Олдвич. Но это явилось делом далекого будущего. И на протяжении веков после Сердика Лондиниум, заключенный в стены, стоял особняком. Там отстроили лишь несколько религиозных строений да, может быть, скромный королевский замок. На западном холме, где девочкой бегала дочь Годивы, домов было мало. Однако она навсегда запомнила, как каждый месяц или два примечала веселого рыбака с прядью белых волос на лбу, который отчаливал от мыска на южном берегу в долбленой лодочке, сопровождаемый несколькими своими детьми, и все бродили в развалинах, исследуя почву.
Только кто они были и что искали – она так и не узнала.
10
Соответствующий свод законов известен как «Правда короля Этельберта».
11
Йоль – средневековый праздник зимнего солнцеворота у германских народов.
12
Эвокативный – напоминающий.