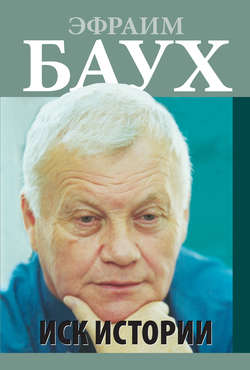Читать книгу Иск Истории - Эфраим Баух - Страница 3
Часть первая
Иск Истории
Глава вторая
Евреи и французы
Евреи и французы
ОглавлениеС детства слово «француз» у меня было прочно связано с моим еврейством. Евреев называли «маланцами» или «французами». В сорок шестом году у меня появился школьный друг Андрей Афанасьев, француз настоящий, родившийся в Гренобле в тридцать третьем. Отец его в начале века учился в духовной семинарии в Казани, готовился к посвящению, но стал летчиком.
Грянула Октябрьская революция. Отец перелетел в Польшу. Самолет у него конфисковали, самого интернировали во Францию. Там он завел новую семью, женившись на молодой женщине Морозовской, брат которой, русский офицер, погиб в Первую мировую и похоронен был на Армянском кладбище в Кишиневе (у входа, справа). Жила семья Андрея в Гренобле, городе, который был мне далеко не безразличен, ибо в тридцатые годы там учился на юридическом факультете университета мой отец.
В сорок шестом русская колония во Франции, испытывавшая ностальгию, соблазнившись посулами советской власти (с Молотовым во главе), вернулась в «родные пенаты», и через весьма короткое время отцы семейств уже прочно сидели в гиблых застенках. Отец Андрея с еще не выветрившейся французской вольностью, в поисках одеколона обронил в каком-то месте (а тогда все стены имели уши) фразу, что, дескать, по всем углам стоят статуи вождей, а одеколон достать невозможно. Но главная вина его была в том, что он знал французский, переписывался с Францией, и это, естественно, означало скрывание опасных мыслей.
В эти первые послевоенные годы я уже ходил в синагогу читать кадиш по отцу, сгинувшему во Второй мировой войне. Возвращаясь домой, я проходил мимо церкви, испытывая стеснение в груди между этими двумя обителями Бога.
Ощущение было таково, что здесь, среди по-домашнему знакомого мирка – булыжной мостовой, аптеки, рынка, развалин, – как внутри матрешки упрятано за обычными стенами пространство. Оно было огромным – высокое, замкнутое, хоральное, с незнакомыми лицами, выписанными на стенах, с накладной позолотой иконостаса, запахом горящего ладана, кадильного дыма, хоругвей, из которых не выветривался запах вечных похорон.
Церковное отпугивало своей чрезмерной телесностью: куличи были хлебом, но символизировали плоть.
Синагога была местом домашним. Но стоило среди кашля и скрипа скамеек раскрыть книгу с нездешними знаками, произнести «Итгадал ве-иткадаш шмэ раба» («Да возвысится и восвятится великое имя Его») – и без всяких пышных ритуалов и роскошных атрибутов некое дуновение касалось лба, спирало грудь. Так бывает под водой, когда ощущаешь последние частицы воздуха в легких. Вся суета окружающей скудной жизни мгновенно отходит. После можешь плыть, уставать, сомневаться, но всегда помнить, что высоты и пропасти духовного пространства скрыты в этих книгах.
Церковное особенно остро воспринималось мной в зимние дни, сливаясь с ранними, студеными закатами, снегом, хрустом шагов на морозе, колокольным звоном и криком суматошно разлетающегося от колокольни воронья. В этой влекущей ледяным сном зимней феерии словно бы скрывалась тайна христианства, ее холодный северный лик. Летом церковь как бы скукоживалась за пылью и тусклым громыханием тележных колес по булыжникам площади и рынка.
Была весна. Таял снег. Запах гнили кружил голову. В пасхальный вечер тетки Андрея Катя и Саша (в их доме Андреева семья нашла приют) отправлялись, ковыляя, в церковь, у железной изгороди которой уже толпились мальчишки, собиравшиеся на всенощную красть куличи и крашеные яйца. В доме пахло масляными красками, которыми Андрей наносил на холст портрет Ван Гога в облике Христа с терниями вокруг головы, а я листал пахнущие прелью времени книги из старой библиотеки Андреевых теток.
Нашел «Жизнь Иисуса» Эрнеста Ренана.
Гербовый лист, искусно выписанная заставка, великолепный тисненый переплет и, главное, текст с ятями и твердыми знаками – все это ощущалось обломками прошедшего, обладавшего отточенным стилем времени в проходящих мгновениях жизни, напрочь заливающих беспамятством.