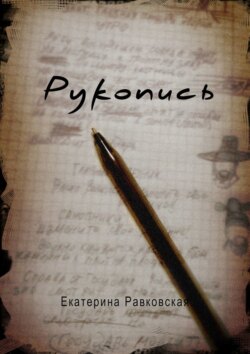Читать книгу Рукопись - Екатерина Равковская - Страница 2
Глава первая
ОглавлениеЕго знали под именем К. Б.
Да и сам себя он, пожалуй, признавал под этим именем не менее охотно. Это не родители дали голопопому червяку, это он выбрал сам, глядя в зеркало, и ему понравилось. Что, в сущности, меняется, когда один бессмысленный набор звуков заменяют другим? Имя, так-то, глупая шутка. Сам себя не забудешь, как бы тебя ни звали, а другие забудут так или иначе. Опять же, как бы тебя ни звали.
А вот удобство двойного имени трудно оспорить. Раньше, как он где-то читал, так крестили больных детей, чтобы не сглазили и не ссурочили окончательно. Сейчас никто этим не заморачивался. Сейчас вместо бабок-завистниц была Сеть. И был ник, и собственное умение прятаться за ним вместо молитв и ангела-хранителя. Картинкой в профиле, набором нулей и единиц становился каждый желающий и нежелающий, каждого оцифровывали. И кладбище аккаунтов уже готовило свои цифровые могилы, в которых, в отличие от могил настоящих, можно пролежать и вечность.
Забавно, когда тебя записывают на флешку. Забавно самого себя на нее записывать. Вообще, не быть собой крайне забавно. Когда тебе не хватает смелости сказать, сделать, когда жизнь вокруг тебя тянется до противного, как приставшая к джинсам жвачка, нацепи новое лицо – и сразу все классно, радужно и красиво.
Человек по имени К. Б. знал это и искренне любил самого себя за свое новое, чистое, красивое и громкое лицо. Оно уже даже стало родным.
К. Б. был сценаристом. Настоящее имя, к счастью, оказалось недостаточно звучным. Да и то, настоящее имя носил романтичный напыщенный идиот, возомнивший в свое время, что после истфака возьмут хоть куда-то. Опомнился он быстро. Студгазета, драмкружок, прочие слова-левиафаны и одобренное законом веселье вылились, наконец, в профессиональную писанину. К. Б. даже был популярен. Печатался там и сям, сугубо из любви к искусству, украшал своим появлением вечера местного союза писателей, получал гонорары, писал сценарии для сюжетов местного телеканала. Без заморочек и выедания мозгов любил студенческую подругу, которая – о чудо! – так крепко присосалась к истории Древней Руси, что на современную едва ли обращала внимание. Они виделись на общей квартире вечерами и с утра, сталкиваясь у зеркала в ванной, привычно улыбались друг другу, привычно ссорились, хлопали дверью и возвращались через две минуты забрать оставленный на диване мобильник. Их это устраивало обоих. И она даже любила К. Б., а не того лупоглазого восторженного парня, сидевшего когда-то на соседней скамейке в аудитории.
Даже находилось время снять с себя личину, порассуждать, как низко пал этот мир, чтобы потом с новыми силами влиться в его течение. Лучшего и желать было нельзя. Жизнь К. Б., заполненная до краев, плескалась и играла рубином, расточала аромат хорошего портвейна. Хорошего, а не пресловутого «три семерки», бутылки из-под которого красовались порой в урне у подъезда.
Портвейн, вообще, хорошая штука. Если не хочется глушить крепкое, как банальный алкаш, а вино не вставляет, слишком красивое, всегда можно пойти на компромисс. Найти что потверже и позабористей, но не такое мощное, как виски или коньяк. Серединка на половинку, «порт-вейн», разве это не то самое ядреное и забористое пойло, которым накачивались моряки в кабаках при гавани? И чтобы как в той отвязной джазовой песенке: «В кейптаунском порту с пробоиной в борту,„Жанетта“ поправляла такелаж».
Удобно самому быть серединка на половинку. Не хватать звезд с неба, задыхаясь в вакууме своей гениальности, и не прозябать в ничтожности и бессмыслице. Брать от жизни все и не огребать обухом по голове на сдачу. Быть одним из всех и быть не таким, как все, – вернее, быть одним из не таких, как все.
Только иногда хочется большего.
К. Б. жил полной жизнью. Кутил вкусно, радовался в полную силу, страдал с запахом горького миндаля, чтобы ни о чем не жалеть потом. И этого было достаточно, чтобы не обращать внимания на сосущую пустоту в душе.
Тяжело внушить самому себе, что у тебя есть все. Даже если это все, черт побери, действительно есть. Машина, дом и красотка-подружка, признание, легкие деньги, которые даже не назовешь работой. Даже депрессия – и та как по заказу, пафосная и красивая, на блюдечке с золотой каемочкой.
К. Б. не кривил душой. Он ненавидел тупость быдла, собой унавозившего улицы города, он ненавидел беспросветную зимнюю хмарь и лютый смех идиотов над собственными несмешными шутками, ненавидел самого себя за попытки втиснуть в эти шутки то большое и важное, что сидит внутри. Особо ненавидел себя за отвратительную рекламу майонеза, которая до сих пор приносила неплохие деньги. И эта ненависть, самое ненавистное, ему нравилась.
Ведь нет ничего лучше, чем торчать на диване, плевать в потолок и ныть, рассыпаясь на никчемные кусочки. Нет ничего лучше, чем ничего не делать и ненавидеть себя за это – а потом отрывать свою задницу от дивана и снова ничего не делать. Тусовки, работа, писк терминала, считывающего с карты деньги, – разве это можно назвать жизнью? Тепличное прозябание, не имеющее с ней ничего общего.
К. Б. не верил в депрессию. Он жил в ней.
А хотелось другого. И, самое страшное, это другое помнилось.
– Эй, поехали на речку! У меня две бутылки киндзамараули!
И они, худые и молодые до неприличия, едут на речку, хлещут эту черняво-красную бодягу, кувыркаются в холодной, пробивающей на дрожь воде, подставляют полуголые тела солнцу. Купаются в этом солнце, горстями швыряют вверх жидкое стекло реки, опадающее на кожу каплями-блестками, хохочут, опрокидывают друг друга в воду, чтобы потом, стуча зубами от холода, выбраться на берег и подставить обгорающие плечи все тому же солнцу. И видят в каждом чудо, пьют это чудо большими глотками, и оно пленит хлеще вина. Когда взять за руку, соприкоснуться мизинцами – магия, а сжать в пальцах упругие холмики девичьих грудей – уже веселая и глупая работа. Когда каждая трудность превращается в вызов, в бой, а спор – это рыцарский турнир.
Когда воздух пах счастьем.
Когда он не был К. Б. Когда он был самим собой.
И он променял эту речку, эту честность, эту молодость и это дешевое бордового цвета пойло на богатство и известность, на квадратную бутылку с черной этикеткой и беседы с такими же скучными пустобрехами о том, что сейчас в тренде, а что нет. Его мысли даже работали, нравились, имели успех и единомышленников…
Только вот известного сценариста, владельца недвижимости и бренда, смелого, дерзкого и бескомпромиссного автора не отпускало ощущение, что где-то его бездарно, безукоризненно нагрели.
Хотелось большего. Хотелось жить. Там, в прошлом.
Без имени, без славы и, черт побери, без денег – лишь бы настоящим.
И это горькое, въедливое, навязчивое чувство терзало его день за днем уже, казалось, целую вечность. Отступая с восходом, оно по ночам зудело как зубная боль, не давало и шагу ступить, и вдохнуть, вплавлялось в кожу и заставляло себя ненавидеть. Пуще того, конечно, ненавидеть окружающую тупость и те стада идиотов, которые выбили из головы способность мечтать и кричать в полный голос. Эта машина, «Комбинат» Кена Кизи, перемалывала людей как котлеты и везла человеческий фарш в «Макдональдс», чтобы там же из фарша лепить бигмаки и пичкать ими массу, чтобы не лезла выше собственных ушей, а продолжала корчиться на дне и вымаливать еще порцию. Чтобы людям стало друг на друга окончательно параллельно, чтобы все имеющееся на земле лишилось смысла. Просто так. Для удобства и потому что. Даже нелепые шутки про инопланетян сюда хорошо подходили – как же, злокозненный внеземной разум решил лишить человечество желания жить. Всех разом. Тупо чтобы посмотреть.
А он хотел быть там. В прошлом. Где горстями швыряли друг в друга свет, смеялись в полный голос, и этот смех во все стороны разносило эхо, а не как сейчас, глохло в стенах собственной черепной коробки.
Хотя бы в своем прошлом.
И день за днем крепла мысль разделаться с этой рутиной и пустотой одним махом, как ударом рыцарского меча, как тогда, в шальной беззаботной юности. Напополам.
И он начал искать. Но как ни оборачивался внутрь себя, ничего, кроме все того же тлена, там не находил.
И вот тут-то началась настоящая депрессия. Черная как смоль, черная как нефть, черная как заваренный до чифирной крепости чай с маслянистой пленкой, такая же горькая и шибающая в нос. Вкусная, как ни крути. И тяжелая ровно настолько, чтобы ее захотелось поднять через силу, – вновь, как тогда. Как в настоящей жизни.
В тот день, когда К. Б. создал на ноутбуке новый, пустой текстовый документ, небо было сирым и хмурым – но ему казалось, что впервые за многие годы вышло и глянуло в окно солнце.
– Ты кукухой поехал, – обреченно сказала ему подруга, услышав первую идею.
И он выкинул ее. Без жалости, с вкусной, здоровой злостью. Не подругу – идею, разумеется. Потому что оно того стоило. Да и первая мысль действительно пришла совершенно никчемная.
Первым делом он перерыл все свои записи, какие смог найти. Даже самые ранние, обрывочные, где не связано и двух слов, он методично перебирал, выискивал по крупицам и откровенно страдал. Сейчас, в окружении старых блокнотов с пьяными каракулями, в которых едва ли можно было узнать человеческий почерк, он хватался за волосы и едва не бился головой о стену. Идеи, блестящие, шикарные и пустые, как смятый пластиковый стаканчик, издевательски подмигивали ему с каждой строчки, каждого слова. И он ведь не мог вспомнить ни одной. Ни совершенно безалаберные сокращения, состоящие порой из одних согласных букв, ни тупые зарисовки пустолицых голов в бацинетах не наводили ни на единую мысль.
Он видел, сколько идей, сколько прекрасных начал утекло сквозь пальцы. Он ощущал вес каждой задумки, когда перебирал листы за листами, даже мог вспомнить, заново ощутить тот трепет, с которым начинал запускать свою думательную машину – тогда, годы, десятки лет назад. Отравители и палачи, неверные жены и изобретательные любовники, мечтатели, мудрецы, идиоты и злодеи теснились гурьбой, перебивали и топтали друг друга, сверкали гранями настоящих драгоценных камней, а не этих пресловутых стекляшек Сваровски. Настоящие, живые, они глядели с клочков бумаги, рвались с них наружу, насквозь, и…
И ничего. В этих кусках, обрывках, оглодках, были красота и сила, но не было смысла. Они не сходились, не срастались друг с другом, оставались просто неограненными кусками породы. От собственной жгучей тупости и лени тогда, когда дышалось полной грудью, от нежелания записать хоть чуть поподробнее, голова разлеталась на клочки.
У него были тысячи озарений, тысячи блестящих ходов и сильных моментов. И он их безнадежно, бездарно, жестоко профукал. Забыл. Выкинул. Убил. Всех тех гениев, злодеев, влюбленных и страдальцев просто развеял по ветру. И теперь, за что бы ни хватался, чью бы жизнь ни пытался поднять из пепла, просто не мог вновь собрать осколки воедино. Вновь живые, двигающиеся, говорящие, они не тянули даже на марионеток и тряпичных кукол – так, безэмоциональные компьютерные модельки, сгенерированные такой же безэмоциональной машиной по одному алгоритму. Они двигались по выверенным траекториям, начертанным прямой твердой рукой, и ни на шаг не хотели с них сходить. Они не дышали.
Он делал все, на что только способен. И с ужасом, от которого пальцы судорогой сводит, понимал: он не делает ничего.
Его язык закостенел. Колченогие, современные, прямые как шлагбаум выражения наотмашь разбивали те же удивленно-безликие головы в бацинетах, и мысли в этих головах застывали квадратной кирпичной грубостью. Не выходило вязать слова воедино, не выходило передать чувства, не выходило даже родить, растащить себя на эти чувства.
К. Б. исписался.
Поняв это, он принял решение, показавшееся единственно верным. Писать о себе. О мертвом. Сценарий собственной жизни, куда так хорошо ложились и подруга суровой студенческой юности, и битвы этой самой юности, и нынешнее серо-бетонное горе.
Вот с этим дело пошло лучше. Тот же залатанный клише как заплатками язык, те же выдавленные из себя прямые и скучные мысли, приукрашенные собственным горем, выходили даже красиво. Правильно. Злободневно. На порядок лучше той же рекламы майонеза. Он сворачивал историю саму в себя, как бутылку Клейна, в муках пытался создать хоть что-то стоящее, изящно привирал и нагнетал напряжение. Даже прописал тщательно и скрупулезно, с любовью, до последней мизансцены и фонов, пару подернутых туманом флешбэков из собственного прошлого. Даже не цензурил и не рекламировал вино, просто сорвал с бутылок все этикетки, прописав это с особым вниманием.
Он почти научился заново дышать. Он перерыл все свои старые словари, перечитал Флобера и Кинга. Он даже, заливаясь хохотом сумасшедшего, проработал пару ночей кряду, едва ли что соображая, – зато сходя с ума от нахлынувшего вдохновения. Эти бредовые, бессвязные сцены и реплики потом нещадно редактировались, но главным было отнюдь не качество.
Он снова писал ночью. Он распахивал настежь окно, чтобы вдохнуть стылый полуночный воздух, разве что не крича в эту черную тишину. Он вновь писал, чтобы писать, чтобы сказать то, что распирает голову изнутри.
Он в самых нелитературных, самых нецензурных, самых ядреных выражениях был счастлив. Он дышал. И сам он – и тот он, который на белых страницах вордовского документа загибался от растворяющей кости скуки.
А потом эйфория начала проходить.
К. Б. перечитал свое творение раз, другой. Поправил пару ошибок. Прописал подетальнее парочку эпизодов. Даже проработал планы – и плевать было на режиссера, готового взяться за этот поток самобичеваний. Хоть с будущим, хоть без, этот сценарий сам по себе был достаточно красив. Только было одно «но». По всем законам жанра сюда прямо-таки напрашивался плохой конец.
Он же подступил – унынием, бездельем. Вновь слова стали нанизываться одно на другое просто так, технически и слепо, лишь потому, что липли друг к другу. Они потеряли силу. И К. Б. уже начал считать дни и страницы. Был сентябрь, серый и сырой, а отнюдь не очередной завешенный кисеей прохладной липкой мороси день. Шла пятьдесят седьмая страница, а отнюдь не очередная, бессмысленная и отчаянная пьянка в дорогом баре, где персонаж-сценарист уже выдирал право снять по своему творению хоть что-то. Да и самого сценария в сценарии, как назло, не было.
Он почти готов был смириться с этим. Почивать на лаврах и костенеть вновь, выливать из легких так хорошо потравивший их чистый кислород. Возвращаться к нормальной жизни.
Он валялся на диване, когда она вернулась с очередной конференции, то ли в Москве, то ли в Питере, и кинула на золотистое гладкое покрывало объемистый томик в белой мягкой обложке.
– Что это?
– Наш сборник. Полистай, может, найдешь чего для себя.
Он проглядел его скучающим взглядом, через советчину, Романовых, правовое поле в Интернете и пустопорожнюю научно доказанную болтовню об общественном мнении. Попалась даже какая-то статейка про фильмы – корейские, правда. Он проглядел ее вместе со всеми, через строчку, про Ли Сунсина, Ёнсангуна и еще кого-то такого же неизвестного. И это было скучно, плоско, отдельно думалось про испорченные спецэффектами батальные сцены. К. Б. в тот же вечер о статье забыл.
А потом, интереса ради, скучным вечером все же посмотрел пару фильмов оттуда. Даже нашлись силы и повод ехидно порадоваться за корейцев – их сценаристов так припечатало собственной историей, что хочешь не хочешь, а напишешь. К ночи, закончив, он погуглил, почитал крохи исторической правды и бросил это дело. Стало жалко потраченного впустую времени. Жалко без грусти, просто свербящим фактом: эти же самые несколько часов он мог потратить на себя. И эта незлобная колючая досада ударила вдруг сильно и больно, под дых. Едва не отшвырнув блокнот, в который записывал показавшиеся занятными сюжетные ходы, он кинулся к ноутбуку, открыл вордовский файл. Про себя. Про того себя, который только что бездарно и тупо сквозь пальцы пропустил свое же собственное, взятое в кредит время.
Хватит притворяться, что все хорошо.
Впервые К. Б. захотел писать под своим именем.