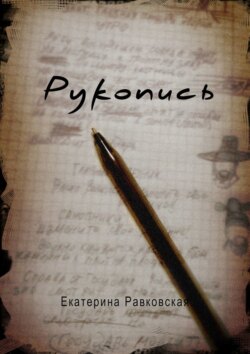Читать книгу Рукопись - Екатерина Равковская - Страница 4
Глава третья
ОглавлениеТе немногие, что составляли его нынешнее окружение, знали его как Серегу из пятого подъезда. Большего он не желал. От большего он уже успел устать.
Серый панельный дом в окружении таких же безликих, рублено-квадратных домов, подслеповато таращащихся рядами окон, не пекся о благополучии своих жильцов больше, чем требовалось.
К счастью.
К счастью, всем было плевать друг на друга. Даже в те благословенные времена, когда еще оставались наивные, верящие в пресловутый, бессмысленный, закабаляющий круговой порукой девиз из «Трех мушкетеров».
Эта книга, помнится, начала смешить его еще с первых строк. Впрочем, тогда он уже почти поверил. Себе. В себя. Поверил в то, что все помнит.
Оно началось еще в те времена, когда он еще не был собой. Когда его жизнь еще помещалась на детской кроватке и текла как река, сквозь него. Когда и его самого, по-хорошему, еще не было. Детский садик. Манная каша. Теперь он не стыдился со смехом вспоминать об этом, да и само воспоминание стерлось, поблекло, осталось данностью свыше – как и те, другие. Но он запомнил. Оно того стоило.
Грязно-белого цвета крупчатая масса так похожа на гной, заполнивший воспаленную, готовую стать смертельной рану. Густое и клеклое, в разводах желтой, оплавившейся жижи, с тяжелым и сладким запахом того же гноя, уныние. Высокие, срывающиеся жалобные крики и всхлипы вокруг, металлический звон, звон осколками разлетающегося фарфора. Воздух дрожит, дрожат траурно-белые, скользкие как тело трупа клеенки на столах, дрожит пол под тяжелой поступью. Вздох, крик, шлепок, новый звон, новый крик, новый шлепок. И он берет ложку, подцепляет эту белую тошнотворную массу. Спирает в груди дыхание, скручивает давящей тяжелой болью, когда все нутро сжимается и желудок подбивает куда-то к горлу. Только нельзя показать слабость. Нельзя проиграть. Ускользает из головы причина, теми же белесо-гнойными пятнами расплылась цель, но намерение твердо, как сталь в руке – такая вдруг знакомая, теплеющая под ладонью сталь. Нужно запереть в себе отвращение, запереть ненависть. Гадкий, сладко-мерзотный запах, так похожий на смерть, просто не нужно чуять. И когда то белое ложится на язык, следует лишь сделать над собой усилие и проглотить его – и запереть в себе, принять, переварить, превратить гнойно-бессмысленное месиво в собственную силу. И эту силу, самого себя, запереть, укрыть ото всех, просто забыть. Потому что никто не должен знать. Никто.
Память о манной каше давно бы стерлась – если бы не осознание собственной мощи, пришедшее к тогда еще несмышленому как вьючная скотина трехлетке, и следом за ним вплавившийся в кости приказ. Свой собственный. Знакомый. Понятный. Вечный. Никто не должен знать.
Никто и не знал. Ни те отчаянно, горько чужие люди, что любили его как своего сына. Хотя они почти не лгали друг другу – судьба, осмелившаяся над ним подшутить вновь, взрастившая на чужой почве и под чужим солнцем, не поскупилась влить в его жилы родную кровь. Ни сверстники, видевшие в молчаливом, угрюмом ребенке лишь дурачка-изгоя. Ни учителя, с высокомерной тупой снисходительностью прощающие ему нежелание заниматься. Один-единственный раз он попробовал написать заданное в школе сочинение, о родителях – и едва не отшвырнул ручку, когда первым же движением руки, прежде мысли, угодливо сложившейся в высокопарно древнее: «Долг сына – почитать своих отца и мать», вывел не простую округло-мягкую букву, а нечто угловатое, рубленое, острое как наконечник стрелы. Большого усилия стоило вглядеться в собственные каракули и разглядеть там ту же букву «Д», искаженную до неузнаваемости. Хотя другая «Д», написанная рядом просто так, щеголяла боками румяной маковой булочки из столовой. Лишь спустя несколько лет он понял и это.
Учителя прощали ему баранье упорство и тупость, ломались один за другим, опускали руки. К началу средней школы страшащие двойками, отцовым ремнем и детской комнатой милиции, уже через пару лет на холодно брошенное «Что ты мне сделаешь?» они лишь обреченно замолкали. Ни у кого из этих несчастных не хватало храбрости заглянуть за щит, который он год от года тверже держал перед собой.
Полное осознание пришло в четырнадцать, в серый октябрьский день – когда на затылке впервые собрались в хвост волосы, что он отращивал целое лето. Когда впервые он по-настоящему узнал собственное отражение в зеркале. Девчонки в классе хихикали перезвоном серебряных колокольчиков, в извечной женской манере судачили о том, кто из них первой выйдет замуж или хотя бы поцелуется. Он тогда просто подошел к отличнице, выдернул ее из-за парты, обвил руками талию и накрыл ее напрягшиеся неумелые губы поцелуем.
Она еще ребенок, с мучительным отвращением понял он через мгновение.
А он – уже нет.
Красный лак и золото трона разрезают блеском глаза, навязчивый треск масла в горящих лампах сливается с жалостливыми шепотками за спиной. Человек в алой с золотом мантии, на золотой подушке, смотрит тем же холодным, безмысленным взглядом, что и нелепо-золотые драконы с лепнины под крышей, драконы с шитья его мантии, настороженно затаившиеся драконы на спинке трона. Тронный зал захлопнут, как крытая киноварным лаком шкатулка, заперт изнутри всесильной рукой, густое ожидание свербит в воздухе. Мантия цвета запекшейся крови укрывает раболепно сложенные руки. Синий и исчерна-багряный шелк чиновничьих одежд разлит по полу в на сотню раз повторенном смиренном поклоне, как та же кровь. Острый желтый свет ламп мечется с золотой лепнины на кроваво лоснящийся шелк, увязает в нем, всю тронную залу доверху заполняет блеском и кровью. И дышится солоно, вкус железа вплавляется в губы.
Так надо. Так надо, чтобы неумелый, трусливый мальчишка взвалил на свои плечи ношу, непосильную для отца, сам себя по кускам скормил армии, раскромсавшей уже всю страну, выдавившей двор из столицы, как гнойник. Надо, чтобы обезумевший от отчаяния народ сжег дворцы и сам распахнул городские ворота японцам. Надо, чтобы брат предал брата, а сын – мачеху, чтобы трон под собственным весом развалился на режущие пальцы обломки. Только так можно вырастить настоящего дракона.
Он знает.
Он помнит.
Тогдашних жалких сил хватило, чтобы выбежать из класса, сквозь черный ход и подвал вышмыгнуть из школы, затаиться и до слепоты, до сводящей руки судороги колотить подвернувшейся под руку палкой по глухому бетонному забору.
На следующий же урок он вернулся и с унылой миной слушал, как распекала его молоденькая и миловидная, но до стариковского косного высокомерия правильная учительница – и с горькой усталой грустью думал, сколь же глупы люди вокруг. Той же осенью он попал в детскую комнату милиции за драку, мальчишке из соседнего класса сломал руку. Вся школа давно этого хотела, хотела наказать не из страха, а по правилам, но скулила и жалась к полу, трусливым псом поджимала хвост, и когда наконец-то нашла повод – швырнула его туда, не разбираясь, как после войны в столице казнили глав партизанских отрядов за одно лишь то, что слишком сильны. За ними не было иной вины – и за ним тоже. Тот обрюзгший, жирный чванливый мальчишка, казалось, знал, на что идет. «Твоя мамашка такая же тупая, как ты!», высокомерно наставленный в грудь палец…
Не о той матери он подумал. Не о той. За ту женщину, чья кровь текла в жилах, стоило не больше чем плюнуть в лицо несчастному. Но рука сама собой взметнулась вперед, пальцы стиснулись на рыхлом запястье так, что толкнулся в ладонь чужой пульс. Рывок, хряск падающего тела, треск костей, и на весь коридор разносится жалкий, страдальческий вой. Вмиг расплылось до красной лепешки одутловатое лицо паренька, брызнули из сузившихся глаз слезы, вывернутые красные губы и розовые десны с мелкими, не в ряд, зубами запузырились слюной. Тот недотепа лежал на клеенчатом полу коридора, корчился и выл, не останавливаясь, а у локтя, взбугрившегося неестественно острым, по рукаву пиджака расплывалось кровавое пятно.
Тогда он подумал лишь о том, до чего же жалок был этот вой.
Молодой и непоправимо честный лейтенант, пытавшийся беседовать с ним, выглядел расхрабрившимся птенцом перед сколопендрой, которую намеревался склевать. Отутюженная форма, рубашка, чистая фуражка – и такие же чистые, отутюженные, гладкие казенные слова. От всего этого тошнило. Офицеришка красовался перед самим собой, упражнялся в добродетели, выписывал все новые и новые постулаты, не имеющие смысла. Даже не требовал ответных слов, бахвалясь собственной честностью. Не понимал, кто он такой. Не понимал, что, если случится беда, хозяева первые бросят его, несчастного глупого пса, в пасть беде.
Родители же с простой, безнадежной покорностью поверили в правду. Ту правду, которую он им преподнес, как подачку схватили эту малую суровую нежность – как они тогда думали. Малой платы того дня хватило, чтобы покрыть все свое равнодушие перед родителями до того самого мига, как их пути разошлись вконец.
Ни этот день, ни этот год, ни все последующие дни и годы не смогли ни изменить, ни отнять главного. К пустоте даже слишком быстро удалось притерпеться. А счастье оказалось таким простым и таким горьким.
Он никому ничего не должен.
Разве что еще в детстве он кое-что усвоил. Когда вокруг бесились до жестокого глупые и беспомощные, веселые дети, когда солнце светило ярко и жарко, а мир резал глаза своими красками, оно схватило – и не отпустило более. С каждым днем все крепче и деятельней входила в плоть и кровь непреложная истина. Та самая, что пришла подспудным жестоким осознанием еще тогда, давным-давно, в полуистершееся утро с тарелкой манной каши на белом застеленном холодной липкой клеенкой столе.
Никто не должен знать.
И с каждым днем крепче запирал он в себе себя, заковывал, как тигра в клетке. Нельзя, нельзя было отпустить, раскрыть собственную суть, напиравшую сильнее и сильнее. Как оспяные гнойные язвы, уродуя кожу, прошлое лезло на поверхность, исступленно силилось лопнуть, раскрыться, запачкать все собой. Кидалось в глаза с экрана телевизора, с витрин магазинов, щерилось улыбкой из заголовков газет. Нельзя было дать ему ходу. Оспа, раз вылезшая, навсегда уродует гордыми следами победы. Нельзя бороться. Нельзя победить.
А надо запереть в себе эту сатанеющую, рвущую жилы силу, надо принять свое поражение. Надо влить ее, как отраву, в кровь, всосать в себя, дать ей искорежить нутро и там, запертой, скованной, изгнанной – погибнуть. Потому что, если вылезет, очнется, раскинется крыльями – оставит шрам. А не должно быть ни единой меты, по которой потомка богов отличить от простого человека.
Этот мир, забавный в своем идиотическом стремлении к светлому будущему, наивный до раболепной покорности самому себе, был обречен. И как нельзя лучше подходил, чтобы спрятать в нем себя. Когда школа, мнившая своим долгом дать будущее каждому несмышленому птенцу, наконец, пинком погнала его прочь, он готов был сказать им спасибо. Хорошо, что не продержали дольше.
Ровный, как рык могучего зверя, грохот завода сливался с мыслями, железной пристающей к рукам щепой отсекалось от них все лишнее. Простое и грубое ремесло токаря стало едва не лучшим из всего, что довелось повстречать за жизнь.
Сладко-горькая ирония была в том, чтобы собственными руками терзать непоколебимую сталь, снимать с нее кожу за кожей, чтобы обретала, наконец, форму. Чтобы скалила заточенные до остроты меча зубы, даже если прежде их не было. Чтобы секущая ледяная струя воды смывала вспухающий жаром гнев, когда чужие, уже прошедшие этот путь зубы вгрызались в плоть стали, чтобы брызгами крови, от которой не отмыться уже, лезла под ногти железная – со вкусом и запахом той же крови – пыль.
В этой стране ему нравилось. Эту он готов был любить за одно то, что здесь до него никому не было дела. А еще здесь были балет, водка и два выходных в неделю.
О прелестях второго он знал еще со школы, с прятаний за гаражами, первых затяжек вытащенных из кармана какого-то забулдыги сигарет и опаляющих нутро злых, отчаянных глотков. Тогда все эти теснящие его дети кичились своей взрослостью, пили, захлебывались и в глупой гордости вскидывали голову, чтобы потом зайтись в натужном кашле. Он тоже пил и тоже кашлял вместе со всеми, потому что так было надо. И это было весело. А первое он увидел по телевизору в семнадцать лет – и едва не зашевелилось в груди далекое и древнее, томительное, тревожное. Такое знакомое.
Ломкие худые тела в белом, махи жилистых сухих ног, шаги, вспрыги и полеты под то беснующуюся, то текущую рекой, давящую своим величием музыку. Взмахи изломанных птичьими крыльями тонких рук, метания полунагих тел, надвое разрубленных белым, – будто те же брызги крови, растерявшие цвет. Будто и впрямь крылья готовых сорваться в небо птиц. И когда под горько затихшую, спертую, как задушенные рыдания, музыку то же белое хрупкое тело тихонько опустилось на побелевшую землю, он почти поверил в смерть. И ее, и свою, и этого проклятого, насквозь прогнившего мира.
Она поднялась. Кланялась. С гадливым, скользким пристающим к языку ощущением собственной обманутости, неправоты, он смотрел на нее – и жалел, что теперь, после такой красивой смерти, она еще дышит. Только потом он узнал, кто умер на самом деле.
Веселой иронией отзвенело осознание, что и в тот раз ему было семнадцать.
Он не страдал, когда его, неустроенного юнца, пинком выкинули с разваливающегося завода. Не страдал, когда отец уехал в другой город и через пару лет попал в тюрьму. Не страдал, когда женщина, назвавшаяся матерью, узнала о смерти мужа в тюрьме и в тихих муках таяла, съедая саму себя день за днем.
Для него самого все разом было тюрьмой. Хорошей. Мягкой. Доброй. Тюрьмой, в которой само мироздание о нем заботилось, утешая, смиряя ошибки прошлого и не предлагая уже ничего нового. Он чувствовал, как с каждым днем неумолимо слабеет. И ему это нравилось.
Семь лет нищеты и жизни на хребте у случая не слишком отличались от тех же двух лет на заводе. Лицезреть руины башни из золота и слоновой кости, лицезреть труп мечтателя и поэта, растерзанный тиграми, одинаково удобно было из любой точки, когда эта башня, этот труп являли собой всю страну.
Грустно было лишь оттого, что сам он, отказавшийся бороться, наслаждающийся собственной беспомощностью, не мог научить этому других.
На долгие годы, еще с юности, любимым его развлечением стало искать в старом, бабушкином, кажется, завалявшемся под телевизором атласе новые и новые острова и мысленно примерять их на каждого встречного. Те, что действительно были пригодны для спокойного, созерцательного одиночества в изгнании, кончились быстро. Да и всех тех, шныряющих по подвалам и подворотням и оттуда надрывающих глотку в призывах не лгать, требовалось рассаживать аккуратно, отдельно.
Один такой, рвущий жилы на собственной шее, ушел еще прежде, чем довелось узнать о нем, а вот второго успелось застать и посмеяться над красивой, тонкой шуткой судьбы. Еще в школьную, сумасбродно-живую пору, когда пришлось бороться с самим собой. И песни его, тяжкое несчастье, казались правильными и сильными, и такой же правильной, нечаянно жестокой, была его смерть. Они почти поняли друг друга – а потом и он ушел, быстро, красиво, в клочья. Так, как погибали на войне герои – слишком хорошие, слишком сильные и слишком любимые народом, чтобы жить.