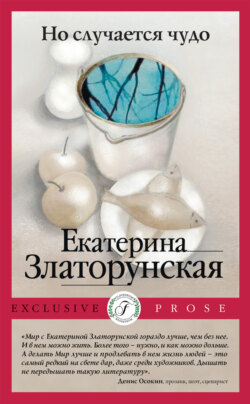Читать книгу Но случается чудо - Екатерина Златорунская - Страница 10
Часть первая:
о других
Спи, мое бедное сердце
ОглавлениеПамяти Юрия Трифонова
Они пришли ночью по железной дороге, Дмитрий Константинович и мальчик.
Телефон поперхнулся, закашлялся, выплевывая застоявшееся молчание, и наконец зазвенел. Лике Витальевне казалось, что звук идет по позвоночнику, отнялись руки и ноги, застучало сердце, сразу заговорили несколько голосов, и среди них сердитый голос Павла Сергеевича: «Звонят, мерзавцы!» Она даже увидела его руку с бледными волосками, золотое кольцо, обхватившее палец, и трубка холодная, склизкая, как рыба, заелозила в руке от страха, а в ней – живой голос, попавшийся на крючок, назвал ее имя. Она снова заснула, но через новый сон бледный треснувший голос повторил: «Мы пришли». И она спросила, узнавая голос: «Это сон?»
Лика Витальевна еще полежала, обвернутая, словно марлей, меланжевым ватником Павла Сергеевича. В нем ее принесли в лодочный домик, в нем и оставили, хотя лодочник хотел забрать ватник, но кто-то сказал: «Это же Лика Витальевна, оставь». Лодочник повторял: «Да какая им теперь разница?», но ватник оставил. Матрас под ней, набитый коричнево-красными сосновыми иглами, просвечивал старой кровью. Лика встала, машинально приглаживая волосы, стирая с лица сосновую пыль дрожащими пальцами, и, когда встала, захотела лечь снова, так сгибала ее дрожь, не давая распрямиться.
А гости ходили там снаружи, и она слышала их шаги – большие, маленькие.
Лика. Он назвал ее по имени, без отчества, как и тогда, уже перед отъездом, когда было не важно, имя, отчество, он бы мог никак ее не называть, потому что уже все было ясно. Но он говорил – Лика, Лика, слегка спотыкаясь на «к».
Она вышла без туфель. Сразу заныло море. И холодный мокрый воздух заполз под платье. В карманах ватника лежали сосновые иглы, и она не помнила, когда их туда положила, в последний ли раз, перед бомбежкой, или еще раньше в лесу, когда собирала иглы и мох для новых матрасов.
Они ждали ее на вагонной станции, с отсеченным каменным боком. Мальчик сидел на чемодане, а Дмитрий Константинович, вжатый в темноту, смотрел на лодочный домик, откуда вышла Лика Витальевна.
Она разглядела его не сразу, только серебряные дуги очков сверкнули, царапнув, как леска, и скрылись.
– Лика, нам надо уходить через три часа, и мне нужно поспать, я нигде не могу заснуть. Можно в верхний кабинет? К Павлу Сергеевичу?
– Павла Сергеевича давно нет, и я не знаю…
Она хотела рассказать про Павла Сергеевича, но передумала:
– Здесь теперь все по-другому.
Море, израненное лезвием железной дороги. Вагонные станции слиплись в безглазый каменный забор. Корпус морских ванн зиял разбитыми кабинами, как беззубый рот, за ним лечебный корпус, подкошенный рухнувшей колоннадой. Пустыня волейбольной площадки сменялась пустыней теннисного корта, а раньше там шла игра, мяч бесшумно падал в песок, и полотняные шезлонги от ветра изгибали спины. И ряды белых шляп, тел под теневыми навесами, лодки ожерельем вдоль причала, чайки на сваях. А на горе по-прежнему огромной каменной птицей стоял санаторий, развернув корпуса, как крылья, и от него водопадом стекала лестница, прерываемая пересохшими фонтанами, с голыми нимфами, замершими, темно-синими, как будто без кожи. Параллельно лестнице – железная дорожка фуникулера, два бледно-голубых вагончика внизу и наверху.
Когда-то после завтрака на ванные процедуры собирались в очередь, заходили в вагончики по одному. И до последнего раздавалось со всех сторон:
– А вдруг порвется?
– Что порвется?
– Да трос порвется.
– Да не порвется.
– Я не поеду.
– Ну выходи тогда. Вон Лика Витальевна едет. Здравствуйте, Лика Витальевна. Разве ж Павел Сергеевич свою жену посадит, если трос порвется. Да, не посадит.
Она смотрела в окно, держась руками за кожаное сиденье – какого оно было цвета, уже не помнит, – замирало сердце, навстречу снизу поднимался другой вагончик, и оттуда выпрыгивали испуганные радостью лица. В середине расходились, один вагончик вверх, другой вниз. Вечером Павел Сергеевич спрашивал:
– Опять каталась? – Павел Сергеевич любил ее.
– Если бы у нас были дети, все было бы по-другому, – так сказала ему тогда, в распахнутое ужасом лицо.
Фуникулер давно не работал, она повела их через туннель под мостом, обвитый высохшими бескровными лианами, словно мертвыми ведьмами. Гнилой запах сырых листьев под мостом. Ее босые ноги мелькали в темноте, как светлячки. А у него тяжелые сапоги, и у мальчика сапоги. Море осталось внизу, лежать в ногах санатория, напоминая о себе только запахом и урчанием.
– Наш сторож, – сказала Лика Витальевна про море, – только оно и осталось.
А что сторожить? Каменную пустоту санатория с отцветшими узорами на мозаичных стенах, темные потолки? Статую метательницы ядра? Шесть лет назад Лика вела прибывших на месячный отдых Дмитрия Константиновича и его жену к спальным корпусам по парковой аллее, метательница ядра сверкнула белым телом, и Дмитрий Константинович посмотрел на белую гипсовую грудь. Помнит ли он это? И вот эта грудь сейчас – позеленевшая, в трещинах, пахнет застоявшейся водой.
Дмитрий Константинович шел совсем чужой, высокие сапоги по колено, галифе брюк, тело худое под плащом, состриженные с висков волосы и густые, зачесанные волной на макушке. Темный овал лица, темные глаза, землисто-зеленые, тусклые.
А тогда был весь светлый – светлые волосы, светло-зеленые глаза, вокруг зрачка желтое ожерелье радужки, – и под руку с ним его жена, Инна Леонидовна, в зефировом платье, легком, как летний ветер, нервная, худая, с белым лицом, длинным неровным носом, длинными руками и ногами, тоже изогнутыми, словно скрученными из белого пластилина. Шла, выкручиваясь всем телом. И глаза – зеленые, выпуклые, каменные. Она улыбалась глазами и губами так, словно выдувала ими воздушные пузыри. Кто-то про нее насплетничал: «Ну и что, что из Большого, а кордебалет-то не проскочила». Не проскочила. Но Павлу Сергеевичу звонили, предупреждали. Артистка Большого театра. Видели ее в «Бахчисарайском фонтане», в «Пламени Парижа»?
– В «Пламени» там Семенова, – потом рассказывала она Лике Витальевне, – она везде. Она и Одетта, и все. Но танцуем много, и я так устаю. Вы знаете, в балете есть такое движение по диагонали tours chaînés-déboulés, вот в «Дон-Кихоте». Вы видели «Дон-Кихот»? Меня специально выпускали на него, чтобы воздух очистить, потому что я крутилась, как вихрь. А потом Кирсанов звал в Ригу, но я не поехала, и это мне стоило всего, всего, а Ирина Генриховна говорила: вы больше тридцати двух раз фуэте не сделаете. С таким фуэте вы в примы засобирались? Нет, и Дима. Он ждал меня на Бронной, высокий такой, волосы вот так, – изгибала руку волной. – Диму я оставить не могла. Любовь, – и округляла глаза. – Он писатель. Попросите его подписать вам книгу.
Он подписал за два дня до отъезда – «Воровичам П.С. и Л.В. на добрую память. Д.К.».
Инна Леонидовна лечилась от нервных болезней. Павел Сергеевич назначил жемчужные ванны, парафиновые процедуры в специальной кабине, местный д'арсонваль. Лика Витальевна, процедурная медсестра, готовила ей ванны лично. Во время процедур говорили об одном и том же. О погоде. Инна спрашивала:
– Как же вы здесь протянете зиму? Зимой, наверное, тут нечего делать. Зимой тут дожди.
– Не знаю, мы здесь только первое лето.
В свои часы дежурства на пляже Лика Витальевна видела, как Инна Леонидовна заходит в воду: прямая спина, заведенные назад плечи. Она шла не вперед, а вверх, как стрела, и стрелой вонзалась в море. Они проходили мимо ее поста. Дмитрий Константинович – уже загорелый, хлебно-золотистый, пах морскими камнями, весь – и волосы, и ладони. Она все это чувствовала, не касаясь. Инна Леонидовна в мокром купальнике, высокие трусы, худые ноги.
– Павел Сергеевич здоров?
– Здоров, спасибо.
Ветер поднимал полы Ликиного халата, голубиными крыльями бившиеся по ногам, и она не придерживала его рукой, давала ему разлетаться, открыть колени, округло-продолговатые, как прибалтийские яблоки. Она знала, что он видит эти колени и ему нравится на них смотреть. И знала, что сейчас вся сама сияет на солнце, вся сама золотая с яблоневой кожей, и волосы переливаются пепельно-белым морским бисером.
А вечером смотрела на Павла Сергеевича – огромного, тучного, родного, как он раскладывает накопившиеся бумаги в аккуратные стопочки, и, задержавшись на одной, подносит ее близко к уставшим покрасневшим глазам, беззвучно читая написанное, и не знала, зачем чувствует все то, что чувствует.
Она хотела сделать что-то хорошее. Подходила к Павлу Сергеевичу, гладила его по плечам. Он пах «Шипром», и она не любила этот запах, но в него вплетался еще коньячный, папиросный, собственный запах Павла Сергеевича. Так пахли его вещи, пальцы, подушка.
– Устал? Что ты хочешь?
Павел Сергеевич отвечал:
– Что ты суетишься? Садись, посиди.
А на книжной полке лежала тарелка с утренней кашей.
Лика спрашивала, убирая тарелку:
– Ну что ты без меня будешь делать? Умрешь?
– Умру, – отвечал он шутливо, но смотрел на нее так, как будто всерьез и правда умрет.
Деревья на склоне натянулись стволами, как тетива лука. Лика споткнулась, но Дмитрий Константинович не подал ей руку. Так и шли. Каждый за себя, и она хотела только одного, чтобы зажгли свет, чтобы засветились окна, или хотя бы одно окно, но все вокруг заросло темнотой, как щетиной лицо. Мальчик следовал за ними послушно, но, когда вышли к спальным корпусам на гравийные дорожки, сделал легкое движение, как будто хотел вспорхнуть бабочкой и полететь; ухнул давно молчавший громкоговоритель, пролетел его вздох золотой совой, выкатывающей по очереди из-под мохнатого века блестящие шарики глаз, с переливающимся внутри смолянистым глянцевитым морем.
– Тихо, тихо, – сказала Лика Витальевна мальчику, но он и так молчал.
– Это Витя, мой приемный сын.
– А где его родители?
Дмитрий Константинович не ответил.
Они поднялись по мраморной лестнице на третий этаж. В обедневших комнатах ровными рядами стояли кровати, словно заключенные, голые, ржавые, без матрасов. От шагов поскрипывала ржавая кроватная сетка, будто кто-то невидимый ворочался и не мог заснуть. Тухлый запах крови и мха. Поседевшие хвойные иглы – везде на полу, на столах, на стульях.
– Здесь жили раненые? – спросил Витя.
– Жили.
– Расскажи, как было? – спросил Павел Сергеевич на следующий день после отъезда Дмитрия Константиновича, не глядя на нее.
– Как было?
– Как было.
И тогда она сказала, стараясь не смотреть ему в глаза:
– Если бы у нас были дети, мне было бы кого любить.
Он не простил до самой ее смерти в сорок втором. И после, даже после своей смерти, не простил.
Как было? Дмитрий Константинович часто звонил в редакцию из кабинета Павла Сергеевича, а после оставался беседовать. Они сидели напротив друг друга, оба в одинаковых сандалиях с перепончатыми пуговицами, детскими перекладинами. Павел Сергеевич уже лысый, пиджак натянут наволочкой на спину, словно набитую мукой, а Дмитрий Константинович – легкий, длинные ноги, руки, выстриженный затылок. Лика Витальевна хотела прикоснуться к его затылку губами, – так тихие волны касаются берега. И потом, когда смотрела на волны, видела его затылок.
Павел Сергеевич, уже отпив коньяка, благосклонно слушал начало романа, а потом, не выдержав, перебивал, предлагая партию в шахматы:
– Вот книги писать вы умеете, писатель на то, а шахматы?
Роман был об умирающем красноармейце. Тиф, госпиталь в Одессе, а ему снится детство, живые, умершие. Он немного заикался, Дмитрий Константинович, говорил медленно, и от этого каждая его фраза была блаженством, бережно поднимала и отпускала.
В первый раз тогда назвал ее Ликой:
– Такой роман будет, Лика, как лоскутное одеяло, или вот как вышитый подол рубахи черными и красными цветами, или как на рушнике петух, но тоже черный, красный. Два цвета, – рассказывал он ей потом.
– Три.
– Какой?
– Еще белый. Полотно.
Она дотронулась до его руки случайно, рука была еще горячая от солнца, и сказала: какая горячая рука. Он ничего не ответил. Она быстро убрала руку, словно спрятала в футляр. Заговорили о другом. Но он все понял, и она тоже. Был еще короткий его взгляд посреди разговора. Он посмотрел на нее, как будто прошептал что-то тайное, неразборчивое, но она расслышала и поняла.
На двери кабинета еще осталось: Ворович Павел Сергеевич. И внутри все осталось как было: казенная мебель из красного дерева, чайный сервиз из саксонского фарфора, квадратные стулья, кресла. Только лампу и диван, по прихоти Павла Сергеевича, привезли из их краснодарской квартиры. Лампа широкая, по подолу абажура – бахрома расплетенными узбекскими косичками. Один валик на диване оторвался. Инвалид без руки. Инвалидыш, так называл его Павел Сергеевич. И керосинка еще светила оставшимся светом, но бледно, как умирающая.
Дмитрий Константинович лег на диван, не снимая сапоги, снял очки и сразу провалился в себя – тяжело, недоступно.
– Мне как будто землю насыпали в глаза, не могу закрыть, больно.
Лика подошла к нему с лампой, посветила. Зеленые глаза в красных трещинках, как крыжовник, и вокруг темные точки земли.
– Это правда земля, – и осторожно вытерла. Он смотрел на нее, скосив глаза, как ребенок. Все земное ушло. Только жалость. Очки лежали у него на животе жалким худым котенком. Она взяла их, погладила по тонким извилистым дужкам.
– Ты же не носил очки?
– Носил, с детства.
Он засыпал, но сквозь сон отвечал ей:
– Ты была такая теплая. С тобой было так же хорошо, как греться на солнце.
Вечерами после купания Лика Витальевна сидела на скамье, рядом с фонтаном. Дмитрий Константинович подошел к ней в темноте.
– У меня бессонница, головные боли. Так хочется спать. А у себя не могу заснуть. Инна закрывает окно на ночь. Душно.
Он сел близко и положил ей голову на плечо, и плечо ее обвалилось, застучало сердцем. Дмитрий Константинович закрыл глаза. Она сидела неподвижно, но кто-то прошел мимо, остановился, посмотрел на нее сквозь сумрак, узнал.
– Лика Витальевна, вы – не вы? Вас Павел Сергеевич ищет.
Он сразу проснулся – да, я пойду к себе. Простите.
И ушел. Ее плечо пахло его волосами. Она потерлась о плечо щекой. Какая легкость, освободили, как вынули ребенка из чрева живота, но пустота осталась внутри и ныла.
А потом, после его бегства, вспоминала о нем еще долго, и болело сердце. Уговаривала себя: «Не надо думать. Надо забыть». Все легкое ушло из жизни, и что-то другое заползло, как болезнь, не проходящее. Но иногда все перекрывало шумящее море и стрекот цикад, и наступало спокойствие.
– А цикады похожи на светлячков? – спросил мальчик.
– Нет. Ты никогда не видел?
– Никогда.
Лике Витальевне было страшно спросить, что же он видел.
– Светлячки похожи на маленьких жучков, живут среди кустов. Вот вдоль ступеней. Издалека они, как искры, а близко – маленькие жучки. Кажется, раз – и поймаешь, и не получается. Я так ни разу и не поймала. Они летают и светятся. А цикады рогатые, и они трещат. Днем тихо, а вечером громко. Ты умеешь играть в морской бой?
– А что это?
– Ну игра. Я рисую корабли, и ты рисуешь корабли. Ты должен угадать мои, а я твои, и уничтожить. Кто первый, тот и выиграет.
– Уничтожить – это как?
– Убить.
Лика Витальевна испугалась этого слова.
– Не будем играть. Темно и бумаги нет. А мы с Павлом Сергеевичем так играли. Вот ты сейчас сидишь в его кресле. Он мне говорил: иди после медицинских курсов в университет, я не пошла, так и осталась медсестрой. Я ему помогала на операциях. Он мне потом сказал: «Я без тебя не только операции делать не могу, я без тебя просто жить не могу». Я вышла за него замуж. А у него была семья, дети. Но когда так говорят, разве можно отказаться? Я тебе такое рассказываю, а детям, наверное, нельзя такое слушать, да? Сколько тебе лет?
– Семь.
– Ты умеешь читать? Ты читал «Всадника без головы»?
– А в Москве памятник Тимирязева лежал без головы. Я рядом лежал, видел. И как голова оторвалась, видел.
– А я была в Москве четыре раза.
«Будете в Москве, достану вам билет в Большой», – говорила каждый раз после процедур Инна Леонидовна.
Как она кричала ночью. Лика Витальевна уже спала, и Павел Сергеевич спал, когда он постучал к ним.
– Инне Леонидовне плохо, у нее истерика. Сделайте ей укол.
Лика не могла найти свой медицинский чемоданчик, кружила по темной комнате. Павел Сергеевич молча надевал халат.
– Не ходи со мной, я сама справлюсь.
Но он пошел. Почти побежал, потому что она сама бежала.
В номере был закрыт балкон, окна, тесно от душного воздуха, на кровати лежал открытый чемодан, на гладком шелковом дне которого свернулись змеей жемчужно-серые фильдеперсовые чулки.
«Если вы знакомы с ришелье и гладью», – повторяла про себя Лика Витальевна. Фраза попала в ее мозг, как птица в клетку, неизвестно откуда.
Инна в ночной сорочке, по лифу – кружево волансьен, с красными пятнами на бледном лице, завизжала, как только Лика вошла:
– Чтобы ты сдохла, и дети твои, и внуки, чтобы ты там кровью ходила.
И тут же, вскидываясь на Павла Сергеевича:
– Ну и жена у тебя, тварь, тварь, тварь.
Павел Сергеевич, красный от злости, схватил ее двумя руками и прижал спиной к себе. Она выбрасывала вперед ноги, вырывалась.
– Лика, коли в бедро, пока я держу ее! – скомандовал Павел Сергеевич.
Дрожали руки, шприц застрял в напряженной мышце, остался синяк.
«Если вы знакомы с ришелье и гладью».
– Йодную сеточку, – сказал Павел Сергеевич, когда Инна Леонидовна уже лежала на кровати, а Дмитрий Константинович смотрел на него неживым равнодушным взглядом, и так же смотрел на Лику, – йодную сеточку, и ничего не останется, ни следа.
– Мы уедем. Утром есть поезд. Звоните, ищите билеты, это в ваших интересах. Я всем расскажу, что ваша жена – шлюха. Вас посадят. Вы хотели меня убить, – обескровленным голосом сообщала Инна Леонидовна в закрывающуюся дверь.
И когда закрылась дверь, Лика Витальевна вспомнила забытое из прошлого, мальчика, с которым два раза шла от школы до дома. Они доходили до дома и возвращались обратно, чтобы снова идти вместе и разговаривать. А потом он налетел вместе с другими мальчишками, в зажатом кулаке – зеленые мокрые гусеницы. Она остановилась, не стала бежать, потому что между ними была эта дорога, туда и обратно, но он подбежал и бросил гусениц за шиворот платья. Они упали комком и расползлись по телу.
– Если ты заплачешь, – сказал Павел Сергеевич, – я тебя убью.
Лика Витальевна чувствовала, как подступал волнами плач, и, чтобы остановить его, сглатывала воздух и с силой выдыхала. Становилось легче. Но поднималась вторая волна. И она тихо скулила, чтобы не сорваться в рыдание. Павел Сергеевич встал с кровати, слепо ощупывая тумбочку в поисках очков. Нашел. Лика Витальевна зачарованно наблюдала за ним. И когда он вышел из комнаты, пошла за ним босиком в кабинет, повторяя:
– Ну прости, прости.
– За что простить? – он говорил сквозь зубы, словно выплевывал. – Ведь ничего же не было?
Лика Витальевна соглашалась:
– Не было.
И целовала его ноги, колени:
– Прости, прости.
Почти рассвело, и водитель машины с постельным бельем кричал дворнику: «Сторонись!» Высыпали люди, заговорили, начался день, но солнце еще не вышло, и потому день казался ненастоящим, как казались Лике ненастоящим ее тело и вся прошедшая ночь. Ее пальцы пахли водой, водкой, сосновыми иголками. Она чувствовала этот запах, когда проводила ладонью по лицу, и через весь пережитый ужас, через предательство, она представила вместо своего лица – лицо Дмитрия Константиновича и поцеловала ладонь.
– Мне надо его убить? – спросил Павел Сергеевич.
– Зачем?
И они посмотрели друг на друга, не понимая зачем.
– Витя, нам надо идти.
Дмитрий Константинович уже шел к двери, сонный, растерянный, задерживаясь руками о кресла, стулья. Его шатало.
– Как на корабле, пол качается, – сказал он.
– Тебе плохо? Слабость? Голова кружится? – спрашивала Лика.
– Душа качается. – И снова повторил: – Надо идти.
Они вышли втроем в сырое холодное утро. Шли быстро, почти бежали. Лика Витальевна впереди, лязгая зубами, Дмитрий Константинович с Витей за ней.
– Помнишь, я готовила Инне жемчужные ванны? – спросила Лика. – Мне это снилось. Ванна, засыпанная жемчугом, и в ней Инна, в жемчуге по плечи. Я счищала ладонью жемчуг, прилипший к мокрой розовой коже, мелкий, крупный, и жемчуг падал на пол со стуком. Пол белый, жемчужный. Ты целовал ее кожу и глотал жемчужины, одну за другой, словно водяные капли. Я смотрела на вас, и мне было больно.
Она рассказывала это неизвестно зачем, не стесняясь мальчика:
– А потом ты сказал мне – у тебя внутри жемчуг. Посмотри. Ты подошел и прижался лицом к моему животу. Ты спросил – видишь? Легкие – в них жемчуг, пузырьками. Ты дышишь жемчугом. Я так тебя ненавидела. Все плохое началось из-за тебя, мне даже казалось, что война началась из-за тебя.
– Ты не любила меня.
– Я не успела.
– У меня больное сердце, и я курил. Тебе было все равно, что мне нельзя, а про Павла Сергеевича не было. Ты переживала за него, нервничала, когда он пил коньяк.
– Ты не защитил меня.
– Я не мог.
– Как не мог?
– Она бы написала на вас, понимаешь?
Они вышли к железной дороге.
– Лика, вот здесь расстанемся, нам надо дальше идти.
И задрожало платье вокруг ее колен, как подбородок в предчувствии слез.
Лика хотела обнять Дмитрия Константиновича, но он стоял, скрестив руки у груди, опустив голову, и обняла мальчика, и обнимала его так, как будто не могла с ним расстаться, целуя пыльные волосы, худые плечи.
– Лика, отпусти, мы пойдем.
Он взял мальчика на руки.
Она не знала, что сказать последнее, важное, просто смотрела им вслед, потом крикнула:
– Спасибо, что пришли.
После отъезда Дмитрия Константиновича и Инны о случившемся старались не вспоминать. Дни проходили по-прежнему, но Лике ничего уже не было нужно. Утром и после обеда – процедуры, вечерами же Лика заходила к Павлу Сергеевичу и сидела, сидела, просительно чего-то выжидая, какого-то прощения, но он молчал, что-то писал, не поднимая на нее глаз, потом спрашивал:
– У тебя нет никаких дел?
Она вставала, шла на улицу. А на улице, в танцевальной раковине, прижимались друг к другу пары, и она думала – как все закончилось быстро-быстро.
На теннисном корте, пустом после дневной игры, два мальчика перебрасывались мячом. Она попросила:
– Научите меня.
– А мы сами не умеем.
– Но вы же играете. Покажите как.
– Берете ракетку и бьете по мячу.
– Эту?
– Эту.
– Тяжелая.
– Тяжелая, это вам не бадминтон.
В темноте не было видно ни рук, ни ног.
– Так?
– Нет, не так. Сначала надо просто научиться бить по мячу. А потом уже через сетку. Понимаете? Вот так высоко подбросить мяч, а потом уже бить по нему. Это очень сложная игра.
– Я не смогу.
– Бросайте мяч, а теперь отбивайте, бейте.
Мяч перелетел через сетку, шлепнулся в песок.
Лика сняла сандалии. Шелестело море, и патефон пел кому-то: «Спи, мое бедное сердце».
– Я не буду вам мешать, играйте.
Она села на скамью возле пляжа. Шум волны сливался с ударами теннисных ракеток. Она еще видела мяч, как он летал туда-сюда, и ракетки скользили в темноте прозрачными светлячками, но темнота становилась все сильнее, исчез мяч, исчезли мальчики.