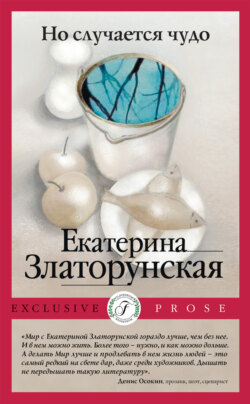Читать книгу Но случается чудо - Екатерина Златорунская - Страница 8
Часть первая:
о других
Сорок дней
ОглавлениеНа поминках друзья покойного говорили много, друг за другом, словно передавали эстафету.
– Потому что все могло у него сложиться по-другому, но не сложилось, и в этом наша вина и боль. Простит ли он нас?
– А были молодые, голодные, жарили картошку, и он разделял на две половины. Одна мне, другая вам.
– Всегда, всегда он был эгоистом, – сказала Анна Васильевна, вдова художника, похожая на большую птицу, сходство с которой усиливали черные прозрачные рукава блузы, расширявшиеся к манжетам.
Ирина Михайловна, в черном обтягивающем платье, сидела немного боком на жестком диване в самом конце стола.
На этом диване художник спал в мастерской. На нем и умер. Стол был придвинут к дивану близко. Ирине Михайловне было тесно, она была большая, как греческая амфора, с тонкой длинной шеей. Платье не закрывало колен. И ей было неловко.
– Вот как устроено современное искусство? Кто интересен современному искусству? Его проблема в чем заключалась? В том, что он не был интересен современному искусству.
– Его проблема заключалась в том, что он был алкоголик. Он пил, – возмутилась вдова, – пил. Я прошла этот ад, я сказала – больше не могу. Я его выпустила из…
Вдова задумалась, сжала ладони в кулак и резко разжала.
– Аня, – мужчина, седина которого была словно отлита из серебра, погладил ее по плечу. Был он худой, острый как нож.
– Герман, я его выпустила, там с ним потом какие-то возились. Пили с ним, они его и убили. Водил их на нашу дачу.
Ирина Михайловна почувствовала, что краснеет.
Она приезжала к нему на дачу. Так он называл это место. Но какая это была дача? Мать Ирины Михайловны выросла в деревне, и она сама и летом и зимой приезжала к ней по выходным и трудилась. Пять соток огород, скотина, вечером доили корову. Носили из сарая в дом по два ведра, накрытых марлей, молоко теплое, густое. Цедили и разливали в банки. Туалет на улице. Надо идти через сарай с коровой, корова влажно мычит за перегородкой. Запах сена и навоза. Галоши на голые ноги, даже зимой.
Так же и у них на даче, такой же бедный деревенский дом. Вот у Сталина была дача, ездили в Абхазию, смотрели с экскурсией, или вот те дома в журналах, с колоннами, или вот даже у Оксаны, подруги, дом в Балашихе, простой, но с палисадником, беседкой, баней. А там?
Изба, уходящая в землю, прямоугольники окон, длинных, тоже почти до земли. Тюлевые занавески, резные наличники. И сам дом со стершейся бледно-голубой краской, в белых прожилках трещин. Покосившаяся лавка перед фасадом. Засыпанный снегом колодец. Единственное, что новое, – крыльцо, свежевыкрашенное коричневой краской, словно облитое шоколадной глазурью. Вход в комнату через сени. Холодно, пахнет сгнившим деревом, отсыревшими тканями и красками. В передней печь, которую он не топил, потому что есть отопление. Но туалета нет. И умываться как?
«Ношу воду из колодца», – показывает на старый умывальник, похожий на часы с маятником. Вода через дырочку в тазу льется в железное ведро. Смеется. Уже выпил с утра.
И она тоже привезла. Еще два пакета с едой. Холодильник у него сломался. Она расстроилась. А он нет.
– Ира, я только неделю попью, мне надо, понимаешь, надо. Мне надо отдохнуть. Я очень устал. А потом все. Мне Герман обещал совместную выставку в Финляндии. Поедешь со мной? Я не буду пить. Я не алкоголик. Только эта неделя.
У меня последняя выставка была десять лет назад. Я мертвый художник. Но вот Роден говорил – до тридцати лет все в яму. И я так же, понимаешь, я жил в мастерской, я пахал как проклятый. Я думал, что у меня после тридцати будет настоящая жизнь. Но и после тридцати все в яму. Понимаешь?
Для меня первым потрясением стал Поллок. Ты знаешь Поллока? Не важно. Я свой диплом сам сдал. Мне Ефимцев – он к моей работе даже не прикоснулся. Ведь что такое дипломная работа? Что там от ученика? А к моей даже не прикоснулся. И я защитил, вторая работа. Понимаешь? Ты же торты печешь, украшаешь, ты должна понять. Мне не повезло. Я пришел в соц-арт. Но что я там мог?
Лежат в темноте. Он в вязаном колючем свитере, и пахнет от него самогонкой, потом, красками.
На подоконниках сизо белеют банки с кистями, как свечи в церковной чаше. Только свет белый, ледяной. Все остальное ушло во тьму. И холст, как рябое лицо, серое, усталое, смотрит с треножника мольберта.
Он гладит ее лицо шершавой рукой, без страсти, без желания. Ногти красно-коричневые от краски. Но в темноте не видно.
– Знаешь, какой цвет остается видимым в темноте дольше других? Синий. Вот свитер твой синий, я его вижу. А губы уже нет. Губы у тебя, вот как сангина. Тепло-красные, у лисиц такого цвета шерсть. А волосы золотые, как у венецианских мадонн, и вся ты сама мягкая, и глаза бледно-зеленые, словно залитая водой трава, и нос тоже мягкий, и кожа молочная, пахнет яблоками осенними и вином.
Он поднимался на локте и смотрел снизу вверх. Прижатая ладонью щека сложилась, как веер, гармошкой. Жалкое опухшее лицо. Волосы грязные, нестриженые, как свалявшаяся шерсть. Посмотрел и снова лег. Страшная слабость. Голова кружится.
– Ира, ты не уходи от меня, я умру. Ты – мое спасение. Все оставили. Все. Как у Высоцкого. Все уйдут, кроме самых любимых и преданных женщин. Мне обещали выставку в Финляндии. Буду там работать, писать для выставки. Я брошу пить, вот только эту неделю еще, а потом поеду. Ты со мной. Я тебя напишу.
И страшная тоска, что не поедет и не напишет, и вдруг надежда, а вдруг. Видела сквозь темноту не написанную еще картину. Ее лицо белеет в темноте, как на картинах Караваджо, и прядь волос, словно из расплавленного золота, вдоль лица.
Все смотрят, восхищаются: «Какая красивая женщина. Это она спасла его».
А потом снова надвинулась тоска. Он лежит рядом, храпит. Несколько раз просыпался, вставал, находил в темноте бутылку и пил глотками. Так они дожили до утра.
Утром она принесла три ведра воды из колодца и уехала.
Он спал, открыв рот. Лицо коричнево-серое, цвета необожженной глины.
Как спасать? У самой сын подросток, мужа нет и никакой помощи.
В мастерской потолок вымазан белой краской. Подрамники свалены друг на друга. Несколько картин на стенах. Лимоны на одной. На другой – большой и маленький человек под одной шляпой.
Полки в четыре ряда. Вазы с кистями. Пустые банки от кофе. Кружки с отпечатками краски во внутренней части. Его автопортрет карандашом, где он с бородой, улыбается глазами. Таким она его не знала.
– Вы хотели купить картину? – спросил Герман Ирину Михайловну. – Пойдемте.
Вдова тоже пошла с ними в другую комнату, заставленную мольбертами.
– Он почти ничего не писал в последнее время, – Герман вздохнул. – Вот тут в папке наброски.
Ирина Михайловна бегло просматривала один рисунок за другим. Руки дрожали от волнения. Внезапно она увидела свой портрет.
Землистое лицо с красными снежинками сосудов вдоль крыльев носа, мешки под глазами скомканной бумагой. Две складки на шее. Мятая повисшая грудь с тяжелыми сосками, широкие плечи, тяжелые кисти, как камни. Живот одной большой складкой нависал над лобком с рыжими редкими волосами. Волосы, завернутые в дулю, и во взгляде превосходство. Над кем?
Это был карандашный набросок. И оттого, что ничего на нем больше не было, Ирина Михайловна чувствовала себя еще более поруганной.
Герман спросил равнодушно:
– Это вы?
Вдова перевела взгляд с Ирины Михайловны на рисунок, словно перелетела с ветки на ветку. Ирина Михайловна спросила:
– Можно купить?
– Конечно, – согласилась вдова с облегчением.
Ирина Михайловна отдавала деньги, которых ей было очень жаль. У нее горели лицо, уши, и ей казалось, что все неприязненно смотрят на складку на ее животе. Ей было стыдно самой себя. Стыдно обтягивающего фигуру черного платья, стыдно коленей, рук и даже нового маникюра, и самое главное, она стыдилась воспоминаний о том вечере, когда он смотрел на нее и она чувствовала себя такой прекрасной.
Художники за столом заговорили о своем и не вспоминали больше покойного.
– Кто сегодня любит живопись? Никто. И вы не любите, – говорил один, громко, с отдышкой.
Ирина Михайловна захотела уйти тихо, ни с кем не попрощавшись. Но вышла вдова и благодарила ее за пироги:
– Я никогда ничего не пекла – ни пирогов, ни тортов.
И голос ее дрожал, как змея, приготовившаяся к укусу.
Ирина Михайловна несла свой рисунок в бумажном конверте, повторяя про себя: разорву, уничтожу. Но перед глазами вдруг появлялось молодое улыбчивое лицо художника с давнего портрета. «А ведь могла встретить его раньше, вот такого. Ходила бы за ним, как за ребенком. И остался бы таким веселым, бородатым». И сразу же она вспомнила о последней встрече, как прижимался во сне горячей щекой к ее руке, и почувствовала фантомное тепло в том месте.
В маршрутке она села на свободное место, еле вместившись между попутчиками, закрыла глаза.
– Женщина, женщина, – мужчина слева пытался выйти, но ему мешали ее колени. Он сердился, наступал на ноги, но все-таки сумел протиснуться к выходу. Выходили другие, и все толкали, наступали на ноги. Ирина Михайловна морщилась.
Наконец Ирина Михайловна осталась одна, изо всех окон на нее наваливалась ночная темень. Ей хотелось отодвинуться от темноты, но было некуда. Шел дождь. Она пыталась разглядеть темно-синее небо, но оно сливалось с остальным пейзажем, портрет под ее руками подрагивал в такт коленям.