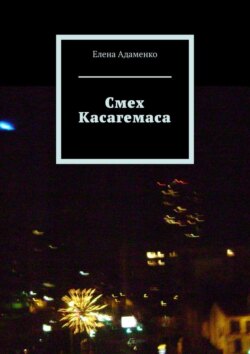Читать книгу Смех Касагемаса. Роман - Елена Адаменко - Страница 4
ЧАСТЬ II
ОглавлениеИза осторожно заглянула в приоткрытую дверь и увидела, что Герман ссутулился перед ноутбуком, на экране которого последовательно сменяли друг друга портреты каких-то людей.
Герман заметил ее, махнул рукой:
– Заходи. Посмотри, если хочешь.
Она подошла, увидела почти шаржированное изображение двух барышень на желтом фоне и двух молодых людей, шагающих за ними вслед: тот, что повыше, – франтоватый: у него виден белый воротник рубашки и галстук-бабочка; второй персонаж, пониже и покоренастее, с тросточкой и папкой под мышкой, надвинул шляпу на лоб и поднял воротник пальто, будто замышляет недоброе, – гангстер, не иначе.
Герман пояснил:
– Это что-то вроде автокарикатуры. У Пикассо была в юности одна история, я тут взялся про нее материал подобрать. Который пониже, в пальто, – это сам Пикассо, а рядом Касагемас, который вскоре самоубился. Преследуют барышень в Париже.
Иза поинтересовалась:
– А почему этот Ка…
– Касагемас, – помог ей Герман.
– Да. Почему он самоубился?
Герман небрежно махнул рукой:
– От любви.
– Мм… – Иза пригляделась к картинке повнимательнее.
– Тривиальнейший сюжет. Доступная красотка, любовь-морковь, но у Касагемаса не стоял, вот беда. – Герман искоса глянул на порозовевшую Изу и добавил: – Извини. Красотка расстраивалась.
– Сколько же им здесь лет?
– Пикассо было восемнадцать, когда они приехали в Париж. Там уж стукнуло девятнадцать, в октябре. А Касагемас, он на год постарше. Тебе, если не секрет, сколько?
– Двадцать один, – ответила Иза.
Герман почему-то с большим удовлетворением произнес:
– Вот. – Потом задумчиво добавил, продолжая двигать картинки: – Но Пабло-то наш, он вообще из очень ранних….
Вновь появились портреты: черно-белая фотография немолодой женщины в круглых очках и, кажется, ее же портреты карандашом и в цвете, разной степени безжалостности.
Герман пробормотал:
– А это тоже дама не без странностей, Берта Вейль. Старая-старая дева, лет тридцати пяти тогда. Первой в Париже картины Пикассо купила.
Иза постояла рядом, поняла, что Герман погрузился в работу и забыл о ней, тихо вышла и закрыла за собой дверь.
* * *
Борис Вениаминович был очень стар, слаб и надменен, но общение с ним удивительным образом стимулировало Германа. Стоило только старикашке презрительно скривить губу, услышав какую-то «глупость несусветную», и Герман неделями функционировал с великой интенсивностью: читал испанские и французские источники, выискивал редкие репродукции, чтобы при следующем свидании добиться снисходительно-одобрительного подъема брови и услышать что-то вроде ядовитого: «Странно, что сообразили». Или: «Скажите, пожалуйста, всё-то он знает!» Последнее – редко, крайне редко, если удавалось удивить старика по-настоящему. Был его наставник невысок, худощав, с ежиком редких седых волос, мелкими и резкими чертами лица. Правда, взгляд светло-серых глаз, мимика оставались удивительно живыми для мужчины его возраста (восьмидесятилетний рубеж он уже перешагнул).
Привязанность к этому человеку, который нередко бывал неприятным и высокомерным, Герман объяснял себе очень просто: мало с кем даже в университете можно было поговорить свободно и с пользой о важных для него вопросах. Немногие соглашались услышать другого, вступить в полноценный диалог, и уж совсем малое число собеседников являлись истинными знатоками…
Одиночество же в науке, к сожалению, быстрому прогрессу никак не способствует. У Германа завязалось несколько полезных знакомств в библиотеках, с парой коллег-аспирантов находилось о чем потолковать. Непосредственный научный руководитель Германа, которого все звали почему-то не по имени-отчеству – Константин Петрович, а по фамилии – Мохов, держался отстраненно, давал дельные советы, помогал с необходимыми публикациями, но полагал, что молодой ученый продвигаться вперед должен сам. «Я не нянька», – говорил он. Еще он нередко рекомендовал Германа различным работодателям (то консультация на киностудии, то перевод, то статья). Это очень облегчало Герману жизнь и потихоньку, за несколько последних лет, создало вокруг него хотя и тоненькую, но питательную среду. Сотрудничество всегда оставалось взаимовыгодным: Мохов знал, что Герман не схалтурит и не подведет, а «моховские» люди никогда не забывали платить. Практичный и прямой Константин Петрович по поводу денег говорил: «Без топлива далеко не улетишь». И именно благодаря его холодной и уважительной поддержке Герман решил поступить-таки в аспирантуру и защититься сразу после окончания университета. Мохов однажды сказал ему: «Вы же не хотите всю жизнь слышать: „А это еще кто такой?“ Надо сразу посягать, не стесняться, и занять, занять свое место под солнцем». Двухметровый, спортивный, моложавый, но при этом седовласый Мохов навис тогда над Германом (тоже, вообще-то, довольно рослым) и уставился на него очень требовательно. И так как с вопросами про «кто такой» Герману сталкиваться приходилось уже не раз, он внял совету.
Однако хотелось общения не только делового, но и вдохновляющего. Эту нишу и занимал Борис Вениаминович. Кажется, и наставник получал от их встреч удовольствие. На старика Герман никогда не жалел времени. А время – это единственное, чего ему бывало по-настоящему жалко.
По причине телесной дряхлости Борис Вениаминович давно не брал на себя никаких формальных обязанностей («А если я отдам Богу душу в день вашей защиты?»), но дома Германа принимал, слушал, что-то говорил. В итоге у Германа неизменно возникали новые идеи, размышления обретали новую окраску, нечто, казавшееся важным, вдруг оборачивалось сущей ерундой, и наоборот – неожиданно выдвигались на первый план как будто мелочи.
Так как хозяин дома передвигался не без труда, а жил он одиноко (много лет назад овдовел; его дочь, тоже дама уже в годах, сама мать семейства, наездами вела хозяйство), Герману позволена была некоторая самостоятельность: он освоил нехитрые манипуляции на кухне, знал, где стоит чай, кофе, знал предпочтения Бориса Вениаминовича и при случае даже доставлял ему конфеты и пирожные в соответствии с его незатейливыми старорежимными вкусами. Сам же Борис Вениаминович устраивался в низком потертом кресле, укрывая колени неизменно лежавшим там оранжевым пледом.
Сегодня Герман, наливая чай, делился переживаниями добросовестного аспиранта:
– Жаль, что «Последних мгновений» в цвете не увидишь…
(Эта ранняя картина Пикассо долго числилась утраченной, пока не выяснилось, что автор поверх нее написал другую – «Жизнь». )
Борис Вениаминович поморщился:
– Ради бога, Герман, чего вы желали бы там рассматривать? – старик шумно втянул в себя чай. С Германом он по настроению бывал то на «ты», то на «вы». – Рентгенографию-то «Жизни» семьдесят восьмого видали, небось… Закрашены ваши Últimos momentos, самим автором закрашены, о чем тут думать!
– Конечно, но интересно, что там с колоритом. Как она выглядела на Всемирной выставке…
– Да уж не без Рамона-свет-Касоса, не без Русиньоля… Он же на них равнялся, думаю. Не должна быть совсем уж темная. – Немножко помолчав, Борис Вениаминович продолжил: – Но все равно это еще девятнадцатый век. Идейно, композиционно. Все как у всех на этой самой выставке. Пацан он еще, Пабло ваш, щенок, еще только рыщет, принюхивается ко всему, приглядывается, от всего отъедает, на зуб пробует. И поперхнуться отнюдь не боится.
Герман засмеялся.
– Да уж… Думаете, значит, никак она не выделялась. А ведь он самый молодой в испанской части выставки. Среди каталонцев все остальные по крайней мере лет на пятнадцать постарше. Таланты его все же кто-то заприметил.
Борис Вениаминович хмыкнул:
– Тут важно, чтобы Бог заприметил. Или черт, что в случае вашего любимца абсолютно не исключено. – Он подождал реакции Германа, но тот предусмотрительно промолчал. – У Касагемаса, быстропокойного, например, тоже ведь таланты имелись. Выставка в Каталонии готовится, как вы знаете, надеюсь. Он хорошо прогрессировал, рос, менялся. И тут первая попавшаяся прости господи – и все, нет Касагемаса! Данные неплохие у каждого пятого-десятого. Проблема не столько ведь в исходных, но в том, что человек с ними делает. И делает ли хоть что-нибудь. – Старик снова помолчал, явно вспомнил что-то. Потом продолжил с горечью: – Я за годы преподавания насмотрелся на это… Бывало, люди приходили, одаренные так, что просто дух захватывало. Всё могли, и свежо, остро реагировали, схватывали на лету. И художники такие бывали, и наши коллеги – толкователи да трактователи. Мало кто из них, из самых лучших, нашел себе достойное применение, большинство просто пропали. Кто пить стал, до признания не дотерпев, кто семью большую завел, в чиновники-администраторы министерские пошел, деньги начал заколачивать… Умом-то да талантами попробуй проживи. Некоторым времени не хватило развернуться, не дано было долгих лет. Для большой-то судьбы очень многое сойтись должно, и сам человек должен не подвести, постараться. Вот и ты, Герман, имей в виду. Кстати, среди тех, что для истории искусства пропали, кто сейчас винцо попивает и кружки́ в художественных школах ведет, было множество хороших – очень хороших людей. И они мало-мало себя ценили. Вот твой-то герой точно не из таковских.
Борис Вениаминович, довольный, что снова поддел Германова «любимца», медленно развернул конфетку и с удовольствием положил ее в рот. Блаженно прикрыл глаза, сделал глоток чая.
Герман на скользкую психологическую дорожку решил не ступать (они оба имели к этому склонность, вполне порочную, по мнению других коллег-искусствоведов), завел речь про другое:
– А вот Касас или Русиньоль – это ведь имена в испанской версии, а на каталанском все звучит иначе – Казас и Рузиньол…
Борис Вениаминович фыркнул так свирепо, что брызги полетели во все стороны. Рассердился, порозовел. «Хорошо еще, не подавился», – подумал Герман.
– Вы что выдумываете! Революционер тоже! Традиции есть традиции, что же, каждое поколение будет все менять?! Пароли, явки? – Немножко помолчал и ехидно добавил: – Я вот припоминаю, вы произносите «Касагемас»? А ведь по-каталански быть ему Касажемасом! И по-испански ведь не так! По-испански он Касахемас! – Он картинно допил чай, весомо опустил чашку на блюдечко и торжествующе блеснул очками на Германа.
«Вот ведь старый империалист!» – подумал Герман с необъяснимой нежностью и в очередной раз удивился обилию хранящихся в седой голове сведений, скорости реакции и умению мгновенно выявлять слабое место во «вражеских» позициях. Несмотря на возраст, Борис Вениаминович чрезвычайно быстро соображал; причем Пикассо находился на периферии его научных интересов. Да, варианты «Касажемас» и «Касахемас» Герману попросту не нравились, и он пользовался устоявшейся и неверной русской транскрипцией. Пора бы уж к какой-то стратегии склониться, какое-то примечание в диссертации дать. Тут какой вариант ни выбери, все равно кто-нибудь да останется недовольным.
* * *
Во дворе Изе попалась навстречу стайка девчушек лет около десяти, обсуждавших «дамские штучки»: одна пигалица важно заявила, что мама научила ее стрелки рисовать и пользоваться консилером, а другая похвасталась, что умеет накладывать румяна, но вторую тут же в несколько голосов окоротили, что это уж любой дурак (дура) сможет. Иза подумала, что отстала и от малолеток тоже. Ее мама не учила ни стрелки рисовать, ни румяна наносить – не успела, а о том, что такое «консилер», Иза до сих пор имела самое смутное представление.
Хотя о дочке красивой (возможно даже – самой красивой) мама явно мечтала, ведь и назвала-то ее как, с претензией – Изабелла! Наряжала, долго и тщательно заплетала косички, подкалывала, пшикала лаком, завязывала пышные банты, но мягкие волосенки не желали держаться в прическе – через час-другой вся красота, созданная с огромным трудом, безнадежно разрушалась, одежда мялась и пачкалась, тонкие пряди выбивались из косичек, банты понуро повисали и развязывались, и Иза, отражаясь то в зеркалах, то в витринных стеклах, понимала, что снова все прошло прахом. «Опять двойка».
Мама была настоящей женщиной, в самом традиционном понимании: красавица, стройная, ухоженная, хорошо шила, вязала, поддерживала уют в доме, готовила. Иза изо всех сил старалась, чтобы все у нее получалось так же ловко и красиво. Но ей не доставляло ни малейшего удовольствия бисероплетение, макраме, вышивание (хотя, видит бог, она старалась) … Если она пыталась связать крючком круглую салфеточку, у нее выходило нечто вроде шапочки – края неконтролируемо загибались вверх, а то еще и сужались, словно снова стремясь к нулю, к центру. На мамином лице читалось разочарование и раздражение, когда она вновь и вновь объясняла, где и как в вязанье нужно добавлять лишние столбики… Когда Иза оказывалась на занятиях кружков в Доме творчества, ей всегда казалось, что «чужим» детям мама объясняет все совершенно без напряжения, даже если приходится делать это не раз. А с ней не так. Желание соответствовать – это Иза из детства запомнила твердо, как и то, что соответствовать не получалось.
Выходит (так вспоминается), что разочарование – главное чувство, которым Иза сызмальства одаривала близких.
И во дворе ведь тоже ничего. У Изы не получалось ловко прыгать через скакалку, удачно ловить и метко бросать мяч. Она боялась залезать на деревья повыше.
С деревьями однажды летом вышла целая история. Родители пару недель отдыхали в пригородном пансионате. И Иза с ними, конечно. Там подобралась компания детей, лет от семи-восьми до двенадцати, и им была позволена гораздо бόльшая, чем в городе, свобода действий. Они стайкой носились туда-сюда, затевали игры-преследования с прятками, под надзором взрослых плескались, если позволяла погода, в мелких водах залива.
Неподалеку от пансионата был неширокий, метра три-четыре, канал. Над его водами в одном месте две старые липы склонялись навстречу друг к другу. Одним из любимых детских развлечений – секретных к тому же, за него ругали, – было путешествие с одного берега на другой сначала по одному дереву, потом по другому. Лихие мальчишки просто бегали по толстым стволам и вроде бы ни разу никто не свалился. Да и водица-то внизу по грудь самому мелкому из их компании, не глубже. Со стороны казалось, что самым сложным и требующим некой отваги был момент перехода с одного дерева на другое – сделать шаг, не оступиться. Однажды Изу раздразнили, и она тоже поучаствовала. Сделав шажок-другой по едва приметно пружинившему стволу, увидев под собой поблескивающую воду, она так перепугалась, что села на дерево верхом. Под градом насмешек еще чуть-чуть, помогая себе руками, царапая кожу на голых ногах (она была одета по летнему образцу: футболка, шортики, панамка и сандалии), продвинулась вперед. А потом страх окончательно сковал ее. Иза вцепилась в дерево и замерла. Уже и мальчишки, которые до того ее дразнили, старались ей помочь, пытались оторвать от дерева и вытащить обратно на берег, но безуспешно. Она молча неистово обнимала ствол, насколько хватало рук, и не шевелилась.
Пришлось «сдаваться» родителям. Отцу, прибежавшему к месту происшествия, Иза все же доверилась и смогла немного ослабить хватку, дала себя метра полтора – всего-то! – обратно к берегу протащить и наконец поставить на ноги.
Она хорошо помнила тогдашнюю свою оцепенелость, невозможность пошевелиться, панический ужас при виде воды внизу. Если бы хоть под ней разверзалась настоящая пропасть! Но нет, это был просто страх, сам по себе, чистый, беспримесный, никакими разумными причинами не объяснимый.
А мама тогда сказала, что Иза хотела привлечь к себе внимание и все это очень некрасиво. И пару дней с ней не разговаривала.
Так что ни принцессой, ни «бесенком» Иза не была, не похвастаешься.
Кое-какие наклонности у нее, конечно, имелись. Она всегда любила читать. Ей нравилось гулять вдоль Невы, наблюдать за чайками у залива. Нравилось пить свежезаваренный ароматный чай, глядя в окно. Нравилось мечтать, рассматривая картинки с видами далеких городов. Нравилось устроиться в теплой уютной постели, и чтобы мама поцеловала на ночь – это она делала, да. Не всегда, без особой нежности, но целовала.
Однако ничего из этого нельзя было считать практическим, имеющим смысл или приносящим уважение товарищей занятием. Как жить на свете с таким набором бесполезных пристрастий? Правда, учеба в школе давалась ей без труда. Так что по крайней мере идиоткой в медицинском смысле слова она не являлась.
А потом мама заболела. Ей было тридцать, а Изе десять…
* * *
Герману нужно было слишком многое успеть. Когда обстоятельства складывались таким образом, он начинал чрезвычайно быстро ходить, даже не осознавая этого. Вот и сейчас по университетскому коридору он почти бежал. «Я тех люблю, кто быстро ходит, у них в глазу маршрут горит», по выражению одного местного поэта. Но «полет нормальный» был прерван окликнувшим его молодым человеком:
– Гера, привет!
Герман остановился, увидел своего приятеля, они обменялись рукопожатием и даже вытащили из ушей наушники (верный признак взаимной симпатии). Молодой человек по прозвищу Кока – сын продюсера Андрея – продолжил:
– Отец просил тебе передать.
Протянул Герману конверт. Тот сунул его в карман, спросил:
– Спасибо. Не знаешь, какой сюжет они для сценария выбрали?
– Без понятия. Пока, бегу сегодня.
Расстались, кивнув друг другу, Кока вновь закрыл ухо наушником, а Герман достал из кармана мобильный, набрал номер Андрея.
Тот быстро ответил:
– Здрасьте, Герман. Сын еще не передал тебе гонорар?
– Добрый день! Нет-нет, все в порядке, передал. Спасибо. Я хотел узнать, на каком сюжете ваш сценарист остановился?
В голосе Андрея послышалось удивление:
– На Фернанде. А что?
Герман, пытаясь скрыть волнение, сказал:
– Меня очень интересует другая история – Касагемас, я бы тоже хотел попробовать написать версию сценария. На свой страх и риск, вы ничего не теряете.
Андрей сочувствующе хмыкнул:
– Ну почему нет? К Новому году успеешь – рассмотрим. – После небольшой паузы поинтересовался: – А опыт-то у тебя какой имеется, стесняюсь спросить?
Герман заговорил очень быстро, он предвидел подобный вопрос:
– Я пишу как журналист, в интернете, с телевидением сотрудничал… Немного, правда. Но я знаю требования, формат, все такое…
Андрей произнес:
– Ну что ж, пробуй, молодой-одаренный. Я не против. Но и гарантий, сам понимаешь, не даю…
– Это ясно, да.
Вот и договорились.
* * *
Иза, обложившись бумагами, снова сидела у компьютера, пыталась заниматься. Лексикологический аспект «Серапионовых братьев» окружил ее, кажется, со всех сторон. Но из осадного положения ее выручил вызов в скайпе – она мгновенно вышла из текстового редактора и ответила на звонок.
На экране возникла физиономия ее единственной подружки, бывшей одноклассницы, – Светы, Светика. Круглое лицо, темные кудряшки, большие навыкате карие глаза. Ничего, кажется, не было общего у Светланы и Изабеллы. Светик отличалась термоядерной энергией и необузданным нравом. Но почему-то они друг другу нравились, доверяли и дружили и никогда не подводили друг друга. Конечно, поправку на разницу темпераментов делать приходилось – Иза участвовала лишь в малой доле Светкиных затей. В университет после школы обе поступили на филфак, но Иза училась на русском отделении, а Света – на немецком. Недавно, можно сказать – на почве германской филологии она влюбилась и вышла замуж за немца, проходившего в России языковую стажировку, и отправилась с ним в Берлин.
Даже перед самой свадьбой, имея множество собственных неотложных дел, Светик продолжала помогать, и без просьб; даже ее будущий муж Рихард успел познакомиться с Изиным отцом. Но после скромной свадебной церемонии они уехали, и последние недели перед смертью отца Иза провела в полном одиночестве. Его друзья старались не подходить слишком близко к месту страдания – зачумленному месту. Потом уж, выдохнув «отмучился» и словно искупая вину, помогали с организацией похорон, деньгами…
– Светик, как я рада. Привет! Ну как дела? Уже, наверное, совсем освоилась?
– Да нет пока, не совсем, – усаживаясь перед компьютером поудобнее, ответила Света. – Все здесь иначе, все другое. Даже продукты другие, и еда получается не того вкуса. Прямо катастрофа какая-то! – И добавила, кокетливо глянув в сторону: – Боюсь, скоро Рихард поймет, что женился напрасно. Он ведь на борщи рассчитывал…
Подружка захихикала, в кадре появилась взлохмаченная голова Рихарда, который по-русски говорил, но совсем не идеально и с сильным акцентом. Он был смешной и смешливый толстяк, добродушный и громогласный.
– Халло! Не доверять, она лгать. Смотри мой живот!
Рихард на том конце сети выпрямился, пытаясь предъявить во всей красе свое пузцо – говоря откровенно, довольно объемное. Света со смехом вытолкнула мужа из зоны видимости.
Тут раздался стук в дверь, и Иза деловито произнесла:
– Секунду. – Обернулась в сторону двери: – Войди.
Герман не сразу заметил, что она занята разговором, подошел к столу.
– Слушай, а у тебя инструмент есть какой-нибудь? Мне бы молоток…
– Сейчас посмотрим. – Обратилась к Свете: – Подождешь минутку, ладно?
И с готовностью отошла от компьютера. Герман увидел скайп-картинку, наклонился, приветственно помахал Свете рукой, она ответила тем же. Иза, выходя из комнаты, торжествовала. Наконец-то и у нее в жизни что-то происходит. Новости, и не трагические. Герман последовал за ней в коридор.
Вручив жильцу отцовский чемоданчик с инструментами, Иза вновь расположилась перед компьютером, пошевелила мышкой, пробуждая его, сказала, обращаясь к светлой стене в заграничной квартире:
– Светик! Я вернулась.
Подружка не замедлила появиться и казалась весьма заинтригованной:
– Так, что это было? Что за мужчина симпатичный?
– Помнишь, я комнату собиралась сдать? Ну вот, мой жилец.
– Да ну?! С филфака такой? Что-то я не припомню…
– Да нет, он с кафедры истории искусств. Аспирант.
Светик, как водится, принялась ее дразнить. Иза благодарно смеялась, ведь только верная ее подруженция, только она считала нужным ее подразнить. Тили-тили-тесто… Только она считала ее живым человеком, девушкой, которая на что-то годится.
* * *
Сколько раз смотрел Герман на Изу, которая по вечерам, перед сном, облачалась в алый шелк, столько раз поражался, насколько это одеяние контрастирует с ее неярким обликом и даже разрушает его. Обычно в университет она ходила в чем-то темном, сером, невзрачном, иногда, видимо по особым случаям, одевалась по принципу «белый верх, черный низ». Однажды Герман сказал:
– Такой халатик у тебя нарядный…
Иза ответила:
– Спасибо. – Немного помолчала и добавила: – Это кимоно. Не настоящее, конечно, кимоно – так, стилизация. Но японская. Из Японии.
Боже мой, пояснила. На слова Иза обычно была не щедра, и потому продолжения Герман не ожидал, но она вдруг добавила:
– Мамино. Ей было очень к лицу.
Герман только собрался произнести что-то вроде «и тебе очень идет», но Иза его опередила:
– Я на нее не похожа, совсем. Я хорошо ее помню. Не похожа.
Герман примирительно заключил:
– Ну, все разные.
Иза кивнула.
Зайдя однажды в комнату Изы, Герман обратил внимание на фотографии за стеклом книжных стеллажей. Да, действительно, мать была хороша. Однако Иза ошибалась, говоря, что они не похожи. Просто женщина на снимке казалась очень счастливой, ее лицо светилось, и оставалось им только любоваться, а Изины черты, формально на материнские очень даже похожие, ежеминутно словно рассогласовывались друг с другом, отражая ее смятенность, неуверенность в себе… Странно, что мать не сумела – или не успела? – передать дочери веру в себя, в свою привлекательность.
Рано утром Герман выглянул за окно и решил: «Все, выходной!» День выпал солнечный и по-настоящему теплый, осень давала о себе знать только «багрецом и золотом», обильно просочившимися в зелень деревьев. Кока звал его в кино и по пиву. Герман позвонил и согласился.
О кино с Кокой можно было говорить до бесконечности, если б только Герман мог соответствовать. Но он не мог, и никто, по крайней мере из их общих знакомых, не мог. Казалось невозможным посмотреть столько фильмов, да еще с таким вниманием. Кока помнил всё: не только имена актеров и режиссеров, но и костюмеров, операторов и композиторов… Кино было его страстью с детских лет; возможно, она передалось ему по наследству – недаром отец его в этой сфере подвизался. Сам Герман кино любил, но претендовать мог в лучшем случае на статус «продвинутого пользователя». Поэтому чаще всего он наводил у друга справки и с большим вниманием относился его рекомендациям – Кока обладал отличным нюхом на все ценное и новое, причем в жанровом отношении оставался абсолютно всеядным.
Папаша-продюсер Андрей, видимо, мечтал обрести в сыне толкового и верного бизнес-соратника – учился Кока на юридическом. Сейчас, после каникул на море, он выглядел наилучшим образом – выгоревшие пряди, бронзовая кожа. Худой, среднего роста, зеленоглазый. Но в его внешности всегда читался и какой-то изъян, подвох, ненадежность. Возможно, из-за худобы или из-за того, что он страдал легким расходящимся косоглазием, придававшим его взгляду рассеянную неопределенность. На шее он всегда носил диковинные деревянные бусы.
Сегодня они встречались на дневном сеансе в крохотном кинотеатре «Восход» на окраине, где почему-то проходил предпремьерный показ «Великой красоты» Паоло Соррентино. Кока этого режиссера боготворил, а Герман не знал. «Это всегда грандиозное кино, и оно однозначно требует большого экрана!» – страстно и категорично утверждал Кока. Их встретила задумчивая девушка с зелеными волосами, провела в небольшой зал, где собралось десятка два людей очень серьезной наружности, – видимо, прокатчики. И таинство началось…
Великая красота сущего, la grande belezza, мимолетно, шутя, скачком золотого солнечного зайчика оживляла холодный мрамор, делала незабываемой рассеянную женскую улыбку, неожиданно и радостно выпрыгивала из морщинистого декольте старухи. Проблески истины и красоты везде – в суете туристических аттракционов, в скуке обязательных к посещению статусных вечеринок, в смерти и в детском смехе. И Соррентино переловил их, этих проблесков, как бабочек сачком, на достойную коллекцию лепидоптерофилиста. Набоков остался бы доволен.
После сеанса зазнайка Кока, узнавший от отца о планах Германа-сценариста, взялся сплеча крушить все его мечты и амбиции:
– Не знаю, чего ты там можешь насочинять, при твоей-то насмотренности, пренебрежимо малой. Потом, учти, у папаши-то моего парни ползать рождены, а не летать. Твердо знают, что можно, что нельзя. За эксперименты огребают по полной. А папаша – тиран, и вкус у него так себе. Да и техническая оснащенность студии на троечку.
Герман Кокины нападки всерьез не принимал. Говорить пока не о чем – сценария-то никакого нет. В насмотренности он с Кокой конкурировать, конечно, не мог, но, в отличие от друга, выросшего за широкой папиной спиной, у него, Германа, имелся приобретенный самым естественным путем жизненный опыт – для сценарной работы вещь совсем не лишняя. Кока обитал в сказочном мире кинообразов, кинофантазий и мало-мало имел связей с действительностью: ему не приходилось бороться за место под солнцем, у него не бывало проблем с жильем, с едой. Он совсем не знал, какие они, трудности, на вкус и на ощупь, что такое преодоление. Учился он, кажется, на платном. Па-па-па-па-па-па. Кока свою несамостоятельность, инфантильность, кажется, ощущал и порой ставил над собой странные и смешные эксперименты типа «прожить три дня на сто рублей» или «провести день, занимаясь наружным наблюдением» (когда в душу западала какая-то детективная история).
Видимо, сегодня в планах у него стояло: «Нарушать и распивать в общественном месте». После кино они оседлали небольшую скамейку без спинки и стали потягивать пиво. Неподалеку раскинулся протяженный, зажатый между оживленными автотрассами и трамвайными путями и в глубине запущенный, безлюдный, заросший кустарником сквер, зеленая зона, которую сейчас, впрочем, следовало бы назвать пестрой. Все цвета здесь смешались – ярко-желтый, остатки зелени, винно-красный, бурый…
Вскоре рядом с ними обнаружилась интересная активность: по дорожке вдоль кустов прохаживались девицы в экстремально коротких юбках, время от времени у остановки общественного транспорта притормаживали машины. Вечерние сумерки еще только-только начинали сгущаться, поэтому все было, с одной стороны, очевидно, с другой – границ приличия в целом не нарушало. Если бы молодые люди не задержались здесь, то, вероятно, ничего и не заметили бы. Но теперь вся схема оказалась как на ладони. Вульгарно одетые телки топтались у кустов, время от времени появлялись низкорослые кавказцы, поглядывали по-хозяйски в сторону их табунка, кому-то рукой махнут, кому-то кивнут – и вот подъезжает машина, подбирает девиц… Кока и Герман, потягивая пиво, с любопытством наблюдали за развитием событий.
В какой-то момент осталась лишь парочка секс-работниц: одна – совершенно пропитого вида тетка за тридцать и ее молодая товарка – с хорошей фигурой и совершенно отвратительной рожей. Случайный набор разнокалиберных деталей, а не лицо…
Кока вдруг с неожиданным азартом спросил:
– А ты когда-нибудь пользовался? Услугами?
Герман отрицательно покачал головой.
– Не приходилось.
К старшей тем временем подкатил какой-то старичок в плаще, лет семидесяти, не меньше, и стал ей на ухо что-то активно нашептывать.
Кока гоготнул:
– Глянь-ка! Пришел такой – потенцию до ста лет сохранил!
«Жрица любви» старика послушала-послушала, хрипло засмеялась и повернулась в сторону тропки в кустах… Молодая, до срока просто наблюдавшая за этой сценой, свирепо взвизгнула:
– Вообще что ли? Ты теперь че, за сто рублей, что ли?
Старшая коллега ответила миролюбиво, со смешком:
– Да вон деду хочется…
– Хочется-перехочется, – отрезала жестокая младшая. – Все Манвелу расскажу…
Дед переминался с ноги на ногу, с тревогой переводил взгляд с одной женщины на другую – обломится, нет?
– Да испугала, обделалась уже от страха, – разозлилась и подбоченилась старшая. – Мне тоже есть чего Манвелу-то рассказать! Идешь или че? – рыкнула она на деда, и тот заспешил вслед за ней в кусты…
– О как! – Кока был поражен. – Они безлошадных, значит, в зеленых насаждениях обслуживают.
Герман выбросил свою бутылку в урну у скамейки. У Коки же косой глаз ушел в сторону, кажется, сильнее, чем обычно, и он пафосно выдохнул:
– Думаю, каждый мужчина должен попробовать с проституткой.
Герман пожал плечами.
– Здоровье поберег бы.
Кока встал и тоже выбросил бутылку, переложил из кошелька шуршащие бумажки в карман брюк, сунул свою сумку в руки Герману, спросил его:
– Подождешь меня? – будто они школьники по дороге домой.
И, не дожидаясь ответа, направился к шлюхе помоложе, которая, заметив его приближение, приняла максимально соблазнительную, по ее представлениям, позу. Фигура как у гимнастки или балерины, но блеклое, размалеванное, равнодушное лицо! Интересно, работа ее изуродовала или она такой уродилась?
Кока-экспериментатор быстро с ней договорился, и парочка двинулась в кусты по другой тропке. Герман подумал, что Кока теперь сможет отметить галочкой пункт «трахнуть проститутку» в предполагаемом списке достижений.
Из кустов через некоторое время выбралась первая сладкая парочка. Дед имел воровато-довольный вид и резво засеменил прочь. Дама же окинула взором поляну, все оценила – отсутствие коллеги и недостачу парня на скамейке – и тронулась в сторону Германа.
– Сигаретки не найдется? – спросила неизобретательно.
– Не курю.
– Сам-то не хочешь? – качнула головой в сторону кустов.
– Нет. Спасибо.
Как ни в чем не бывало она достала курево из кармана джинсовой курточки, щелкнула зажигалкой. Ее физиономия, хоть и выглядела помятой, но все же оставалась живой и выразительной.
Герман вдруг разозлился на друга и дурацкую его затею, закинул за плечо рюкзак, подхватил сумку Коки и побрел в сторону станции метро. Старшая, покуривая, не спеша вернулась на рабочее место.
Скоро Кока догнал Германа, доложил:
– У них там, в кустах, матрас надувной и зонтик имеется большой. Видно, из кафешки какой сперли. Или, может, специально приобрели. На развитие бизнеса списали.
Герман хмыкнул и протянул ему сумку.
– Как впечатления?
– Ну так… Технологичненько.
* * *
Через желудок – верная дорога к сердцу мужчины. Такова народная мудрость. И единственный способ хоть немного поговорить с мужчиной-постояльцем – за столом. Они договорились сбрасываться на общую еду, а готовить, кто как сможет. Чаще получалось у Изы, конечно.