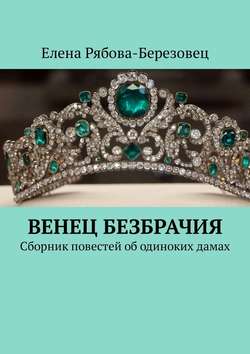Читать книгу Венец безбрачия. Сборник повестей об одиноких дамах - Елена Александровна Рябова-Березовец - Страница 4
Бедная Вика
(Ироническая повесть)
ОглавлениеI
– Вика? Здравствуйте, – голос в трубке был с характерной московской оттяжечкой, мягкой ленью и легкой иронией. – Это Данелия говорит. Гавриил Александрович
Он вполне мог бы не представляться, поскольку его специфическую интонацию из Викиных знакомых мужского пола не повторял никто. А уж у нее на интонацию память была безошибочной. Как на несложную музыку.
– Какой еще Гавриил? – Вика как бы притворилась, что не узнала. – Архангел, что ли? Ну, здравствуйте, Гарри? Вы где?
– Я тут в гостинице неподалеку от вас. У меня есть сорок минут, и я мог бы…
– Можете, – перебила Вика. – Я уже ставлю кофе… – Вика положила трубку и подивилась себе. Вообще-то утренние звонки обычно вызывали в ней одно лишь раздражение. Ибо она полагала, что утро – не самая подходящая пора для телефонной болтовни. Даже для не первой молодости одинокой женщины. Но это же был Гарри! На него Викино раздражение распространиться не могло. Во-первых, потому, что Гарри был, что называется, «гость нашего города», а во-вторых, гость (для Вики, не для города) – желанный, несмотря даже на то, что всегда неожиданный.
Неожиданность Гарриных появлений как раз импонировала Вике. Гарри почему-то никогда не появлялся в те моменты, когда Вика, скажем, пыталась устроить личную жизнь или просто находилась в тупом уравновешенно-спокойном состоянии. Напротив, его командировки как бы специально приурочивались к колебательному состоянию Викиной нервно-психической системы, к стрессовым ситуациям, связанным со все усугубляющимся дефицитом общения, который возник в Викиной жизни как-то сразу и вдруг.
Это случилось в конце семидесятых, когда двадцатисчемтолетняя Вика вернулась в родной Г. на постоянное место жительства, влача за плечами почетный груз высшего столичного образования, а также воспоминаний о студенческой пятилетке качества знаний и количества друзей – и больше ничего. И никого.
Следуя материнским наставлениям, выросшим на почве «Морального кодекса строителя коммунизма», Вика все пять лет учебы пребывала в неколебимой уверенности в том, что «главное для женщины – это любимая работа, а остальное, доченька, приложится». Именно так любила говаривать наивная коммунистка-мамочка
Но надо сказать, что в такой же уверенности вместе с Викой пребывала и немалая часть ее московского окружения женского пола. (Сейчас их обозвали бы феминистками.) Эта часть как бы искренне полагала, что ей не к лицу «уж замуж невтерпеж», и потому поощряла разные амурные истории и даже внебрачных детей, а сам институт брака, наоборот, не поощряла.
Брак этой феминизированной части представлялся чем-то низким, недостойным образа настоящей деловой женщины и даже постыдным. Нестыдным и достойным было «посвящать» время «умным» беседам о разной литературе, смысле жизни и судьбах русской интеллигенции. Время же, которое в браке предстояло бы тратить на стирку и кулинарию, считалось пустым, глупым и просто убитым. Это даже однажды обсуждалось на семинаре по философии…
Поэтому к концу пятого курса замуж из Викиного окружения вышли только те «штрейкбрехерши», которые мечтали остаться в Москве. А те, кто не захотел «продать» свою свободу за московскую прописку (или просто не нашел, за кого бы можно было «прописаться») благополучно разъехались по городам и весям, указанным в документе о распределении на работу. Такая вот была для студентов в те годы в нашей стране лафа.
Вика, понятное дело, тоже мечтала в глубине души оказаться «штрейкбрехершей» и остаться в Москве, ибо только в столице она могла бы целиком и полностью предаться тому делу, которому хотела служить: заниматься переводами художественной литературы с известных ей иностранных языков и, может быть, даже обратно. У Вики, конечно же, были и свои, причем несомненные литературные способности, но выдумывать для их претворения в искусственно созданную реальность свои собственные сюжеты ей было лень. Или просто таланта недоставало.
Да и, считала Вика, не женское это дело – становиться профессиональным литератором. Ведь творчеству же тогда надо будет посвятить всю свою жизнь без остатка! А себе что в таком случае останется?
***
Но угнездиться в столице Вике, увы, не довелось: вдруг неожиданно и тяжело заболела мамочка, и Вика, как любящая дочь, вынуждена была распределить самое себя в родной Г. А впрочем, нехорошая эта причина, подумывала Вика в глубине души, была ей даже на руку: слишком уж много надо было в те времена на московскую прописку сил положить. А суетиться Вика не любила. И поэтому, невзирая даже на положительное отношение к ее переводческому творчеству в одном из толстых журналов, Вика взяла да и вернулась в родной Г.
И попала прямиком в среднюю школу – с иностранным, правда, уклоном. И принялась вместо желанных переводов заниматься педагогической деятельностью – обучать подрастающую поросль английскому и немецкому языкам. Но, к счастью, вскоре, примерно так через полгода, Вика с удовольствием осознала, что учительское дело ей в общем-то нравится. И обнаружила, что, кроме литературных, есть у нее еще и психолого-педагогические способности. Детишки ее во всяком случае просто обожали, а старшеклассники даже осмеливались влюбляться.
Но зато коллеги по работе (а были это в основном женщины – причем, по большей части, одинокие и умотанные жизнью или климаксом) относились к Вике без особой любви. И даже с некоторой, можно сказать, неприязнью. А впрочем, это было немудрено, ибо Вика, как ни тщилась, не могла не выпадать из их устоявшихся представлений о характере, образе и имидже учительницы средней школы. Вика, как казалось коллегам, «строила из себя сильно умную»: то про книжку какую-нибудь никому не известную заговорит, то взахлеб начнет рассказывать (и анализирует ведь еще, засранка столичная!) о каком-нибудь спектакле или кинофильме… А бесед о простых, понятных и «глубоко человеческих» вещах (о погоде, мужьях, ценах, любовниках, детях и их болезнях, о дырах в семейном бюджете ets) поддерживать не желает. Сразу, бывало, заскучает и в методичку какую-нибудь уткнется.
Однако, несмотря на то, что общаться на интересные ей темы на работе Вике было не с кем, в школе она тем не менее особенно не скучала. А в иные многоурочные дни и думать забывала о том, что есть в окружающей жизни еще какие-то вещи и понятия, кроме школы и обожающих ее детишек.
Трудности начинались по вечерам, когда на Вику вдруг наваливалось отчаянное одиночество, которое действовало на нее так ослабляюще и угнетающе, что она не только за пределы дома, но и даже из своей комнаты выползать не хотела. Сидела себе, дымила как паровоз и крутила на стареньком проигрывателе какой-нибудь раздражающий родительское ухо «проклято-западовский» джаз.
Впрочем, от одиночества Вику иногда спасал младший и любимый брат Ника. Но он, увы, редко коротал вечера под домашней крышей: то очередную любовь крутил, то алкогольно расслаблялся где-нибудь с друзьями.
И бедной Вике ничего не оставалось, как, глотая скупую девичью слезу, строчить (подобно старой деве или какой-нибудь дореволюционной институтке) отменно длинные письма подружкам, которые так же, как она, изнывали от одиночества и тоски по студенческому бытию вообще и столице, в частности.
***
Но прошел год, другой и третий – и письма стали делаться все реже, суше, короче. И писаны бывали уже совсем о другом: о мужьях, потом о детях и их болезнях, о дырах в семейном бюджете, о дефиците промтоваров и тому подобной муре. Тосковать все как будто потихоньку переставали.
Да и сама Вика потихоньку вроде бы утихомирилась, смирилась со своей провинциальной судьбишкой. А кроме того, нашла себе со временем способ для относительной самореализации и повышения самооценки: она принялась сотрудничать с местной молодежной газеткой, которая с радостью взялась публиковать ее пространные рецензии и прочие культурно-просветительские заметочки.
Круг Викиного общения таким образом заметно расширился, а чувство одиночества, к вящему ее удовольствию, спряталось где-то глубоко внутри и на поверхность выскакивало не слишком часто. А если уже оно сильно начинало ее донимать, то они с Никой брали бутылочку – и с удовольствием поливали Викино одиночество каким-нибудь сладким портвейном, справедливо полагая, что оно напьется допьяна да и снова уснет. Так оно и бывало.
Расслабляться, когда захочется, Вике с Никой никто теперь не мешал. Мать через год после Викиного возвращения из столиц ушла в мир иной, а отец, не переживший и полгода траура, тоже ушел. В мир другой женщины. Таким образом, большая трехкомнатная квартира целиком оказалась в Викином и Никином распоряжении, что дало Вике утраченную было (в сравнении с неподконтрольным студенческим бытием) возможность впадать время от времени в какие-нибудь окололюбовные романы. И она даже начала подумывать об «уж замуж невтерпеж».
Но тут случилась закавыка: в общении со своими ровесниками Вике почти сразу становилось скучно. А впрочем, ей и всегда почему-то казалось, что мужчины, в отличие от женщин, взрослеют, умнеют и одухотворяются гораздо позже, годам примерно к сорока. Только тогда они и начинают стоить того, чтобы взирать на них снизу вверх, как и положено девушке, – с чувством глубокого и полного уважения.
На ровесников же ей все время приходилось смотреть сверху. А о том, что она просто создана для того, чтобы подчиняться и служить, никому из ее партнеров и в голову не приходило. Ибо впечатление Вика производила совершенно обратное: она казалась независимой, самодостаточной и весьма успешной. Поэтому липли к ней, по большей части, мужчинки жалконькие, замученные кто рабочими проблемами, кто алкоголем, а кто и, как водится, женами. Сил у них хватало только на то, чтобы принести бутылочку, склонить «тонкую» Викину душу к жалости и затащить бодрое Викино тело в постель.
Неудивительно поэтому, что жалостливая Вика почти всегда оказывалась со своими «героями» сначала в постели, а уж потом начинала думать, во что это она опять вляпалась. Зато, если (в зависимости от произведенного на нее впечатления) она в кого-то из своих «героев» влюблялась, она с легкостью тут же прощала этим жалким плаксам и их комплексы, и интеллектуальную недоразвитость, и неумение общаться посредством душ.
Но прощала не навсегда. И более того – очень ненадолго. Ибо в перерывах между постелями и бутылками (да и в постели, впрочем, тоже) ей всегда хотелось поговорить. И не о дырах в чужом семейном бюджете или детских болезнях, а о чем-нибудь не бытовом, возвышенном и вечном.
И Вика просто-таки начинала умирать от казавшегося ей просто тотальным дефицита окрыляющего душу общения. Такого, когда говоришь и чувствуешь, что твои слова достигают не только ушей, но и мозгов собеседника, который в каждой твоей фразе угадывает тот именно смысл, который ты в нее вкладываешь. И чтобы после беседы возникало такое неземное ощущение, что ты не только сама вербально и душевно отдалась, но и получила нечто большое, теплое и нужное взамен. И чтобы совершился таким образом круговорот энергии в процессе коммуникации. И чтобы это было то самое общение, которое, кажется, французский умник Монтень назвал главным сокровищем в жизни человека. И женщины, надо полагать.
Честно говоря, уверяла себя Вика, она бы с удовольствием поменяла на такое «неземное» общение любой самый улетный физиологический оргазм. Тогда она еще не подозревала, что такое, сексуально не отягощенное общение возможно разве лишь с самим Создателем… Ну, да Он ей и судья…
***
И вдруг в Г. откуда ни возьмись появился Гарри, который взялся общаться с Викой именно так, как она об этом мечтала: в свободное от командировочных дел время он выслушивал периодически обессилевавшую от недостатка энергетических инъекций Вику с такой внимательной искренностью и неподдельным (Вика, по крайней мере, не замечала никакой подделки) интересом, что, естественно, выходило, что очень скоро он знал о ней гораздо больше, чем она о нем.
Причем, Гарри, что было особенно приятно Вике, не просто ее выслушивал, он всегда все об-суж-дал, допрашивал о деталях и делал из ее дурацкой жизни какие-нибудь неожиданные выводы. А говорить с ним можно было, как с лучшей студенческой подружкой или случайным вагонным попутчиком, обо всем подряд! Равно о бытовом, и о вечном… Кроме того Гарри был на десяток лет старше Вики, и она иногда с радостью чувствовала себя рядом с ним полной дурой. И длилась вся эта благодать уже целых семь лет. С очень большими, правда, промежутками…
В сущности, если разобраться, Вика бессовестно эксплуатировала Гарри, но он никогда не жаловался и не только не избегал общения с Викой, но каждый раз к нему с большой охотой устремлялся. То ли из адекватного Викиному отношения к ней – из-за того же энергетического дефицита в его повседневной жизни, то ли от скуки гостиничных вечеров и вытекающего из командировочной жизни стремления к тарелке свежего домашнего борща.
…Раздумывая обо всем вышеизложенном, Вика вошла в ванную
и уставилась в зеркало, прикидывая, успеет ли до прихода Гарри нарисовать себе лицо гораздо более красивой, чем она сама себя считала, женщины. Ее отдыхающая от гнета косметики утренняя физиономия никого, как полагала Вика, не могла порадовать, кроме разве что шестилетней Анны, которая, впрочем, еще спала, выставив из-под одеяла круглую попку в белых трусиках.
Вика скептически изучила в зеркале свое увядающее отражение и решила, что сойдет и так – приятно побеседовать с Гарри вполне можно было и без макияжа.
II
С Гавриилом Данелией Вика познакомилась в местном театре в трепетный для него (театра, разумеется) момент. Решался вопрос почти гамлетовский: быть или не быть спектаклю театра на всероссийском фестивале, который (поскольку это было еще самое начало восьмидесятых) должен был прославлять героический образ рабочего человека на современной ему сцене.
Спектакль местного театра тематике фестиваля не очень-то соответствовал. Героический образ там был, но человек был не рабочий. Скорее, работник, притом партийный и довольно высокого ранга, что не мешало ему быть весьма и весьма положительным. Гораздо положительнее, чем все другие герои – тоже партработники-аппаратчики и тоже очень неплохие. В те времена это было нормальным явлением и в литературе, и на сцене.
Впрочем, героическая рабочая личность в спектакле тоже присутствовала, но – исключительно за сценой. О ней много говорили, даже передавали по трансляции ее мужественный голос, но на сцене эта рабочая личность так ни разу и не появлялась, совершая свои трудовые подвиги скрыто и ненавязчиво.
Таким образом, надо было решить сразу две проблемы: совместим ли описанный спектакль с тематикой фестиваля, и если – да, то соответствует ли его идейно-художественный уровень уровню фестиваля. Решить эти проблемы и пригласили критика Данелию из Москвы. Впрочем, главный режиссер театра, он же отец (или мать?) спектакля не очень волновался. Вернее, он волновался, но лишь до тех пор, пока Москва не дала добро на приезд в Г. своего человека. Ну, а раз уж критик едет в Г., то и спектакль автоматически едет на фестиваль.
В общем, Данелия должен был спектакль смотреть и обсуждать, а Вика это событие в своей газетке освещать, если результат обсуждения окажется для театра положительным. В положительности же результата Вику заверила завлит театра Длинная Ляля – Викина, по рабочей необходимости, большая приятельница. Ляле немного не хватало образования, и поэтому она высоко ценила свою дружбу с Викой, полагая, что она дает ей возможность расти над собой.
Смотреть спектакль в очередной раз Вика не собиралась. Она решила познакомиться с критиком до его начала, уговориться об интервью, а потом до обсуждения отсидеться в Лялином кабинетике.
***
Лялю и критика Вика обнаружила в фойе. Принаряженная по случаю московского гостя, изящно гарцующая на высоченных каблуках, Ляля радушно и свысока изгибалась над Данелией, стараясь от имени театра произвести на него благоприятное впечатление.
Вика осталась стоять на месте, ожидая, когда они, совершив круг почета по фойе и отдав дань фотографиям местных артистов, сами подойдут к ней.
А поскольку смотреть ей тут больше было особенно не на что, она издалека разглядывала московского гостя. Вика увидела, к примеру, что внешность Данелии находится в некотором противоречии с фамилией: признаков предполагаемого южного темперамента не обнаруживалось. Походка его была медлительной, плавной и лениво-спокойной.
Похоже было, что гость знает себе цену, и эта цена – высока. А когда Ляля с гостем были уже на подходе, это впечатление подтвердилось и выражением лица гостя: оно было настолько отстраненным и иронично равнодушным, что необходимая к случаю улыбка выглядела на нем не совсем уместной.
Однако не улыбаться он не мог. Ладно бы одна Ляля, но и Вика тоже смотрела на него сверху.
– А я-то всегда думал, что у меня хороший рост. Где вас выращивали, девочки? – Голос гостя оказался под стать внешности: с характерной московской оттяжечкой, мягкой ленью и легкой иронией.
– Это все только наши каблуки, – Ляля говорила шутливо, но как бы и оправдываясь. Испугалась, видно, бедненькая, что обидела гостя своим ростом. И Вика, едва скрывая раздражение Лялиным неуместным оправданием, сказала:
– Нас выращивали в Г., а наши каблука на проклятом Западе. И вы должны испытывать восторг, стоя рядом с нами.
– А я и испытываю, – сказал Данелия, – и в подтверждение предлагаю составить мне компанию на спектакле.
Ляля, как тут же выяснилось, принуждена была смотреть спектакль вместе с критиком по долгу службы, и Вике ничего не оставалось, как присоединиться к ним. Не сидеть же весь вечер одной в Лялином кабинете.
В антракте Данелию перехватил главреж. Очевидно, с целью дальнейшего охмурения. А Вику Ляля утащила в свой кабинет, где озабоченно спросила:
– У тебя все дома?
– В смысле? – Вика собралась обидеться.
– Да не в голове, дура. А дома, ну, в квартире.
– А что?
– Да ты понимаешь, мне главный тонко намекнул Данелию попасти: ну, там накормить, напоить. Смотри, – Ляля раскрыла шкаф, – я винища прикупила, он сухое любит, я тонко выяснила. А повести его некуда.
– Как некуда? А к тебе?
– Понимаешь, – Ляля замялась, – если бы просто посидеть-потрепаться, можно бы и ко мне. А мне бы его еще на ночь пристроить. У тебя же есть свободная комната, а у меня Вова ревнивый.
Вова был очередной Лялин жених, который бы, понятное дело, в такую тонкую театральную ситуацию не врубился.
– Постой, а почему это ему ночевать негде? – изумилась Вика. – Не слабо вы московских критиков принимаете!
– Да это все гребаная администрация! – Ляля любила «ясные» выражения, считая, что ей, как завлиту, все пласты родного языка должны быть и понятны, и близки. – Не смогли пробить ему одноместный номер. Вернее, пробили, но с завтрашнего дня. А он уперся. Лучше, говорит, я у вас в кабинете переночую. А то я знаю, говорит, как это бывает: въеду в двухместный и там и останусь. А мне главный, знаешь, какую обструкцию может устроить?! Зато ты бы и интервью у него дома взяла, чтобы не торчать тут до ночи.
Это было соблазнительно, и Вика принялась звонить домой. Ника был уже дома, один, будущим гостям и связанной с ними выпивке обрадовался и сказал, что, по его скромным подсчетам, отец, который иногда забегал проверить, не шалят ли великовозрастные дети, сегодня не должен появиться.
***
Полдела было сделано, осталось лишь «уговорить принцессу», то бишь Данелию. А что Ляля будет делать, если Данелия не согласится ночевать в незнакомом доме, поинтересовалась Вика.
– А куда он денется! Посмотри, какие мы с тобой забойные девки! (В Лялином кабинете висело большое зеркало.) Ну, а если не согласится, у меня все равно совесть будет чиста. А он, дурак, пусть тогда спит здесь, с пыльными пьесами. Сдвину ему вот эти кресла…
Но сдвинуть Ляля ничего не успела – прозвенел третий звонок, и они помчались в зал.
– Ну вот, Гавриил Александрович, – затарахтела Ляля, усевшись рядом с критиком. – Мы с Викой обсудили, как бы не покидать вас до самого утра.
Брови Данелии медленно всползли и поместились где-то посередине лба.
– Вы что же, Ляля, собрались переночевать со мной в вашем замечательном кабинете?
– Хуже, то есть лучше, – ответила Ляля, и, подмигнув Вике, быстро зашептала ему на ухо. А поскольку она шептала про Вику, то он на Вику и смотрел, легонько ухмыляясь в аккуратные усики…
Обсуждение спектакля прошло на высоком дипломатическом уровне. Данелия был изысканно корректен, отыскал в спектакле неоспоримые достоинства, а о недостатках сообщил так, как будто они были его собственные – и никого не обидел.
Вика слушала и изумлялась про себя его не наигранной внешней искренности, с удивлением вспоминая, как они только что, сидя в зале, потихоньку от Ляли посмеивались над многими несуразицами и спектакля, и пьесы, и даже пихали незаметно друг дружку в бок. Тогда-то Вику в первый раз и поразила в самое сердце эта их с Данелией согласная синхронность восприятия, этот моментально возникший между ними сенсорный контакт, в котором примерно к середине второго действия и слова стали необязательны.
***
Поэтому, когда Данелия в заключение пожелал спектаклю успехов на фестивале, Вика так расстроилась и разозлилась, что, едва они вышли из театра, тут же, язвительно хихикнув, спросила, когда же он был действительно искренен: с ней в зале или с актерами на обсуждении?
– Это вопрос не для улицы! – вдруг ледяным тоном отрезал Данелия. – Вы же неглупая девушка, Вика, неужели не понимаете?
– А о чем с вами, Гавриил Александрович, можно говорить на улице? – беспокойно закокетничала Ляля, как бы испугавшись возможной ссоры.
– Да вот хотя бы о погоде. И кстати… – Он выразительно развел сразу оба локтя, предлагая им обеим посильную мужскую помощь в преодолении погодных условий. Лялина тяжелая сумка выразительно грюкнула при этом на его, ближайшем к Вике плече. Помощь действительно была кстати, ибо вокруг заметал и буранил конец ноября, а льдистая после недавней оттепели земля так и звала с размаху треснуться о нее, скажем, затылком.
Ляля тут же с готовностью уцепилась за Данелию, а Вика, лелея нанесенную и непонятную пока еще обиду, помешкала, локтя как бы не заметив. Так бы она и мешкала до самого дома, если бы не высокие каблуки, не приспособленные проклятым Западом к сибирскому гололеду. Каблуки подвели, и Данелия едва успел свободной рукой ухватить ее за локоть, не уронив при этом сумки.
– Вот видите, – ответил он на ее вынужденное «спасибо», – не стоит так необдуманно обижаться в условиях гололеда.
***
Когда Ника распахнул дверь, замерзших и голодных театралов с порога обдало теплым духом жаренной на подсолнечном масле картошки и уютным Никиным басом, очень располагавшим к тому, чтобы прямо тут же, в прихожей, разлить по первой.
Ляля привычно закокетничала с Никой, и они пошли на кухню дожаривать картошку и резать Лялин еженедельный паек – колбасу по госцене из театрального буфета. А Вика пока повела Данелию в гостиную, усадила в кресло перед телевизором и попросила минутку поскучать.
– Я с удовольствием поскучаю, – сказал гость, – если вы не станете включать верхнего света и не сочтете за трудность согреть мне бокал вина. Я не люблю яркого света, – ответил он на вопросительный Викин взгляд.
– Я тоже, – пробормотала Вика, ощутив, что контакт, кажется, снова возникает.
– И все же почему вы так гнусно оборвали меня на улице? – спросила Вика, когда они синхронно отхлебнули из своих бокалов подслащенное горячее каберне.
– А вы разве не поняли?
Вика помотала головой и отхлебнула еще – для храбрости.
– Вы обвинили меня в лицемерии, а сами совершили маленькое предательство…
Вика, кажется, поняла и еще яростней замотала головой. Но он жестко продолжал:
– Мою реакцию на спектакль видели вы одна, я вам как бы доверился, а вы – такой бестактный вопрос, и при Ляле, – и он тоном отодвинул Лялю на такое от них двоих расстояние, что Вика чуть не разорвалась на неравные половинки: от гордости за сопричастность к нему, с одной стороны; и от некоторой «корпоративной» обиды за Лялю, с другой.
– Но ведь Ляля своя, в Лялю как в гроб, дальше не пойдет, – несвязно забормотала Вика.
– Да причем здесь «пойдет-не-пойдет», – поморщился Данелия.
– Дело-то вовсе не в Ляле, а в вас. Для Ляли все это вообще не имеет значения. Да вы и сами это знаете.
– Я-то знаю, – оторопела Вика. – А откуда знаете вы?
Он вместо ответа как-то непонятно усмехнулся, а у Вики вдруг аж голову повело – такая нахлынула на нее волна доброжелательного, но с легчайшим оттенком иронии понимания. Вику этой волной чуть не сшибло с ног, и она даже присела на низенький столик рядом с его креслом.
Ей вдруг показалось, что он знает все про ее нескладную жизнь. А чего еще не успел узнать, она была готова тотчас же ему выложить. И как она полгода кряду рыдала за престарелым письменным столом, оплакивая свою студенческую Москву; как недостает друзей, раскиданных распределением по нашей необъятной стране; и как иногда кажется, что она запросто может сойти с ума от того, что не с кем поделиться тем, что у нее случается внутри…
Но Викин душевный стриптиз отложила на неопределенное будущее всунувшаяся в темную комнату Лялина лихая физиономия, изрядно похорошевшая и повеселевшая от первых рюмок. Потом, в прямой пропорции к выпитому, она будет становиться сначала обиженной, потом ожесточенной, а уж совсем потом – агрессивно злой. И Нике срочно придется сажать Лялю в такси, громко, чтобы услышал шофер, запоминать номер машины, чтобы «расписную» Лялю, не дай Бог, куда-нибудь не увезли…
– Вы знаете, Гавриил Александрович, и ты моя маленькая птичка, что мы с Никой собрались на … – Ляля кое-как успела проглотить любимое «ясное» словцо и исправилась, – я хотела сказать – за стол. Вы нам компанию не составите?
– Отчего же? – Данелия допил каплю вина из бокала и поднялся навстречу Ляле, которая, ухватив его за руку, повела прочь из комнаты.
– А вы не позволите называть вас за столом Гавриком или Гаврюшей, а то у меня уже сейчас язык заплетается. Как вас друзья называют? – тарахтела Ляля.
– По-разному, – ответил Данелия, – но вашему языку удобнее всего, очевидно, будет «Гарик». Это самое короткое, что я могу вам предложить.
– Тогда я буду называть вас еще короче, если вы не возражаете – Гарри. По ассоциации со «Степным волком» (сноска – роман Генриха Гессе), которого вы мне почему-то сильно напоминаете, – сказала Вика.
– Каким еще волком, твою мать?! – рассердилась Ляля.
– Я не возражаю, – сказал Данелия, а глазами как будто шепнул: «Бедная, бедная Вика!».
***
Стол был обставлен разномастными стульями и табуретками и накрыт аскетически просто, но аппетитно: посредине благоухала сковорода «фирменно» пожаренного Никой картофеля, Лялина колбаса, хлеб и помидоры.
– Ну, давайте разгоним радиацию и увеличим количество эритроцитов в крови, – сказала Ляля, протягивая Нике для разлива очередную бутылку «Каберне».
– Это что же – тост такой? – беспредельно удивился Данелия.
– Ну что вы, Гарик, обижаете, – сказала Ляля. – Это в наших магазинах так «Каберне» рекламируют.
– Тогда давайте выпьем за рекламу, – Ника устал держать бокал на весу, он не любил тостов, предпочитая выпивать без лишних слов. И выпил.
– Напрасно вы так торопитесь, Ника, – с сожалением сказал Данелия. – Первый тост даже в чисто мужских компаниях настоящие мужчины пьют за прекрасных дам.
Это было не Бог весть какое откровение, но для «прекрасных дам» – неожиданно и непривычно. В Лялиной, театральной, и Викиной, газетной (куда ее частенько приглашали, а школьные бабские посиделки вообще были не в счет), компаниях о прекрасных дамах, если и вспоминали, то значительно позже, иногда уже совсем к концу. И то лишь в тех случаях, когда между кем-нибудь из присутствующих намечалась связь или когда в компании появлялась свежая и недурная собой девица.
– Гарик, родной, позвольте я вас за это облобызаю! —
Длинная Ляля перегнулась через стол, рискуя свалиться в жареную картошку.
Данелия протянул руку, твердо придержал склонившуюся Лялю и сказал:
– Облобызаете после, Ляля, когда будете где-нибудь поблизости, – Ляля нетвердо села на стул, а Данелия, обведя всех троих смеющимися глазами, спросил:
– Что, действительно так плохо в Г. с настоящими мужчинами?
Ляля притворно всхлипнуда, а Ника приосанился, налил себе еще вне очереди, поставил бокал на согнутый локоть, поднял его зубами и, запрокинув голову, опорожнил одним неслабым глотком.
– Ну, вот и молодец, – Данелия похлопал Нику по плечу, а Вике вновь послышалось: «Бедная, бедная Вика!».
– А интервью? – вдруг встрепенулась Ляля. – Вика, ты что, забыла?
– Ничего я не забыла, – Вика ощущала себя бедной, и Ляля вдруг стала раздражать ее. – Мы с Гарри уже наговорились.
– Нет-нет, Вика, Ляля права, – не согласился Данелия. – Пусть и Ляля тоже послушает мое настоящее мнение о спектакле. Распространяться об этом она, я думаю, не будет, ведь это же спектакль ее шефа…
– Мэтра, – пьяно вставила Ляля.
– …с которым ей еще работать, – закончил Данелия.
– Вот именно, Гарик! – Ляля задрала указательный палец к потолку, как бы восхищаясь прозорливостью Данелии.
– А этот спектакль, девочки, – мягко, как добрый учитель, сказал Данелия, – ни по большому, ни по малому счету никакой критики, конечно же, не выдерживает. Но, по еще большему счету, я думаю, плохи сами эти фестивали, которые, прикрываясь якобы высокой идеей, демонстрируют нашу посредственность. Но отменить фестивали не в моих, да и не в ваших силах, – Данелия сделал паузу и коротко, но внимательно взглянул на Вику. Да и, честно говоря, смотреть тут было больше не на кого. Из гостиной звучала музыка.
***
Ника с Лялей, утомившись длинной речью, выскочили из комнаты.
– Вы, кажется, хотите сказать, Вика, что мне лучше бы в этом не участвовать? Но, увы, это мой способ зарабатывать деньги. А если я встану в позу, как вы, я вижу, хотите мне предложить, то меня просто выкинут из системы. Конформизм, конечно… Но что поделаешь, я ничего не умею вне театра… Как же приятно, что в вашем доме звучат «Битлз», – неожиданно переключился он. – Пойдемте присоединимся.
Ляля в одиночестве пыталась нечто плясать, Ника силился не уснуть в кресле – было очень поздно. Вика с Данелией рядком сидели на диване и слушали молча. И Вика вдруг с радостным удивлением ощутила, что чувствует себя примерно так, как будто она только что провела с этим полузнакомым мужчиной бурную и вдохновенную ночь любви! Но только к ее внезапной радости, показалось ей, почему-то примешивалась и легкая грусть…
Наутро, а вернее ближе к обеду, когда Вика уже успела написать и отнести в редакцию (в школе у нее это был как раз так называемый «методический» день) бравурную заметку о первом и скором выходе местного театра на российскую арену, в которую элегантно вкрапливались высказывания Данелии, позвонила счастливая Ляля. К своей благодарности за блестящий прием и комфортабельный ночлег критика Данелии она присовокупила и признательность своего «мэтра». А Данелия, сообщила Ляля, без административных заминок вселился в одноместный номер и передавал Вике привет. А впрочем, он сам тебе, наверно, позвонит, поскольку взял у меня все твои телефоны. Я говорила тебе, что мы с тобой забойные девки.
Почти сразу позвонил и Данелия. Он предложил Вике составить ему, как вчера, компанию на спектакль другого театра. Вика соблюла свое женское достоинство, покобенилась для приличия, но затем, как бы вспомнив о давно обещанной другому театру рецензии, дала согласие.
Нет смысла подробно описывать последующие вечера. Они были одинаковы: спектакль, медленная прогулка из театра по успокоившемуся ноябрю со славным тихим морозцем и рождественским снежком – и ах, беседы! Начинались они, как правило, с просмотренных спектаклей, а потом переходили к литературе: сколько тут было названо общих любимых авторов, полузапрещеных тогда, элитарных… Еще говорили о жизни вообще и о Викиной (да, больше говорили именно о Викиной), в частности. Словом, хорошее это было однообразие, Вика согласна была бы прожить в нем всю оставшуюся жизнь.
Но командировка у Данелии неизбежно заканчивалась. И вот он уже от всей души благодарил Вику за ее бескорыстное гостеприимство, за потраченное на него время, за чудесное общение, совершенно неожиданное для него в Г. А она в ответ говорила, что уж она-то знает, как скучно бывает командировочному человеку по вечерам в чужом городе. А что касается потраченного времени, то для нее это вовсе не трата, а скорее – приобретение, за что ему от нее большое пионерское спасибо. И Данелия отбыл в аэропорт.
***
А поскольку как раз наступал вечер, время, когда они с Данелией во все предыдущие дни (а было-то их всего три – тьфу, наплевать и забыть!) шли в театр, то Вика в театр и пошла. К Длинной Ляле.
– Ляля, – сказала Вика, закурив сигарету, – что-то мне очень сильно хочется напиться. А тебе?
– Давай, – согласилась Ляля. – А где?
– Пошли ко мне, – сказала Вика, – авось отец сегодня не нарисуется.
И они пошли, взяв по пути сколько надо бутылок «Каберне», от чего Вика тут же затосковала:
– Как надоело, – сказала она, – расставаться с хорошими людьми…
– Да, мне тоже Данелии будет не хватать, – разделила Викину печаль Ляля. – Так надоело наше Г.-ское жлобье! Так вот и живешь от критика до критика, от разовика до разовика, – Ляля имела в виду заезжавших на одну постановку режиссеров.
Ключи от квартиры позвякивали где-то глубоко на дне сумки, и Вика, слыша за дверью мужские голоса, постучала – звонок давно и упорно не работал. Голоса смолкли, зато послышался отдаленный, но весьма характерный перезвон стекла, и через некоторую паузу дверь распахнулась.
– Ф-фу! – облегченно выдохнул перегаром Ника. – А мы уж думали – отец!
Из комнаты со смиренным облегчением выползали Шурик и Юрик, Никины друзья-собутыльники. А впрочем, общие друзья. Так уж повелось с тех пор, как Вика с Никой стали жить вдвоем. Выгонять Никиных друзей Вика как бы не имела права – квартира-то общая. Но, имея статус старшей сестры, иногда выражала недовольство и разгоняла-таки Никины мальчишники. Но иной раз к ним, если честно, и присоединялась, поскольку на разгон выпивающих «сопляков» требовались кое-какие силы, а черпать их Вике было как бы неоткуда.
– Ты не возражаешь, – спросил Ника, кивнув на Шурика с Юриком, – к нам присоединиться?
– Сегодня не возражаю, – сказала Вика и погремела сумкой.
– Я же всегда говорю, что Вика – человек! – радостно сказал Шурик.
– Наш человек! – присовокупил Юрик, восхищенно глядя на сумку.
Выпили безо всяких тостов раз, другой и третий. И завелся душевнейший разговор о том, кто, когда и сколько, и с кем, и как ходили к таксистам, и как мальчики попадали в вытрезвитель, и как однажды суровая Вика вылила остатки в раковину, чтобы не перепить, и как… Бог знает, до чего еще довспоминались бы, если бы Ника вдруг не возопил:
– А кстати! – он даже пристукнул кулаком по столу. – Где наш друг Данелия? Почему он не с нами в этом час?!
– Наш друг Данелия в этот час уже вовсю летит над нашей необъятной Родиной, – пояснила Вика.
– А почему мы не попрощались? – обиделся Ника. – Давайте тогда хоть выпьем за него – за мягкую посадку! Вот такой мужик! – Ника показал Шурику и Юрику, какой именно.
За это даже чокнулись, и вдруг раздался стук в дверь.
– Отец! – прошипел Ника. – Убирай со стола компромат! – И пошел на цыпочках открывать.
Все напряглись, стараясь протрезветь, и засуетились тихо, убирая.
– Отбой! – заорал Ника из прихожей. – Вика! Иди сюда, ты сдохнешь от удивленья!
Вика вышла и действительно сдохла. В дверях стоял Данелия с большой черной сумкой в руках и как-то странно улыбался.
– Гарри! – сказала Вика. – Вы опоздали на самолет?
– Нет, – ответил Гарри саркастически, – это самолет опаздывает. И очень сильно – до утра. И мне ничего не остается, как вновь просить у вас прибежища, ибо номер я сдал.
Набежавшая Ляля, повизгивая, принялась раздевать Данелию, потащила его на кухню, где все уже снова стояло и даже было разлито по рюмкам.
– Штраф-ну-ю! Штраф-ну-ю! – скандировали Шурик и Юрик, и Ника налил Данелии полный стакан вина.
– А следующий мы вам согреем, – шепнула Вика Данелии.
– Тост «за мягкую посадку» временно отменяется. Пьем за своевременный отлет! – провозгласил Ника.
О чем говорили дальше, думаем, понятно. Правильно, о беспорядках в аэрофлоте, о нехватке керосина, о том, кто, когда, где, сколько и с кем сидел, о боковом ветре, о взрывах двигателей при взлете и посадке, об ожидании багажа, более длинном подчас, чем сам полет, об авариях и угонах самолетов, об очередях за авиабилетами и прочим дефицитом, о том, что в наших магазинах ничего не купишь, о том, какой у нас вообще везде бардак и закончили каким-то культовым антисоветским анекдотом, который с удовольствием и без купюр рассказала Ляля.
***
Однако чем шумней становилось за столом, чем меньше оставалось непочатых бутылок, тем, как ни странно, больше мрачнел Данелия. Он уже несколько раз вставал и уходил в гостиную к телевизору, откуда бывал с позором возвращаем Никой, Викой или Лялей, а то и сам возвращался, когда там становилось больше трех. Он явно искал уединения, но этого уже никто не мог понять. И Вика тоже. Она вдруг обнаружила, что ему некомфортно даже с ней вдвоем, что разговор у них не склеивается, и никакого контакта не возникает.
Данелия был напрочь выключен из ситуации. И, несмотря на подогретое вино, включиться в нее не хотел или не мог. Да и сама ситуация Данелию как бы отвергала. Ведь ему положено было сидеть в самолете и стремиться в свой дом, а не сидеть в чужом доме и стремиться в самолет.
Вика предложила разогнать компанию, стала искать какую-то свою вину в происходящем. Словом, ударилась в комплексы.
– Перестаньте, Вика, – поморщился Данелия, – вы тут совсем ни при чем.
– Ах, уже и я ни при чем! – спьяну вспылила Вика, пошла и села на колени к Шурику и на Данелию как бы больше не обращала внимания.
А потом была какая-то музыка – нет, не «Битлз», какие-то танцы, кто-то кого-то обнимал и целовал, Ляля уходила в другую комнату с Юриком и быстро оттуда возвращалась, а затем вдруг оказалось, что все уже разошлись, Ника спит на неразобранной постели в своей комнате, Данелия уложен в Викиной, двери их комнат плотно прикрыты, а сама Вика автоматически моет посуду, чтобы утром проснуться и сделать вид, что накануне в этой кухне ничего не происходило.
Вика, пошатываясь, мыла посуду, а внутри нее в это время происходило нечто странное: она обидела Данелию, вдруг пришло ей в голову, и должна перед ним извиниться. Он, конечно, вел себя как самый размахровый эгоист. Вместо уместной благодарности выставлял напоказ свое настроение и унижал этим ее, Вику. (Вика уже забыла, что Данелия честно искал уединения.) Но и она хороша – взяла и обиделась на человека, обиженного аэрофлотом. Да еще и благодарность ей подавай. Кретинка! А вдруг он сейчас лежит там, печальный и одинокий, и ждет ее? Вика аж поперхнулась от такого оборота мыслей – она как раз выпила остатки вина из чьего-то бокала.
В комнате было темно и тихо. Вику штормило, но это была ее комната и ее постель, до которой она могла доползти в любом состоянии. Тем более сейчас, когда ее ждал (это она так думала) Данелия. Она присела на край постели, поежилась от холода (комната была балконная и ветренно-вьюжная, а на ней была одна лишь рубашечка) и потрогала его за плечо, представляя, как сейчас юркнет к нему под одеяло и умрет от тепла и ласки.
– Что это вы такое себе придумали, Вика? – сказал Данелия совсем не сонно и осторожно убрал ее руку со своего плеча. – Идите отдыхать. Все было хорошо. А сейчас нужно спать. Спокойной ночи, Вика.
– Ну, ладно, если вам от этого будет спокойно, – и Вика гордо, как ей показалось, вышла из комнаты.
Упала на диван и укусила подушку. Наутро, когда Вика проснулась, Данелии уже не было.
III
Вика отошла от зеркала, заглянула еще раз в комнату – Анна и не думала просыпаться, – зачем-то затянула потуже пояс длинного черного халата и пошла варить кофе. Ощущение стыда, навеянное было воспоминаниями, быстренько улетучилось (это было давно и неправда!), и она подумала беззлобно, помешивая кофе: «Ах, Гарри, Гарри, педик вы несчастный!»
…Это простое объяснение «стыдной ситуации» они с Лялей изобрели тогда же, семь лет назад. Рассказывать об этом Вике было стыдно, но и не рассказать – хотя бы Ляле – было нельзя, чтобы не умереть от горечи за свою «поруганную» честь.
– Уж можешь мне поверить, я их (имелось ввиду – педиков) знаю, – безапелляционно заявила Ляля. – Ты ему нравилась, это козе было понятно. А чтобы мужик, да еще в подпитии, не захотел женщину, тем более – тебя, ты меня извини. Или я дура, или весь мир сошел с ума!
Впрочем, в «ситуацию» был посвящен и Ника, который за свою склонность к пространным демагогическим рассуждениям практически на все темы слыл почему-то… психологом.
– Поня-атно! – протянул Ника иронически. – Больше вы ни до чего не додумались? Бабу не захотел – и сразу педик? Ты что, сексбомба Мерилин, что ли, чтобы тебя все хотели? А что же он тогда ко мне ни разу не пристал? Я-то вон какой мужественный, – изгалялся Ника. – А Юрик? Чем бы он твоему Данелии не партнер? Если уж Данелия – педик, то сами вы тогда с Лялей – лесбиянки несчастные!
Ника, казалось, не на шутку обиделся за Данелию. А Вика в ответ собралась не на шутку обидеться на Нику, хотя и сознавала самокритично, что она и вправду никакая не Мерилин.
– Ну, ладно, вытащи камень из-за пазухи, дай лучше докурить, сейчас я тебе серьезно скажу, – Ника глубокомысленно сделал несколько затяжек и вернул Вике сигарету. – Помнишь, я в десятом классе в Наташку Дымову был влюблен? Так ведь я ее не поцеловал ни разу! Знаешь, почему? Вот приду в ней, родителей дома нет, а мы с ней как врубимся, как ты с Данелией про театр, про книжки разговаривать – и все! Как ни пытался от книжек к любви переползти – ничего не вышло.
В результате целоваться она стала с Юриком, а замуж вообще вышла за какого-то спортсмена, который, по-моему, и читать-то толком не умел! Так что тут или беседуй, или целуйся, – заключил Ника. – А то сразу им – педик!
Однако все эти аргументы, несмотря на Никину вдохновенную убежденность, понравились Вике гораздо меньше, чем Лялин вывод. Вывод был занимательнее. Поэтому все же порешили, что Данелия – педик. И Вике сразу стало легче.
А впрочем, особенно тяжело ей и не было, ибо Вика понимала, что она вовсе не влюбилась в Данелию так, как полагается женщине влюбляться в мужчину. Во всяком случае, в других мужчин, которые с ней не беседовали, а целовались, она влюблялась как-то по-другому. Что она вскоре и сделала.
***
На том самом фестивале, на который Данелия благословил местный театр, а Викина газета сочла необходимым ее заслать, Вика влипла в короткий, но бурный любовный роман. И, как оказалось, с последствиями…
– Разве можно называть случайной связь, от которой рождаются дети, – рассудительно сказал Данелия в свой следующий приезд, катя перед собой коляску с очаровательной шестимесячной Анной, которую они вдвоем ежедневно выгуливали в течение месяца – такая длинная у него выдалась командировка.
Подъездные старушки хитро взглядывали на Вику, полагая, что у Анны завелся отец. В чем-то они были правы – на крестного папочку Данелия вполне вытягивал.
О «стыдной ситуации», естественно, не вспоминали – вот не было ее и все тут. К тому же Вика, несмотря на то, что Ляли давно уже не было в Г. – вышла замуж в другой город и от счастья, очевидно, даже не писала – твердо помнила, что Гарри – педик и без особого труда подавляла в себе мимолетное желание прильнуть в его атлетической груди.
А желание, прямо скажем, возникало. То ли Вика была так устроена, то ли таков весь женский род, но все теплеющее чувство душевной близости с Гарри вдруг стало вызывать в Вике желание сближаться с ним дальше, больше и по-другому.
Да и как, впрочем, этому бедному желанию было не возникать, когда Данелия каждый вечер приходил к Вике, как какой-нибудь муж или штатный любовник, приносил с собой что-нибудь из еды и засиживался так допоздна за беседой или телевизионным спортом, что Вике всякий раз казалось странным, что он встает с единственного для сидения в ее единственной комнате (это была уже другая, ее собственная квартира) дивана и уходит в любую позднь, никогда не забывая чмокнуть Вику в щеку на прощанье.
И каждый раз в этот момент Вика тупо обижалась. Но обида была короткой и слабой в сравнении с естественным быстро приходящим сном вечно недосыпающей матери полугодовалого ребенка. Сон прямо-таки сшибал Вику с ног, едва она успевала запереть за Гарри дверь.
Наутро обида забывалась, растворяясь в не надоедающих заботах об Анне, и Вика, хихикая над тазом с пеленками, уверяла себя, что уж нынче вечером ни за что на Гарри не обидится, уйди он от нее хоть за час до начала своего рабочего дня.
Но обида с настойчивой назойливостью кретинки возвращалась каждый раз, как только за Гарри захлопывалась дверь. И это ее – обиды – постоянство, в конце концов, привело к тому, что Вика привыкла к ней, как к родной, и почти перестала обращать на нее внимание.
Наоборот, Вика принялась про себя гордиться исключительной духовностью их с Гарри отношений, в которую, заметим, никто, кроме них двоих, не верил. Уж подъездные-то старушки точно не верили, хоть и не имели возможности застукать Гарри, выходящим из подъезда ранним утром. А впрочем, ранним утром они у подъезда и не сидели, ибо весеннее (да и любое другое) солнце приходило в Викин двор после обеда и разогревало лавочки как раз к тому моменту, когда мимо старушек с непроницаемо-высокомерным видом проходил Гарри.
А еще в этот Гаррин приезд Вика, кажется, поняла причину возникновения между ней и Гарри этого улетного задушевно-духовного общения – энергообмена мыслями, словами и чувствами. Правда, чувства эти были как бы лишены признаков пола – ну и что с того? Зато с Гарри можно было лучше, чем с любой подружкой, в подробностях обсудить такой, например, щекотливый вопрос как «стоит ли ложиться в постель с домогающимся редактором, и во что такая связь может вылиться?» А потом взять да и поговорить, например, о прозе Хулио Кортасара или о вчерашнем спектакле…
Гарри, поняла в результате Вика, стал для нее чем-то вроде духовного брата (или даже отца), а их безудержное общение стало возможным именно и только потому, что оно было редким и нерегулярным. А также потому (это, похоже, и было самым
главным аспектом), что один из собеседников (в данном случае им был Гарри) оказывался на некоторое время как бы вырванным из рутинного контекста повседневности. И никаких привычных вечерних забот, которыми была полна Гаррина семейная жизнь в столице, у Гарри, когда он приезжал в Г., кроме общения с Викой не было…
А значит, размышляла далее Вика, вполне возможно, что и в Г. есть люди, по качеству общения подобные Гарри. Да только никто из них в состоянии свободного от рутинной повседневности полета ей, увы, не встречался…
IV
Ш-ш-ш-ш-ш! – зашипел убегающий кофе. И как назло тут же раздался короткий уверенный звонок в дверь. Вика вздрогнула, выругала себя дурой задумчивой: ведь убегает всегда именно тогда, когда она совсем рядом и вроде бы бдит. Она повернула газовый краник и пошла открывать.
Сначала они заглянули в комнату, и Гарри привычно удивился, как выросла со времени его последней командировки спящая «крестница» Анна, а потом, усевшись на кухне за дымящийся кофе, принялись болтать так по сложившемуся обыкновению не натянуто непринужденно, как будто в последний раз виделись не далее как накануне.
Гарри сходу взялся рассказывать Вике о Париже, в котором недавно побывал – о театрах, людях театра, спектаклях и репертуарной политике «проклятого Запада», а потом все больше задавал вопросы, принуждавшие Вику в подробностях воспроизводить события ее, прошедшей между его приездами жизни.
И Вику уже в который раз в самое сердце поразило это невероятное свойство Гарриной памяти: его умение продолжать полугодовой, скажем, давности беседу как будто бы в точности с того самого момента, на котором она в предыдущий его приезд оборвалась. Гарри помнил не только события и факты из Викиной жизни, но и даже имена всех встреченных им в разные годы в Викином доме людей, а также Викиных коллег по разным ее работам! И даже имя-отчество Викиной школьной директрисы, которую звали аж Эвелиной Вениаминовной, Гарри всякий раз произносил без запинки. А Вика в этих случаях со стыдом осознавала, что не может сходу вспомнить имя единственного Гарриного сына – ровесника, кстати, Анны.
Вика тут же расслабилась и заныла о том, как не состоялся только что минувшим летом лелеемый и предвкушаемый ею праздник души: собрать в Москве, где они с Анной провели одну из отпускных недель, былой студенческий круг и хоть на один вечер, на несколько блаженных часов окунуться в атмосферу безмятежного юного прошлого, пообщаться с однокурсниками, в сравнении с которыми (вернее сказать, в сравнении с воспоминаниями о которых) практически все Викино г.-ское окружение казалось Вике поверхностным, однобоким и тусклым. Все-таки, думала иногда Вика, даже откровенные дураки, осмелившиеся приехать в столицу, интереснее своих собратьев, оставшихся в провинции.
При этом у нее доставало ума понимать, что не стоит по своему ограниченному кругу общения судить обо всем Г., но и вырваться за пределы круга она, особенно с появлением Анны, увы, не могла.
***
Культура и искусство Г. и его окрестностей захватывали и радовали ее лишь год-другой. До тех пор, пока она не проникла на кухню и не увидела там частью пустые, а частью грязноватые кастрюли.
Безусловно, здесь, как везде и всегда, случались исключения, выламывающие щель в частоколе гребенки, которой Вика прочесывала г.-скую богему. Исключения не пеняли на среду, безденежье, обстоятельства и уж тем более на невидящее руководство. Они занимались себе нешумно тем делом, вне которого себя не мыслили и кроме которого ничего не хотели и не могли. И только наличие этих вот исключений и стало со временем единственным, что удерживало Вику в том круге, который она сама для себя очертила. Или очертили ей…
В сущности, к этим исключениям Вика относила и Гарри, который ни разу за прошедшие семь лет не пожаловался, не поныл, не покуксился на собачью свою разъездную работу, когда он был то швец, то жнец, то на дуде игрец: писал пьесы, ставил свои спектакли, оценивал чужие или обучал в разных семинарах режиссерской и актерской профессии молодую и не очень поросль из народа.
«Я сам себе выбрал все это, – объяснил Гарри Вике однажды в самом начале их знакомства, – когда понял, что мечты о своем театре – туфта, что создать театр с нуля, с пресловутой вешалки, мне никто не даст. А брать на себя государственный театр, организованный до меня каким-то дядей, категорически не хотел, потому что знал наперед, чем все это кончится. Сначала долго придется доказывать театральным аборигенам, что ты, хоть и молод, но не верблюд, а потом, вне зависимости от того, докажешь или нет, – все равно сожрут. Это была данность, которую лично я не мог изменить. Но зато нашел в ней себе такой способ существования, в котором я могу позволить себе относительную свободу выбора».
Это снисходительно-спокойное, а внешне даже иронически-высокомерное отношение Гарри к обстоятельствам жизни как к данности всегда очень утешало Вику. Жаль только было, что благотворного заряда гарриного не наигранного оптимизма Вике хватало лишь на какое-то время. Но, к счастью, – Викиному, разумеется, – Гарри приезжал всякий раз, как только она начинала задыхаться…
– Но как вы понимаете, Гарри, – продолжала Вика, – никакого студенческого круга я не собрала. Ну, во-первых, лето и отпуска, а во-вторых, все какие-то нестыковки: один может сегодня, другая – только завтра, пятая – вообще через неделю… Ну, в общем, повстречалась с кем успела, поодиночке. Все мне радовались, а я почему-то ощущала себя в… Г.! Представляете, Гарри, они друг с дружкой даже не общаются! – убивалась Вика. – В одной группе учились, чуть ли не из одной сковороды в общежитии картошку лупили, а теперь зацепились в Москве, живут на одной улице – ведь вы-то понимаете, Гарри, что это значит: в Москве да на одной улице оказаться, – и не встречались лет десять. Пока я не приехала и не свела. Нос к носу. Стыдились, клялись, что уж теперь-то они хотя бы раз в неделю или, на худой конец, в месяц станут встречаться. Искренне так говорили, а я все равно не верила. Не станут. Разве что я стану к ним раз в неделю прилетать из Г. Ха-ха-ха. В общем, Гарри, мне в вашей чертовой Москве, – нарочно грубо заключила Вика, – даже выпить с удовольствием оказалось не с кем!
– Постойте, а где же в это время был я? – напрягся вспоминанием Гарри.
– Не напрягайтесь, Гарри, – остановила его Вика, – мне бы все равно не пришло в голову позвонить вам, потому что Москва у меня связана со студенчеством, а вы, уж не обижайтесь, с Г. Странно, не правда ли?
– Нет, не странно, – ответил Гарри. – Простите за банальность, но действительно всему свое место и время. Да и я в Москве, кажется, больше прописан, чем живу. А что касается выпить, то вы же знаете, что я всегда рад составить вам компанию. Только ведь у вас, наверно, не достанешь… (Был как раз самый разгар талонной системы, а системой «комков» с проклято-западовскими наклейками еще и не пахло.)
– Ну, что вы, Гарри, – возразила Вика. – Пока мы имеем Нику, мы не имеем проблем. Надо только его отловить.
***
Отловить Нику было делом непростым. Он работал в строительном кооперативе и трудился чуть ли не от зари до зари. Иногда даже ночевал на работе, а иногда возвращался к жене полумертвым от усталости или пива – и тут же засыпал до новой зари. Беспробудно.
Поэтому отловить Нику удалось только через три дня – в субботу утром. А поздно вечером Данелия улетал. Поэтому решили сильно не напиваться, исходя из чего и определили Нике литраж. Отдельно и в первую очередь – для сухого (своим вкусам Данелия не изменял), для не сухого и для совсем крепкого, если не окажется выбора.
Данелия доделал к трем часам свои командировочные дела, и они с Викой посиживали в кухне, покуривали и болтали о том, о сем.
Уложенная на тихий час Анна периодически бесцеремонно вмешивалась в их беседу, уверяя, что у нее бессонница, и беспокоясь, не уйдет ли дядя Гарри, если она вдруг уснет. Вика громко строжилась, Гарри давал честное благородное, и успокоенная Анна вернулась в комнату и, кажется, справилась с бессонницей.
Через час пришел обессиленный Ника.
– Одиннадцать точек объехал, – сообщил он. – Все закрыто. Приспичило же вам пить в субботу.
– Мы же не можем пить каждый день, как ты, – резонно заметила Вика.
– Тогда дайте мне что-нибудь в зубы покурить, я немножко передохну и пойду дальше, – Ника не любил останавливаться на недостигнутом. – А кстати, Гарик, тебя я заберу с собой, твоя интернациональная внешность может пригодиться.
Данелия вопросительно взглянул на Вику.
– Нет, – ответила она, – я с вами не пойду. Мы же не предупредили Анну.
И они ушли на промысел, как настоящие мужчины, а она, как настоящая женщина, принялась готовить закуску. Однако примерно через час они вернулись пустые.
– Придется идти через дорогу к тете Паше, – не унывал Ника, – добейте-ка мне еще чирик.
Чирик добили, но у Вики тут же испортилось настроение.
– Я не понимаю, почему меня так унижают, – заныла она. – Почему я не могу выпить с друзьями, когда мне этого хочется, а не когда у них есть в наличии? Почему я должна за какой-то поганый дешевый кир так переплачивать?
– Успокойтесь, Вика, – сказал Данелия. – Согласен, что понять это невозможно, но это данность, и ее не нужно понимать. А тем более тратить на это нервы.
– Сейчас, я успокоюсь и смирюсь.
– Смиряться тоже не надо, – сказал Данелия. – Просто относитесь к данности как к данности. Вот я вам рассказывал вчера, как меня обхамили. А сегодня извинились. На что я сказал: «Вы знаете, я всю жизнь живу в хамстве – привык.» Они как бы успокоились, а я добавил: «Но и своего отношения к нему я не менял.» Поэтому не надо смиряться.
Тут и Ника вернулся с победой, выглядевшей как две (хотя заказывали одну) бутылки «Столичной» по спекулятивной цене – сухого тетя Паша не держала.
Заодно и Анна проснулась. Она пришлепала в кухню, увидела бутылки и обрадовалась:
– Сегодня праздник? Мамочка, ты попьешь, а потом мы будем танцевать?
– Обязательно будем, – пообещала Вика. – А пока можешь пойти погулять.
– А дядя Гарик не уйдет, пока я гуляю? – осведомилась Анна.
Данелия Анне обещал.
***
Первый тост Гарри, как настоящий мужчина, предложил за Вику. Он вдруг впервые за все время их знакомства подробно и красиво признался, как это чудесно, что в Г., куда он так часто приезжает, живет Вика. И как этот факт чрезвычайно скрашивает каждый раз его пребывание в Г.
– А я так думаю, – вдруг очень нагло продолжила Вика, – что вы без конца ездите в Г. исключительно потому, что здесь живу я.
– Что ж, это вполне возможно, – не осмелился возразить Данелия.
Из всей дальнейшей, постепенно пьянеющей беседы следует отметить лишь то, что было также впервые. Гарри, нарушив все правила игры, вдруг ни с того ни с сего размечтался о том, как было бы замечательно перенести весь этот Викин микроэтнос, вместе с Анной и Никой, разумеется, поближе к нему – в Москву или, на худой конец, в ближнее Подмосковье. Создавалось впечатление, что по приезде в Москву он все бросит и тут же этим займется.
Товарищ не понимает, думала Вика, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. И что слагаться слагаемые могут только при определенных условиях. Разве что слагаемые переменят отношение друг к другу и вздумают, скажем, умножаться, делиться, возводиться в степень или извлекать друг из дружки корень. Но тогда они будут уже не слагаемыми, а черт знает чем. А насчет извлечения корня надо будет додумать на трезвую голову.
Вика окончательно запуталась и вообще перестала понимать, что происходит. Потому что Гарри вдруг перехватил в полете Викину руку, что-то подложившую ему на тарелку, и прильнул к ней долгим поцелуем. А потом и вообще этой самой рукой завладел и нежно пожимал ее на своем колене под столом, как бы скрывая эту свою мужскую слабость от Ники, который все равно все видел и смешливо посматривал на Вику, не прерывая, впрочем, беседы, которая не имела никакого отношения к плененной Викиной руке, от Вики как бы отделившейся и жившей своей, посторонней личной жизнью.
Наконец, Ника с братским пониманием на физиономии удалился в комнату, и оттуда тут же заверещал телевизор.
Вика, как бы очнувшись, помотала головой и выдернула свою отдельную руку из Гарриного плена.
– Ну, полно, Гарри, – сказала Вика. – К чему эти сантименты? Ведь у вас в каждом городе, небось, есть такая придурковатая Вика.
Гарри ответил не сразу. Сначала он вернул себе Викину руку, ненадолго прильнул к ней и только тогда ответил:
– Вы можете мне не верить, Вика, но я скажу вам – нет. Ни в одном городе у меня нет никакой, как вы несправедливо выразились, «придурковатой Вики». Вы уникальная женщина, Вика. С вами удивительно приятно общаться. Вы прекрасно рассказываете и в то же самое время умеете слушать. Между прочим, это большая редкость. А еще большая редкость – это, при такой светлой голове, такой замечательно вкусный плов! Но главное – это ваше умение отдаваться общению так, как будто завтра – потоп, – свободной рукой Гарри плеснул в рюмки и провозгласил, – Позвольте мне снова выпить за вас, Вика!
– Да сколько угодно, – ответила Вика несколько рассеянно.
Она слушала и не понимала, о ком он это все? Ведь то, что он наговорил о ней, должна была сказать она. О нем. Кроме плова, разумеется. Интере-есные дела, подумала Вика и с изумлением услышала как бы со стороны свой голос, произносящий буквально следующее:
– А скажите, Гарри, почему мои неисчислимые достоинства никогда не вызывали у вас желания узнать, нет ли у меня каких-нибудь еще? Достоинств, я имею в виду. А вдруг я при моей голове и плове еще и в постели творю чудеса? Может быть, вы педик? Или импотент? – Вика ужаснулась своему цинизму, но остановиться не смогла.
– Ни в каких ваших способностях я не сомневаюсь, Вика, – ни секунды не задумываясь, ответил Гарри, – но и узнавать о них не хочу. Хотя, если честно, узнать иногда очень хотелось. Особенно в мой позапрошлый, кажется, приезд, когда вы почему-то показались мне особенно очаровательной. Я даже запомнил ваш пушистый нежно-розовый свитерок – вы выглядели в нем, как десятиклассница.
– Да, помню, – сказала Вика, – я тогда по уши была влюблена в одного недостойного типа. Вернее, тип в общем-то был вполне достойный, но говорили мы с ним все время как будто бы на разных языках. И не то, чтобы он был так уж глуп. Просто плоскости у нас с ним были разные, да к тому же как бы и паралелльные. А это же так трудно – общаться, ни в одной точке, кроме постели, не пересекаясь. Похоже, только вам я могу полностью и с удовольствием отдаться в беседе, Гарри!
– Да ведь и времени у нас на сексуальные сантименты как-то не выкраивается, – заметил Гарри. – Вот и сейчас – мне пора на самолет… А знаете, каждый раз, собираясь в Г., я боюсь, что больше не застану вас. В том смысле, что вы окажетесь заняты – выйдете замуж или вас из Г. куда-нибудь унесет.
– Не бойтесь, Гарри, – ответила Вика. – Хотя нет, бойтесь, конечно, ибо неисповедимы пути… Правда, если говорить о замужестве, мне все больше сдается, что я – родом из «Ста лет одиночества». Если вы, конечно, понимаете, о чем я говорю, – не удержалась от ехидства Вика.
– Я, конечно же, понимаю, – ответил Данелия, – но до «осени патриарха» вам еще далеко.
– Нет, ну вы посмотрите на них, – раздался сверху покровительственный Никин бас, – он ее держит за руку, а сам все равно свистит о литературе. Ну, ты даешь, Гарик! Я просто балдею от твоей непоследовательности.
– Или от моего постоянства? – уточнил Данелия. – А кстати, ты не подскажешь, который час?
– А кстати, я за этим и заглянул. Хотя по ящику очень неслабого Спилберга показывают. Кое-как оторвался. За пивом, что ли, думаю, смотаться, раз Гарик тут решил навеки поселиться…
– Да нет, – сказал Данелия, – пиво мы прибережем на следующий раз. А сейчас разве что маленький посошок за твою сестру, – и он плеснул в рюмки.
– Я такие посошки не употребляю, – обиделся Ника, – налей-ка мне гуманно, по-человечьи! – И, не доверив Данелии, Ника сам наполнил свою емкость. – За свою сестру я люблю выпить много и с удовольствием.
– Не могу ответить тем же в твой адрес, – сказала Вика. – А ты, если будешь так сильно любить меня, обязательно сопьешься.
– Не каркай, – ласково пробасил Ника, осушив рюмку, – лучше отпусти Гарика, а то он на самолет опоздает.
– И то правда, – сказал Данелия и в последний раз пощекотал аккуратными усиками Викину руку.
***
Потом Данелию повели к такси, Ника, прихватив остатки водки, вызвался провожать его в аэропорт, а Вика вернулась к Анне, требовавшей плясок. Вике плясать не хотелось – хотелось думать. Но Анна висела репьем, пришлось включать музыку и танцевать один долгий танец, после чего Анна в изнеможении свалилась в постель – и моментально уснула.
Вика ей позавидовала, но последовать ее примеру, по крайней мере, до тех пор, пока Гарри не взлетел, не могла.
Она долго и тщательно мыла посуду, потом себя, потом курила и вдруг ее осенило позвонить в аэропорт. Ей ответили, что Гаррин самолет отправляется без задержки – в двадцать три часа по местному времени.
Оставшиеся полчаса Вика тупо пялилась в какую-то умную книжку, а в двадцать три часа напряжение резко спало – взлетел! – она выключила свет и облегченно заснула.
…Разбудил ее звонок в дверь. От испуга Вику сорвало с постели так резко, что потемнело в глазах. Но нет – это на улице было совсем темно. Ночь. Вика впадала в панику от ночных звонков – все равно, дверных или телефонных. Хотя это вполне мог быть Ника, добывший еще бутылку водки и потерявший счет времени.
– Это ты, Ника? – тихонько спросила она, почему-то не заглядывая в глазок.
– Нет, это я, – отозвалась дверь голосом Данелии.
Вика долго не могла нащупать замок, а включить свет в коридоре ей почему-то в голову не приходило.
Увидеть она ничего не успела, потому что, щелкнув замком и сделав шаг назад, чтобы впустить Данелию – а это действительно был он! – тут же в нем и утонула. Упала на пол Гаррина сумка, и Вика захлебнулась его губами. Не хватало воздуха, кружилась голова, в ушах шумело. Ну вот, мы летим вместе, глупо думала она. А Гарри, когда его губы временно освобождались – это Вика утыкалась лицом в его крепкую шею – беспорядочно бормотал:
– Я люблю тебя, Вика, хочу тебя очень… завтра вечером… я не могу лететь сегодня… на завтра билет поменял… хочу тебя очень…
Вика… Гарри… Вика… Гарри… Вика-Вика-Вика… Гарри-Гарри-Гари… Ах!..
***
– Мама, просыпайся уже! Я хочу есть, – сказала Анна.
Вика открыла глаза и обнаружила, что никакого Гарри рядом нет и в помине. А сидит Анна, обложенная куклами, и канючит, что хочет есть.
– Почему ты не в своей постели? – спросила Вика.
– А я всю ночь с тобой проспала! – радостно сообщила Анна.
– Ты почему-то все время с кем-то разговаривала и плакала, и я пришла тебя успокоить. Так незаметно и заснула. Я хочу есть!
– А как же?! – почти простонала Вика.
– Что? – заинтересовалась Анна.
– Ничего, – ответила Вика, – пойду умоюсь.
Но, не дойдя до ванной, Вика зашла в туалет. Закрыла дверь на задвижку (что, заметим, делала крайне редко), уселась на закрытый унитаз, спустила воду и подумала: «Порыдать, что ли?».
Пока она давила слезу, в дверь туалета постучала Анна и строго сказала:
– Мама, выходи скорей, мне туда надо. И я хочу есть!
Ну и ладно, подумала Вика, порыдаю как-нибудь в другой раз.
1990 год