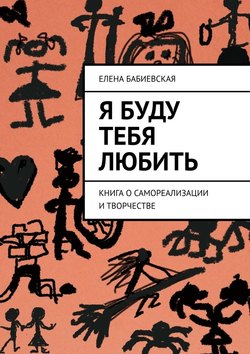Читать книгу Я буду тебя любить. Книга о самореализации и творчестве - Елена Бабиевская - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1. Девочка, которая жила в чулане, рыжая ведьма, мазохистка и другие субличности
Глава 3. До терапии
ОглавлениеРАННЕЕ ДЕТСТВО. ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ ЖИЛА В ЧУЛАНЕ
Шизоидный характер
Она родилась здоровым, спокойным ребенком, и не причиняла особых хлопот ни маме, ни няне. Она была очень хорошенькой, и всех восхищали ее огромные голубые глаза. И младенчество ее могло бы быть (и считалось всегда) вполне безоблачным, если бы не событие, которому никто не придавал особого значения и которое она сама смогла оценить уже во взрослом возрасте. Когда ей было полгода, ей сделали операцию под общим наркозом. Мама не могла находиться в больнице круглосуточно, так что она приходила рано утром, пока девочка спала, и уходила только после ее засыпания. Операция прошла успешно, ее выписали, и все стало вроде бы как раньше.
Но это было единственным вариантом объяснения, к которому мы с ней возвращались много раз в попытках понять, почему она так боялась мира и людей, воспринимала мир враждебным, была застенчивой и очень часто пряталась в своем внутреннем убежище3. Ужас сопровождал ее все детство и большую часть взрослой жизни. Со временем к нему добавились панические атаки и приступы запредельной тревоги. Ее часто называли угрюмой, замкнутой, но на самом деле ей было просто страшно сталкиваться со всем новым, так страшно, что она не могла ни улыбнуться, ни принять это новое как игру или игрушку, чтобы научиться «играть» во взрослую жизнь.
Шизоидный характер
Люди такого типа переживают постоянный страх, часто ужас. Их чувства изолированы и/или подавлены. Могут казаться холодными, лишенными жизни и контакта с собой. Часто – неспособны создавать прочные социальные и интимные контакты, привязываться, доверять кому-либо. Свое «Я» воспринимается как поврежденное, плохо функционирующее, плохое. Другие – как могущественные, непринимающие, угрожающие. Часто – саморазрушающее поведение, ненависть или непринятие собственного Я, ограниченные навыки заботы о себе и самоподдержки, сомнение в своем праве на существование. Предпочитают внутренний мир внешнему, способны строить близкие отношения только с очень ограниченным числом людей. Стивен Джонсон, «Психотерапия характера».
У нее явно присутствовали черты шизоидной личности, но причин она понять никак не могла. Ведь шизоиды обычно растут в атмосфере ненависти, отвержения или просто холода, а ее любили и заботились о ней. Но потом я нашла подтверждение ее теории в литературе.
Переживания ранней болезни ребенка, а особенно раннее помещение в больницу, также могут вызывать истощение привязанности. Ребенок может испытать травму вследствие непостоянства объекта во время этого чувствительного периода развития, связанного с переживанием серьезнейшей боли, вытекающей из неподходящего отношения к нему главного опекуна или других людей. Стивен Джонсон, «Психотерапия характера».
Шизоиды обычно существуют в своем мире, который для них намного безопаснее и интереснее, чем мир вокруг. У нашей героини был свой безопасный и уютный «чулан», а людей вокруг, особенно незнакомых, она воспринимала очень тяжело. Новое вызывало в ней ужас, и она предпочитала прятаться, а не взаимодействовать. Вполне возможно, причиной этого стала операция, послеоперационный период и сама больница как новое враждебное место в целом.
Думаю, помимо резкой смены обстановки и лиц, которые она видела перед собой в больнице, наркоза, который насильно отключил ее от мира, было еще грубое вмешательство в ее тело, отсечение пусть крошечной, но все же ее собственной части, память тела о боли, разрезе, заживании швов. Для ранней детской психики это могло стать тяжелой травмой, которая осталась у нее не в сознании, а за его пределами.
Поскольку событие это было единичным, видимо, шизоидность стала лишь штрихом к ее характеру, а не основой его, но доверие к миру и людям пришло к ней в ходе терапии очень нескоро. Ее убежище было очень уютным, и прятаться там было намного безопаснее, чем иметь дело с тем ужасом, с которым она соприкоснулась однажды младенцем и который охватывал ее не раз уже во взрослом возрасте.
Эту субличность мы и назвали «девочкой, которая жила в чулане».
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
ШИЗОИДНЫЙ ХАРАКТЕР
Если вы обнаружили в себе черты шизоидного характера, попробуйте представить, как выглядит ваша шизоидная субличность. Подойдет любой образ, персонаж – все, что родится в вашей фантазии. Поселите его в одну из комнат и позаботьтесь, чтобы ему там было удобно и, самое главное, безопасно. Нарисуйте его в своем альбоме или просто запишите его имя. Напишите сверху: «Я буду тебя любить».
И помните, что работа по его исцелению – формирование доверия к миру. Ваше базовое доверие было когда-то нарушено, родители не защитили вас от каких-то травматичных событий (или сами их создавали), и психике пришлось прятаться в выдуманном мире, чтобы обезопасить себя от внешнего мира. Теперь пришло время помочь вашему перепуганному внутреннему ребенку успокоиться и научиться выходить во внешний мир без страха.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ. ДЕВОЧКА-МАТЬ
Оральный характер
Вернемся с нашей героине.
В детстве у нее было две жизни. Одна – обычная московская, в которой было очень мало стабильности. Вокруг было много лиц, которые все время менялись, как в калейдоскопе. Менялось и все остальное – места проживания, условия, правила. Стоило ей только начать привыкать к чему-то или кому-то – все это рушилось, и нужно было снова адаптироваться. Родители ее любили, но не могли обеспечить ей стабильность – отчасти потому, что не знали, как это важно в начале жизни, и особенно для уже травмированного ребенка, отчасти – потому, что сами такого не имели (детство у них было военное).
В основном она была предоставлена самой себе – сама научилась читать по кубикам, чинила свой детский проигрыватель пластинок, находила себе кружки и секции. Телевизора в доме не было из идеологических соображений – чтобы дети не смотрели всякую муру, а читали книги. Этим она и занималась. Прочла все, что было в доме, даже бОльшую часть собрания Лопе де Вега – зачем он оказался там, наверно, никто не знает. Но было много другого – море фантастики, русская классика, американская и европейская, биографии ЖЗЛ, а также Декамерон и эротические комиксы на верхних полках. И огромный альбом «Современная живопись», который она могла даже немного читать, поскольку он был на французском, который она учила в школе. Дома почти всегда никого не было, зато имелось все, что нужно, для творчества. Краски, холсты, швейная машинка, спицы и прочее. И если дома были взрослые, всегда что-то создавалось – мебель, одежда, рисунки и картины. И она, глядя на них, тоже этому училась. Так продолжал формироваться ее мир, ее убежище, которое чем-то было похоже на ателье художника, а чем-то – на пыльный чулан.
Вторая жизнь появилась, когда ей было почти три. Она начиналась летом и длилась от месяца до двух, если повезет. На протяжении 15 лет это было самое стабильное и прекрасное, что она могла себе пожелать. Думаю, родители тоже сильно нуждались в стабильности, потому что много лет подряд они ездили с ней отдыхать в одно и то же место. Там было все, что только можно представить – красота, спокойствие и полная предсказуемость. Заповедная зона, синее море, белый песок, зеленые сосны, грибы, ягоды, причудливая нетиповая архитектура… Главным было даже не это, а полная повторяемость всего.
Они были вместе всей семьей, всегда. Вместе шли на море, вместе ели, купались, играли, загорали. Она знала заранее все, что будет: «Утром мы пойдем на море, а если будет дождь, то в библиотеку или домик Томаса Манна. Вот за этим поворотом всегда можно найти землянику, а вот тут – ежевику и малину». Однажды они обязательно пойдут встречать закат, а там неизбежно будет кастрюля с гречневой кашей в газете и творожные сырки. А обратно будем идти поздно, поэтому они с мамой станут петь про веселый ветер, а потом папа понесет ее на плечах. А в ее день рождения, который всегда проходил именно там, они ходили в ресторан и ели карбонад с жареной картошкой. И люди вокруг всегда были одни и те же, ездили вместе отдыхать много лет.
Это было счастье, и там она чувствовала себя очень живой. А потом они возвращались домой, и снова начиналась московская жизнь, где каждый был занят своими делами. Ей же приходилось возвращаться в нелюбимый детский сад или школу, где было очень скучно. И она как будто засыпала в ожидании следующего лета или возвращалась в свой придуманный мир, в котором было намного интереснее, чем вокруг.
А еще летом к ним приезжали ее бабушка и дедушка из другого города. Она обожала их, потому что они создавали дома бурную жизнь с гостями, танцами, картами и прочими развлечениями. И они занимались с ней, учили играть в карты, раскладывать пасьянсы, дарили ей игрушки и другие подарки. Они явно ее замечали, интересовались ею, что было непривычно и очень приятно. Но осенью они снова уезжали, и она погружалась в свою привычную спячку до будущего лета.
Она привыкла быть одна, жить в своем мире, привыкла, что ее потребности непонятны, агрессия и попытки самозащиты не принимаются. Привыкла менять свое место в доме в зависимости от изменения состава семьи и смены их потребностей и желаний. Было даже время, когда она спала в гостиной на диване, и своего у нее был только столик под лампой, где лежали ее книжки и кассеты. Дверь была стеклянной и не запиралась, ей было 15, время подростковой интимности, но об этом никто не подумал.
Так что ее внутреннее убежище все больше походило на пыльный чулан, где кроме ее фантазий была куча коробок с очень неприятным содержимым и места для нее самой становилось все меньше и меньше. Там было темно и тесно, но безопасно. Она пряталась там каждый раз, когда реальность становилась невыносимой и мечтала о какой-то совсем другой жизни, где были принцы и принцессы, волшебство и прекрасные замки. Так сформировался ее основной паттерн поведения и тип характера.
Оральный характер
Оральный характер – это «недокормленный», неудовлетворенный организм со значительно сниженным уровнем жизненных сил. Родители были невнимательными или недостаточно удовлетворяли его потребности, в результате ему пришлось слишком рано повзрослеть, оставаясь внутри хронически нуждающимся и зависимым. Неосознанно брошенный ребенок ждет, чтобы кто-нибудь о нем позаботился, и чувствует, что мир ему по-прежнему должен настоящую жизнь. Все, что связано с работой, семьей и деньгами – для него слишком много. Он часто не хочет принимать ответственность за неудачи (частично потому, что уже перегружен требованиями и ожиданиями). Нередко считает себя непонятым, преследуемым и неоцененным. Уверенность в себе, как и агрессия, совсем не развиты. Он не способен добиваться того, чего жаждет, и ему нелегко кого-либо о чем-либо просить. Он также не может отказать, когда его о чем-то просят. Он может ждать и тосковать по жизни, нехватку которой остро ощущает, и в то же время не способен ни стремиться к ней, ни формировать ее. Стивен Джонсон, «Психотерапия характера».
Мы назвали эту субличность «девочка-мать», поскольку ей приходилось быть матерью самой себе, еще не успев повзрослеть, а потом и всем остальным тоже. Так что работа по ее исцелению была направлена на то, чтобы она смогла стать полноценной матерью для самой себя, то есть «подрастить» свою девочку-мать до взрослой женщины.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
ОРАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Если вы нашли в себе черты орального характера, придумайте персонаж, который эту субличность воплощает и поселите в следующую комнату. Спросите, чего он сейчас хочет и дайте ему это. Нарисуйте его на другой странице альбома или напишите его имя. И фразу: «Я буду тебя любить» тоже.
Помните: ему в первую очередь необходимо научиться понимать свои потребности и удовлетворять их, заботиться о себе и учиться способам самоуспокоения. Развивать умение просить о помощи и обращаться за ней. Научиться создавать отношения любви вместо зависимости и созависимости, выражать агрессию для самозащиты.
А теперь навестите свою шизоидную субличность, если она есть, спросите, как у нее дела, нужно ли ей что-то еще. Напишите или нарисуйте это в ее комнате в альбоме.
СЕСТРА. ТЕНЬ ИЛИ ХАМЕЛЕОН
Симбиотический характер
Так она и жила в своем придуманном мире, пока вдруг ею не заинтересовалась старшая сестра. Было ей тогда лет 12. Так началась их тесная дружба, которая длилась много лет. Сестра во многом заменила ей родителей, учила ее тому, что сама умела и знала, давала ей книги, делилась своими секретами и переживаниями. Все бы хорошо, но сестра была старше на 10 лет, то есть на столько же умнее и красивее. И наша героиня, не успев толком обрести свою идентичность, потеряла ее настолько основательно, что сама себе стала напоминать тень сестры. Копировала ее мысли, слова, носила ее одежду… Временами они напоминали близнецов, но с разницей и в возрасте, и в темпераменте.
Сестра была веселая, общительная, а Ева – очень застенчива и совсем меркла в лучах обаяния старшей. Даже хуже – все чаще ее застенчивость воспринимали как угрюмость, мрачность, что не добавляло ей ни веселья, ни открытости – результат был обратный тому, к которому она стремилась. Она мечтала быть такой же обаятельной и так же всем нравиться, как сестра, но становилась все более темным фоном для сестриного сияния и только прибавляла сестре очков в этом соревновании. Зато она больше не была одна – было с кем поделиться и получить дельный совет. Затем она неожиданно стала тетей (потеряв, правда, при этом свою комнату и заняв место на диване в гостиной), зато обрела еще одно существо, о котором могла заботиться и чувствовать себя нужной и значимой.
Так она и жила, плывя по течению чужих желаний и решений, не думая, чего она сама хочет, что ей нравится, в чем она сильна и на что в себе может опираться. В чем-то слишком взрослая, в чем-то удивительно инфантильная. Не научившись решать взрослые вопросы с чужими людьми, отстаивать свое мнение (еще толком его не имея), просить и озвучивать свои желания и чувства. Отражая других и копируя их манеры и идеи. Выбрав профессию, как у родителей, и еще потому, что в ней было больше мужчин, чем женщин. Копируя модели одежды из журналов, мысли сестры или героев своих книг, твердо уверенная в том, что она вовсе не творческая личность и не особо привлекательная женщина. Как-то они с сестрой умудрились вынести из детства и слов родителей идею, что старшая красивая, а младшая умная. Идея эта была совсем не хороша для обеих, но на нее хотя бы можно было опираться в понимании своего персонального «Я» и того, чем она отличается от сестры.
Интересно, что спустя много лет, когда она спросила у матери, почему их никогда не хвалили в детстве, мать была в недоумении: «Как не хвалили??? Мы так вами годились, всем рассказывали, какие у нас красивые и умные (заметьте, все вместе!!!!) дочери». «А нам почему никогда не рассказывали?» Мать снова удивилась: «А зачем? Вы и сами это знали» … (Немая сцена на тему «Откуда мы должны были узнать, если вы нам не говорили???»)
В общем, к «девочке из чулана» добавилась та часть, что выходила в свет, и была она, как вы понимаете, очень примерной и плохой копией старшей сестры, тенью, повторявшей за ней мысли, суждения и действия, слившейся с ней в тесном симбиозе.
Симбиотический характер
Плохо представляют собственное Я, свои вкусы, потребности и желания в отдельности от других (партнера). Для них непереносима мысль об отделении в любой форме – это вызывает тревогу, страх, иногда агрессию. При окончании одних отношений стремятся немедленно перенести свою потребность в слиянии еще на кого-то.
Все, что может привести к сепарации – расхождение во мнениях, успех, иные желания – вызывает страх.
Неспособны к четкому установлению границ «Я-другие», развитию чувства безопасности в рискованных ситуациях, чувства самоценности и в целом – положительного ощущения собственного Я. Вместо этого происходит развитие фальшивого Я, похожего на хамелеона, при котором личность находит себя не в своей уникальности, а копируя другого и мимикрируя под него. Стивен Джонсон, «Психотерапия характера».
«Девочка, которая жила в чулане», все детство предоставленная самой себе, с восторгом восприняла появление сестры. Она наконец-то выбралась из чулана, но, как ей стало понятно через много лет, лишь для того, чтобы развить в себе «близнецовый эффект», приняв сестру как безоговорочный авторитет и идеализированный объект для подражания. Критическое восприятие в ней еще не было развито, так что она «глотала, не разжевывая», все, что приносила ей сестра, подавляя одновременно свои различия с ней. Она обожала сестру, не мыслила себя отдельно от нее. Но почему-то, когда она брала напрокат ее одежду (у сестры же все было на 10 лет взрослее и лучше), она (случайно) рвала, пачкала, теряла сестрины вещи. Как сейчас мы понимаем, так выражались ее подавленная агрессия, зависть и ревность по отношению к сестре – ведь как ни старайся, та все равно неизмеримо лучше…
Мы назвали эту субличность нашей героини «тень, или хамелеон». Работа по ее превращению во что-то истинное и реальное во многом была направлена на создание у нее воображаемого зеркала, где она могла бы разглядывать и формировать свое истинное «Я».
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:
СИМБИОТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
Если вы нашли в себе черты симбиотика, придумайте для него подходящую субличность. Поселите ее еще в одну комнату и дайте ей зеркало. В нем она сможет разглядывать и изучать себя, чтобы узнать, какая она и чем отличается от других. Нарисуйте ее или напишите имя. И фразу: «Я буду тебя любить» тоже.
Для симбиотического типа в первую очередь нужно работать над созданием и усилением ощущения своего Я. Учиться находить и выражать собственную индивидуальность, справляться со страхом одиночества и покинутости, виной по поводу своей отдельности и персонального самовыражения. Необходимо найти и поддерживать безопасную (оптимальную) дистанцию с другими через понимание и принятие своих импульсов близости и отдаленности.
И проведайте тех, кто уже живет в вашем альбоме. Может, им что-то еще понадобилось?
МУЖ
Прошло много лет, она вышла замуж, родила ребенка, но в ее психике мало что изменилось. Она так же была «слеплена» с сестрой, носила ее вещи, делилась с ней отношениями с мужем, друзьями, досугом – словом, всем, что у нее было. Продолжала избегать взрослых дел и отношений, прячась в своем домашнем убежище вместе с ребенком от перестройки, которая смела все старые правила и устои, лишившись профессии, друзей и всего, что было для нее связано с работой и личной жизнью.
После 10 лет брака
Она становилась все больше зависима от мужа. Он помог ей уйти в декрет и потерять привычный образ жизни, поощрял ее инфантильность, делая за нее все, чего она боялась, и бурно реагируя на ее попытки проявить себя вразрез с его интересами.
Муж стал еще одним авторитетом, которого она отражала, копировала, повторяла его слова и мысли. Но поначалу она не ощущала этой зависимости, защищалась от нее, чем могла. Собиралась найти работу, пойти на курсы, заняться чем-то новым. Она игнорировала тот факт, что у нее нет ничего своего, что она превратилась в маленькую девочку «на ручках» у мужа.
Но случилось страшное событие, которое разрушило почти все ее защиты и иллюзии. Сестра потеряла мужа, молодого, сильного мужчину, осталась одна с ребенком на руках. Она должна была дальше сама строить свою карьеру, жизнь и справляться со страшной потерей одновременно. Ева отреагировала тем, что вцепилась мертвой хваткой в своего мужа, осознав в одно мгновение, что и он может так же неожиданно и безвозвратно исчезнуть и что у нее тоже есть ребенок. Но, в отличие от сестры, нет профессии, которая может принести реальный доход, нет навыков взрослой жизни в новом мире. Мертвая хватка заключалась в том, что она старалась оградить его от любых опасностей, контролировала все, что он делал, ел, пил, смотрел, слушал, говорил. Она задалась целью отучить его от всех вредных привычек, приучить к здоровому образу жизни – в общем, стала совершенно невыносимой в своем неврозе потери.
Мужа это стало сначала напрягать, потом раздражать, а затем – тяготить. Он хотел носить на руках «принцессу», а не «занудную мамочку-контролера» или зависимую, практически парализованную «девчонку-инвалида», которая не может стоять на своих ногах. То есть то, что они вместе создали, лишив ее собственной жизни и привязав намертво к мужу и ребенку, вошло, наконец, в свою логическую завершённость. Не умея заботиться о себе, не имея внятной идентичности, она стала еще больше тенью. Тенью сестры в своей женской части, тенью мужа в профессиональной, духовной, материальной области. Это становилось все более явным, поскольку карьера мужа стремительно шла вверх, он становился все более значимым, влиятельным, богатым, известным.
Она рядом с ним выглядела все более бледно, создавая ему, как в прошлом сестре, все более темный фон. Вот только в его случае это не прибавляло, а убавляло ему очков, порождая много вопросов из разряда «почему такой успешный человек женат на такой малоинтересной женщине». Тем более, что чем выше он поднимался, тем больше женского внимания привлекал.
Все чаще он проводил время не дома, а в компании таких же успешных, как он, женщин и мужчин. А у Евы рухнула еще одна иллюзия и появился новый страх – что муж может не умереть, а просто уйти, развестись с ней, и все, что они вместе сделали из него, достанется другой женщине.
Впрочем, не все было так однозначно и мрачно.
ДЕТИ
Девочка-мать
Дети всегда были ее самой большой радостью и гордостью. «Это лучшее, что я сделала в своей жизни, – говорила она. – И всегда поражаюсь, как это так хорошо у меня получилось». Она обожала своих детей и искренне считала из самыми красивыми, умными и талантливыми на свете. Со старшим ребенком она вначале перегнула с ограничениями, а с младшим – со вседозволенностью, но постепенно баланс стал более ровным и благоприятным для их роста. Сначала она научила их плавать, потом есть, потом читать. «На этом долг мой был выполнен», – шутила она. Но, конечно, он только начинался.
Потом ее часто спрашивали друзья, осуждавшие исходно ее стиль воспитания, позволявший детям пить колу и играть в комп столько, сколько нужно: «Как тебе удалось воспитать таких успешных детей?» «Именно потому, отвечала она, – что я никогда не пилила детям мозг по мелочам типа колы и ПК, а настаивала на своих главных ценностях – уважении к себе и другим, честности, трудолюбии, доброте». И еще она таскала их по всем секциям и музеям мира, пока они были маленькие и их можно было таскать. Она научила их, где можно найти красоту, здоровье, развитие, а потом дала им возможность жить по своему усмотрению, но всегда рядом, чтобы помочь, если будет нужно.
Ей удалось учесть удачи и ошибки своих родителей и опекунов – она научилась относиться к детям (и их друзьям) с таким же уважением, как ко взрослым, не мешать в их делах и развлечениях и при необходимости всегда помогать и поддерживать в их потребностях. Иногда – ценой своего горя, боли, бесконечного самопожертвования. «Материнский долг трагичен, – говорила она. – Хорошая мать будет растить, холить и развивать детей, пока они не вырастут, а после – должна отпустить и благословить на отдельную жизнь, как бы далеко эта жизнь не находилась и как бы ей ни хотелось навсегда остаться с ними».
А еще дети многому ее учили, например, тому, что душевная привязанность не зависит от физической дистанции, или тому, что можно и нужно делать то, что хочешь. Или обращали ее внимание на ситуации, где ее интересами пренебрегали, а она этого не замечала. Временами она просто таращила глаза от изумления, какие они умные и как ей с ними повезло. Дети, впрочем, платили ей тем же – любовью, уважением и дружбой. «Лучшая мама на свете», – так они говорили, и, как ни странно – ведь хорошей она себя не воспринимала, а уж лучшей тем более – она была с ними согласна.
(Материнство, конечно, благодатная среда для оральной личности с ее потребностью быть нужной, отдавать себя другим, служить им)4. «Самая лучшая мама на свете» – и хорошо, и плохо, очень трудно от такой мамы уйти, найти женщину, хоть как-то напоминающую ее. В процессе терапии Ева поняла все опасности такой конструкции и пыталась, как могла, внести в свой образ больше земного и настроить детей на то, что для них хорошо и правильно отделяться и жить своей жизнью, а не быть «слепленными» с ней.
Так что то, что она умела лучше всего – инвестировать все свои силы и таланты в других – приносило хорошие плоды. Муж при ее поддержке становился все более успешным и все больше зарабатывал. Сыновья росли здоровыми, красивыми, талантливыми. Она устраивала праздники для друзей и родных, готовила необычные блюда, придумывала подарки, шила и вязала (хотя, по-прежнему, считала себя совершенно не творческим человеком). Все больше заботилась обо всех, кроме себя. А потом мама сказала ей как-то: «Ты у нас глава семьи», – и ей стало очень страшно. Она вздрогнула и робко пробормотала: «Не надо, я не хочу!»
Но тогда вырваться из своего невроза зависимости и самоотвержения у нее еще не было сил. И помогло ей, как ни странно, именно то страшное событие, которое заставило ее вцепиться в мужа – смерть мужа сестры.
Как говорится – не было бы счастья, да несчастье помогло.
ТРАВМА
Это был, наверно, первый раз, когда она смогла использовать энергию травмы себе на пользу.
Возможно, вам известно, что экстраординарные события рождают внутри нас экстраординарную энергию. И вопрос только в том, как с этой энергией обойтись. Можно использовать ее на защиту, созидание или разрушение. Есть яркий пример в литературе – мать смогла голыми руками приподнять автомобиль, который наехал на ее грудного ребенка.
Энергия травмы
«Мы оказываемся подверженными травме (травмированными), когда осознаваемая или ощущаемая нами угроза по силе превосходит нашу способность адекватно ей противостоять.
Когда ситуация воспринимается как угрожающая жизни, и разум, и тело мобилизуют огромное количество энергии, готовясь к борьбе или спасению бегством. Сила такого рода обеспечивается обильным приливом крови к мускулам и мощным выбросом стресс-гормонов, таких как кортизол и адреналин.
Выброс энергии из организма, который происходит, когда опасная ситуация завершается, служит информационным сигналом для головного мозга – о том, что настало время снизить уровень секреции стресс- гормонов, потому что угроза миновала.
Если мозг не получает сообщения, позволяющего вернуться к работе в нормальном режиме, он продолжает поддерживать высокий уровень производства кортизола и адреналина, и организм оказывается в состоянии все нарастающей энергетической перегрузки. Пока человек не найдет способа избавиться от избыточной энергии, его организм будет упорно реагировать на все происходящее в жизни так, будто он все еще страдает от боли и чувства беспомощности, даже спустя много времени после того, как будут излечены его раны». Питер Левин, «Пробуждение тигра. Исцеление травмы».
Если энергию травмы не удается использовать, она может уйти внутрь и напоминать о себе постоянным беспокойством. Кроме того, мы будем бессознательно повторять травмирующую ситуацию, пытаясь разрешить ее снова и снова. Но если эту энергию использовать конструктивно, она помогает совершать большие дела и добиваться важных перемен.
И нашей героине удалось найти в себе силы для того, чтобы, наконец, выбрать себе новую профессию и пойти учиться ей. Причем такую, в которой можно было зарабатывать довольно неплохо, не проводя сутки в офисе, как делал ее муж. Которая позволила бы ей проводить много времени с детьми, заботиться о доме и даже иногда о себе.
Понятно, что далеко от своего невроза она не ушла и выбрала профессию психолога, а потом и психотерапевта – то есть все тот же механизм заботы о других ценой своих сил, помещение клиента в фокус заботы вместо себя самой. Но этим она сделала первый шаг на пути к материальной автономии и психическому здоровью, поскольку уже в процессе учебы узнала много нового о мире и о себе, а также получила первые часы психологической помощи. Закончив учебу, она начала искать работу, а нашла вместо этого себе учителя и психотерапевта.
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
Подумайте, какие у вас были физические и психологические травмы, и какие из них вызывают по-прежнему сильные чувства. Здесь описать работу с травмой у меня нет возможности, так что хочу порекомендовать для этого книгу Питера Левина «Исцеление травмы. Авторская программа самопомощи при травме». И/или работу с психотерапевтом по исцелению от старых или новых ран.
3
«Психические убежища» – душевные состояния, в которые можно спрятаться, скрываясь от тревоги и психической боли. При этом жизнь и способность к контакту и отношениям становится резко ограниченными (Дж. Стайнер, «Психические убежища»).
4
Подробнее об этом вы можете прочесть в статье «Жертва во имя ребенка» во 2 части книги.