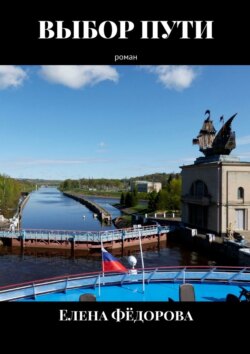Читать книгу Выбор пути. Роман - Елена Фёдорова - Страница 6
Дело по обвинению
ОглавлениеМихаила допрашивали долго и нудно. Было понятно сразу, что донос настрочила Ксения Мурашко, учительница, разведёнка, этакая охотница, желающая всего и сразу. Он к ней стал захаживать в гости после репетиций, чтобы расслабиться и отдохнуть. Вино, папиросы, гитара, смех, беззаботность, а дома сопливые ребятишки плачут и донимает расспросами глупенькая молодая жена, несмышлёныш, ничего не знающая про взрослую жизнь. Скучно ему с ней. То ли дело Мурашко – ураган, а не баба! Она огонь и воду прошла. Готова во все тяжкие пуститься. Таких, как она, в жёны не берут, с ними развлекаются. Вот он и развлекался. Мыслей о том, чтобы уйти от жены у него никогда не было. Вера его устраивала во всём.
Он любил её какой-то непонятной звериной любовью. Он без неё не мог, но при этом, не брезговал и другими женскими прелестями. Свои похождения он называл репетициями, совещаниями, спектаклями. Мог засидеться допоздна, а потом мчался в свою берлогу и засыпал на большой Вериной груди, как младенец в объятиях матери. Однажды он попросил покормить его материнским молочком. Вера рассмеялась, расстегнула кофточку:
– Кушай, моё дитятко… – в её голосе было столько нежности, что он расплакался.
– Ве-е-ра, что ты со мной делаешь? Каким зельем опоила ты меня, дочь цыгана? Каким заговорам научила тебя мать-травница?
– Меня научили любить всем сердцем, Миша. Любить и зла не таить.
– Люби меня всегда, Вера. Люби…
Никогда ни одной из женщин он таких слов не говорил. Женщин у него было много, очень много. Он вначале считал их, а потом бросил. Надоело. Рос Миша без родителей. Они рано разошлись, оставив его на попечение бабушки по материнской линии. С шести лет воспитанием внука занималась Елизавета Петровна. Занималась, это громко сказано. Она смотрела, чтобы Мишенька был сыт, одет и долго не бродил по улицам. Школа для мальчика стала спасением. Молоденькая учительница его жалела, обнимала, целовала в лоб. Он прижимался к ней теснее, теснее, пытаясь ощутить забытое материнское тепло. Ему верилось, что его мамка такая же красивая и тонкая, как эта учительница Антонина Семёновна. Это она сказала, что Миша на Лермонтова похож, да и зовут его Михаил Юрьевич. Он посмеялся, а потом часто представлялся: Лермонтов, поэт.
Мамку свою Миша увидел, когда ему исполнилось десять лет. Встреча его разочаровала. Старуха, которая бросилась его целовать, не имела ничего общего с Антониной Семёновной. Миша отшатнулся от неё.
– Кто ты? Ты не можешь быть моей мамкой. Ты – чужая…
Она закрыла лицо ладонями, опустилась на стул.
– Зачем ты так, Мишенька, – пожурила его бабушка. – Годы никого не щадят. Посмотрим, каким ты станешь, когда вырастешь.
– Мама, он прав, – старуха открыла лицо. Оно почернело ещё сильнее. Мише стало её жалко. – Я не имею права называться твоей мамкой, потому что бросила тебя. Прости. Я не прошу любить меня, как мать. Люби меня за то, что я дала тебе жизнь.
«Люби меня за то, что…» – он эти слова запомнил и частенько потом повторял. Мать умерла через пару лет. У неё была неизлечимая болезнь. Бабушка Мишу на похороны не взяла, чтобы не травмировать психику ребёнка. О том, как происходит погребение усопших, Миша узнал уже в зрелом возрасте. Обряд погребения его оставил равнодушным. Серо-синий покойник лежал в деревянном гробу на белоснежной подушке в красивом чёрном костюме. Из-под белой простыни, прикрывающей его наполовину, торчали блестящие носы чёрных ботинок. Руки были скрещены на груди, в них догорала тонкая восковая свеча. Воск капал на бумажку, в которую, как в юбочку была обёрнута свеча.
Свет был в комнате приглушён, зеркала завешены тёмной тканью. Бабы выли, причитали, священник нудно бубнил непонятные Михаилу слова. Театр. Скучно. Душно. Михаил рванул ворот рубахи, вышел на воздух. Зачем такой обряд? Три дня сидят вокруг гроба и воют. Для чего?
– Провожают в дальний путь, – пояснила одна из плакальщиц. – И пятаки на глаза нужно положить обязательно, чтобы покойный мог расплатиться с лодочником, который его на ту сторону повезёт…
– На какую ту сторону? – не понял Михаил.
– В царство мёртвых. Неужто не слыхал?
– Не слыхал.
– Так вот знай, мил человек, что все усопшие реку Времени переплывают. Кто добрым был, в хорошее место попадёт. А уж, если басурман какой, то готовься к самому страшному. Грешил на земле, расплачиваться будешь там, – она махнула рукой в неопределённом направлении и пошла в дом, плакать. Работа у неё такая – оплакивать уходящих…
Прошло много времени с той поры. Михаил заматерел, научился смотреть на все проблемы свысока, словно они его не касаются, словно всё это происходит не с ним, а с теми, кого отпевают. Он и арест свой воспринял спокойно. Ни минуты он не сомневался в том, что серьёзные сотрудники НКВД сразу во всём разберутся, высмеют глупую бабу Ксению Мурашко, и отпустят его к жене и детям подобру-поздорову. Не отпустили…
Бред истерички стал главным мотивом преступления, в котором его обвинили. Ему прилепили позорное клеймо «контрреволюционер-агитатор», несмотря на то, что он, рождённый в 1906 году, к революции не мог иметь никакого отношения. Ему в 1917 году было всего одиннадцать лет…
Из того времени Михаилу запомнилось катание на буфере трамвая с такими же мальчишками, как он. По Бульварному внутреннему кольцу ходил тогда трамвай «А». Его ласково называли Аннушкой. Из-за крутого спуска Рождественского бульвара трамвай этот пускали на линию всегда в один вагон. По Садовому внешнему кольцу ходил с прицепом трамвай «Б», его называли Букашкой. Трамваи «А» и «Б» с гулом, скрежетом и звоном ползли по своим маршрутам. Ходили они редко. Народу в «часы пик» набивалось тьма-тьмущая, гроздьями повисали люди у дверей. Мальчишки ездили на буферах, а потом убегали от постовых. Но разве за это называют контрреволюционером?
Много разных разговоров слышал он тогда, бегая по улицам. О том, что белые побеждены, изгнаны, расстреляны. О том, что среди революционных масс больше популярен Троцкий, а Ленин на втором месте. За ним идут Каменев, Зиновьев, Дзержинский, Свердлов, Луначарский.
Именно Троцкий разъезжал по всей стране, выступал с речами, издавал грозные декреты, жестоко подавлял крестьянские восстания. Газеты были переполнены сообщениями о восстаниях и карательных мерах. «Правда», «Известия», «Рабочая газета», «Крестьянская газета», «Гудок», «Беднота» печатали списки расстрелянных и убитых продотрядовцев, которых называли героями, погибшими за дело революции.
О вождях, даже о Ленине, почти ничего не писали. Зато в подробностях расписывали всякие происшествия. Особенным успехом пользовались разделы «суд», и «происшествия». Мише особенно запомнилась статья о том, как из зоопарка убежал горный козёл. Писали, что козёл помчался по Большой Грузинской улице, сбивая прохожих с ног и наводя панику. Он вбежал в открытую дверь парикмахерской, там увидел в зеркале своё отражение, рассвирепел, с ходу разбил зеркало, повернулся и помчался дальше. На Тишинском рынке он посшибал лотки торговцев, был наконец пойман и посажен в клетку…
Теперь в клетку посадили его, Михаила. Но смеяться ему, почему-то, не хочется. На дворе 1938 год. Ему уже не одиннадцать, а тридцать два. Солидный возраст. За это время он столько дров наломал, не унести. Одна Верка чего стоит. За растление малолетних он давно мог срок схлопотать, а тут… глупость какая-то. Глупость, недоразумение – толстая, неуклюжая, злая Ксения Мурашко, тьфу… Глазки поросячьи, голос визгливый, губки узкие. Злыдня, а он перед ней рисовался зачем-то.
Перья распустил, разболтался про дворянское своё происхождение, про отца золотоискателя, про то, что сам он был осуждён, как белый офицер, но бежал из-под стражи. Добрался до Петрограда, дал отцу телеграмму, чтобы тот выслал деньги – три тысячи рублей. Столько стоил новый паспорт. Звучную свою фамилию Лермонтов поменял, чтобы следы замести. Стал по новым документам Купцовым, но дар сочинительства не утратил. Любой экспромт запросто выдаю, склонность к театрализации имею, играю на любых инструментах. Подайте гитару…
«…Гитара помнит гитара знает,
Слова которые я так ищу сейчас
Пусть я молчу пусть ты молчишь
Гитара скажет всё за нас…»3
Сколько песен он спел в квартире Мурашко… Зачем? Чтобы баланду теперь тюремную хлебать… Сам кашу заварил… Мурашко грозилась, что устроит ему лагерную жизнь, если он к ней не переедет. Он на сделку с совестью не пошёл. Нос Мурашке хотел утереть. Вот я какой герой! Догеройствовался, доигрался, дурачок… Сижу теперь в клетке и перелистываю страницы своей автобиографии. Следователь велел написать подробно.
Хорошо, что я в школу ходил и грамоту освоил. Много нам разных знаний поначалу давали, но мудрый нарком просвещения Луначарский решил сломать старый, давно установившийся порядок в школах. Учителям было велено отметки не ставить, учеников не спрашивать, а задавать им уроки на дом. Строители коммунизма должны быть сознательными. Закон Божий изгнали из школ сразу же после революции, отменили латынь и греческий, потому что чужие языки советским людям не нужны. Время от времени являлись в школы комиссары проверять, как проводится реформа. Старшеклассники после одного из таких визитов сочинили песенку:
«Раньше был я смазчиком – мазал я кареты.
А теперь в Совете я издаю декреты…»
– Автора этих строчек, наверное, в лагерь отправили, – Михаил обмакнул перо в чернильницу, написал на бланке, который ему вручили: Купцов Михаил Юрьевич 1906 года рождения. Уроженец города Калязин Тверской области из служащих, гражданин СССР. Женат, двое детей, беспартийный, образование среднее, не судим. Работаю прорабом монтажных работ Икшинского 186 эксплуатационного гидроузла канала Москва – Волга. Проживаю в посёлке Икша Савёловской железной дороги.
На обороте нужно было написать подробную автобиографию. Один лист получился. Особо писать-то нечего. Сирота, воспитывался у бабушки по материнской линии. Закончил училище по профессии электромеханик. На канал приехал по объявлению в газете. Кроме основной работы руководил драмкружком. Женат, имею двоих детей. Не судим.
Бумаги у Михаила забрали и повели в камеру. Там уже сидело человек шесть уголовников-воров, молодых, развязных, шумливых, но вели они себя вполне прилично. На полу сидел чернобородый, красивый крестьянин, шептал молитвы, закрыв руками лицо. Позднее он разговорился, рассказал, что его отец, дед, и прадед были огородниками, снабжали Москву овощами. Они старообрядцы. Их пятеро братьев. Живут вместе с родителями и своими семьями в одном доме. Содержат подсобное хозяйство, чтобы прокормиться. На рынок продукты не возят, самим еле хватает. Дети мал-мала меньше. Бабы домом и огородом занимаются, мужики на поле землю боронят, пашут, урожай собирают. Их всех разом арестовали и по разным камерам развели.
– За что?.. За что?
– Был бы человек, а статья на него всегда найдётся, – пошутил один из заключённых. Крестьянин заплакал.
Михаил лёг на нары, отвернулся к стене. Во рту стало кисло. Дело принимало нешуточный расклад. Но ему пока никакого обвинения не предъявили, значит рано сдаваться…
Утром принесли завтрак: пшённую кашу, кусок хлеба, два кусочка сахара, кружку кипятка. Михаил поел, прилёг. Открылась дверь.
– Купцов! – выкрикнул охранник.
Михаил поднялся, назвал своё имя-отчество. Так требовалось.
– На допрос, – рявкнул конвоир.
Михаила привели в небольшую комнату без окон. Посредине обшарпанный одинокий письменный стол, за которым сидит следователь. Под потолком яркая лампочка без абажура. Лицо у следователя красивое, широкий лоб, тёмные большие глаза, пристальный, немигающий взгляд. Одет он в прорезиненный военный плащ, на красных отворотах по одному ромбу – комбриг.
– Большая величина, – подумал Михаил, но тут же вспомнил, как сокамерники рассказывали, что для наведения страха следователи нарочно одеваются командирами высокого ранга. Плащ следователю был чрезмерно велик, значит, это – маскарад. Страх у Михаила пропал, он взял себя в руки, улыбнулся.
– Садитесь! – сказал следователь устало.
Михаил сел на табурет напротив него. Лампа освещала его лицо, а лицо следователя скрывалось в полутьме. Из этой полутьмы неотрывно смотрели на него несколько минут большие, красивые, холодные, тёмные глаза. Неожиданно следователь резко наклонился вперёд, словно хотел пронзить Михаила насквозь своим взглядом. Тот не выдержал, моргнул.
– Курите, – следователь протянул Михаилу папиросу из пачки, лежащей на столе, зажёг спичку, поднёс ему. Михаил закурил. Их взгляды снова встретились. Следователь обрушил на него лавину гневных слов.
– Так вот вы какой! Много о вас наслышаны! Все говорят, вы ярый, убежденный монархист, занимаетесь антисоветской агитацией, проявляете диверсионные наклонности.
– Это неправда, неправда! Никогда я не занимался антисоветской агитацией! К диверсионными наклонностями не склонен. У меня маленькие дети, мне их кормить нужно. Вы мою вину не доказали!
– А вы не доказали мне, что предъявленное вам обвинение необоснованно.
– Какое обвинение?
Следователь протянул Михаилу заранее заготовленную бумагу: «Следователем ОГПУ4 Портновым Николаем Павловичем предъявлено Купцову Михаилу Юрьевичу обвинение по статье 58 пункт 10 Уголовного кодекса».
– Вы знаете, что это за статья? – спросил он строго.
– Нет.
– Эта статья вмещает все контрреволюционные деяния и состоит из полутора десятков пунктов. 58—10 считается самым «легким» и самым распространенным пунктом, но и по нему дают до десяти лет за пропаганду или агитацию, содержащую призывы к свержению или подрыву Советской власти. Вы хотели взорвать канал. Это – диверсия.
– Ложь.
– Вы агитировали людей не ходить на выборы в Верховный Совет СССР.
– Ложь. Я уважаю законы Советского Союза и всегда хожу на выборы.
– Вы – белый офицер.
– Ложь.
– Вы были судимы.
– Нет.
– Ваш отец – золотоискатель?
– Я – сирота. Мои родители умерли в 1920 году.
– Прочтите и подпишите протокол допроса, – следователь пододвинул ему листок.
Михаил подписал, поднялся. Конвойный отвёл его в камеру. Сокамерники ему посочувствовали, узнав про пятьдесят восьмую статью.
– Попал ты в переделку, мужик. Тебе ещё 58—2 могут приклеить. А это – расстрел или клеймо «враг-народа», с конфискацией имущества, лишением гражданства и изгнанием за пределы СССР. Но ты не сдавайся. Пиши письмо Верховному Главнокомандующему Иосифу Виссарионовичу Сталину. По его приказу многих освобождают. Это правда.
Михаила обрадовался. Сдаваться он не собирался, а после этих слов воспрял духом. Разберутся, разберутся в его деле непременно…
На допросы его вызывали ещё несколько раз. Ничего нового он не услышал и ничего нового не сказал. Следователь сердился. Вызвал Мурашко на очную ставку. Она пришла нарядная, губы накрасила ярко-красной помадой, держалась высокомерно. Говорила громко, словно вокруг неё сидели глухие. Следователь не выдержал, сказал резко:
– Хватит орать. Вы не на базаре, а в присутственном месте. Свидетельница, вы подтверждаете свои слова в том, что Купцов хотел совершить диверсию на канале.
– Да. Он мне говорил о том, что знает одну кнопку, на которую можно нажать, чтобы канал на воздух взлетел.
– Весь канал? – глаза следователя округлились.
– Да! – воскликнула Мурашко победоносно. – Он нам так говорил.
– Это ложная информация, – сказал Михаил. – Длина канала Москва – Волга более ста двадцати километров. Я рассказывал гражданке Мурашко, как работают шлюзы. Говорил, что уровень воды в них меняется. Вода или поднимается или опускается. Канал – это сложнейшее техническое сооружение.
– О чём вы ещё говорили со свидетельницей.
– О театре. Она была суфлёром в нашем драмкружке.
– Это правда, свидетельница?
– Я быстро отказалась от суфлёрства. Мне эта работа не понравилась, – Мурашко покраснела. Представила себя в суфлёрской будке. Стыдно стало.
– Что ещё вы хотите добавить к обвинению?
– Купцов не хотел идти на выборы в Верховный Совет СССР. Сказал, что наверху всё без нас решат, – каждое слово она бросала Михаилу в лицо, злорадствовала. А он смотрел мимо неё и думал о Вере, о детях, о несостоявшемся романе с Риммой Марковой, Снегурочкой. Сердце Михаила заныло. Римма ему нравилась. По возрасту такая же, как Вера, но из образованных, городская, начитанная. Он ей столько всего наобещал… Она разомлела, поддалась на его уговоры, на ласки… Соблазнил он её, а Мурашко узнала, позеленела от злости.
– Убью и тебя и её. Всё твоей Верке расскажу, бабник…
– Что рассказывать-то, Ксения? – рассмеялся он. – Ты свечку не держала, ничего сама не видела, а то, что тебе чёрт в уши нашептал, не в счёт… Я ни в чём не виноват, вот тебе крест, – для большей убедительности он даже перекрестился.
– О, да ты ещё и в Бога веруешь? Так и запишем, Купчик, субчик. Всё, всё в дело пойдёт, помяни моё слово…
– В какое дело, Ксеничка? – он приобнял Мурашко.
– В наше дело, голубчик, – оставив на его щеке алый след губной помады, ответила она. – Доиграешься, Мишка. Устрою я тебе допрос с пристрастием…
– Обвиняемый, вы подтверждаете слова гражданки Мурашко?
– Нет. Я – законопослушный гражданин. Я – старший инженер участка номер шесть. Я веду общественную работу, руковожу драмкружком. Я – примерный семьянин.
– Примерный… – Мурашко усмехнулась – Ну, ну…
– Где находится кнопка, о которой вы говорили?
– Я не знаю ни про какую кнопку.
– Допрос окончен. Прочитайте и подпишите.
Мурашко гордо вскинула голову, смерила Михаила победоносным взглядом, ушла. Его отвели обратно в камеру, где всё было подчинено строгому распорядку. В течение дня заключенные из «рабочего коридора» трижды приносили бадьи с едой. Утром – кипяток, хлеб и три кусочка сахара на весь день, днём баланда-похлебка и каша-размазня, вечером ещё что-то. Раз в день водили в туалет и на прогулку. Ночью не давали покоя – открывалась дверь, и то одного, то другого выкликали на допрос.
Михаила вызывали чаще других. Он устал объяснять, что никакой кнопки на канале нет. Что Мурашко просто мстит ему из-за того, что он её бросил.
– Спросите актёров из драмкружка. Учителей в школе. Вам скажут правду.
– Мы сами знаем, кого спрашивать. Вы, Купцов, должны доказать преданность Советской власти, должны ей помогать. Я сейчас вам дам подписать одну бумагу, вы обяжетесь нам помогать, более того, мы вам будем давать определенные задания.
– Нет, – ответил он и опустил глаза.
– Или завтра же освобождение, или я вас сгною на Колыме, – прошипел следователь.
Михаил весь сжался, взглянул прямо в его красивые тёмные глаза и тихо сказал:
– Пусть будет Колыма, – ему очень хотелось на свободу. Но становиться стукачом не было никакого желания.
Следователь долго смотрел на него, потом сказал неожиданно мягким голосом:
– Я не настаиваю. Я так и думал, что вы не подпишете. От таких, как вы, нам помощи на копейку. Прочтите, поставьте своё имя, подпишите Обязательство.
«Я, нижеподписавшийся Купцов Михаил Юрьевич настоящим обязуюсь, что никогда, никому, даже своим самым близким родным, ни при каких обстоятельствах не буду рассказывать, о чём говорилось на допросе 25 апреля 1938 года. Если же я нарушу это своё обязательство, то буду отвечать по статье 58—2 УК РСФСР, как за разглашение важной государственной тайны».
Михаил подписал. Следователь зачитал постановление о том, что ему вынесен приговор по статье 58—10 – пять лет исправительно-трудовых лагерей. Его отправляют по этапу в Магаданскую область, на Колыму, в бухту Нагаево, в Берелех Лагпункт ГУ.
– Будешь золото добывать. Может найдёшь клад, который тебе отец дворянин оставил, – следователь усмехнулся. – Сказки твои в жизнь воплощаются, Купцов. В следующий раз думай, когда сочинять будешь.
Михаил поёжился. Колыма, Дальстрой, золотые прииски, лагерь. Он знал, как сложно живётся заключённым здесь на строительстве канала, но даже не мог представить того ужаса, который его ждал на Колыме.
«Колыма многие годы была необходима для того, чтобы упрятать подальше и побольше ненужных, а то и просто враждебных этому строю людей, задержать их здесь подольше, а то и навсегда «приморить»… Миф о Колыме как месте, откуда не возвращаются, входил в комплекс государственной идеологии, сопровождая своим грозным звучанием не менее мифический государственный энтузиазм, оптимизм, интернационализм и что там было ещё…, потому что если ты не поверишь добровольно в вышеперечисленные слагаемые, то и будет тебе Колыма.
О своей хозяйственной деятельности Дальстрой отчитывался постоянно: сколько добыто золота, олова, вольфрама, угля… Но архивы сохранили и не менее точные цифры деятельности здесь репрессивных органов ОГПУ-НКВД-МВД. Об этом поётся в знаменитой лагерной песне «Я помню тот Ванинский порт…»
«Сто тонн золотишка за год
Даёт криминальная трасса.
А в год там пускают в расход
Сто тонн человечьего мяса…»5
Михаил работал электриком, старался изо всех сил. Не балагурил больше. Хватит. Набалагурился. Он отправил письмо Сталину, веря, что ответ будет положительным, что дело пересмотрят и судимость с него снимут. Но для подстраховки попросил Веру написать вождю письмо от имени жены и матери, ждущей оклеветанного мужа, оставшейся без поддержки и помощи с малыми детьми. Она просьбу его выполнила.
После ареста мужа Вера устроилась фасовщицей на фабрику. К людской молве ей прислушиваться было некогда. Но разговоры, как шумливую реку, не остановить. Слухи и пересуды дошли и до Веры. Добрые люди рассказали ей, что Мурашко со злорадством сообщает всем вокруг о подрывной деятельности Михаила Купцова, что он, якобы, знает про какую-то кнопку, при помощи которой можно канал взорвать. Бабы у колодца над ней смеются:
– Какой Купчик подрывник? Так, болтун местный.
– Да разве можно канал взорвать? Где он такую кнопку-то нашёл?
– У себя в драмкружке, наверное…
– Точно, больше негде…
Мурашко многие недолюбливали. Говорили, что она в училки пошла только потому, что там сразу комнату при школе давали. Работу она свою не любит, на детей кричит, может и подзатыльник дать, если рассердится. Зато с мужиками ласковая. Своего-то нет, вот и смотрит на чужих. Гулянки у себя в квартире устраивает постоянно. Не стыдится никого.
Про драмкружок такое плести начали, что Вере страшно стало. Ночью боль свою она в подушку выплакивала. Ни с кем словом не обмолвилась о том, какой камень тяжёлый на душе лежит. Жалость людская ей была ни к чему. Сама, сама справится она со всеми напастями. Правду Михаил ей сказал, что Мурашко – чёрный человек, гнилой… Она, она донос настрочила…
Вера вспомнила слова матери, что молитва защищает от чёрных сил, вздохнула.
– Забыла я про молитву. Не просила помощи у Господа. Вот и осталась одна с детками. Не зря Миша меня несмышлёнышем называл. Не зря… Теперь я повзрослела, смышлёной стала. Прости, Господи, прости! Спаси и помилуй!
Мишу я люблю и всегда любить буду, всегда. Не мог он двуличным быть… Он любит меня и деток. Он никогда мне не изменял. Никогда… Он вернётся скоро. Его оправдают. Он мне эту веру внушил. Письмо своё, которое Сталину написал, мне прислал. Я его отправила по адресу и своё письмо Сталину написала, как Миша велел. Придёт ответ, обязательно… Помоги, Господи! Защити нас грешных…
Ответ пришлось ждать долго. Веру вызвали в НКВД на допрос. Она так перепугалась, что руки дрожали и голос срывался. Думала и её вслед за Михаилом в неизвестную бухту Нагаево отправят. Следователь сидел напротив смотрел ей в глаза и задавал вопросы. Она честно на них отвечала. А про то, что Миша ей о своём дворце говорил, не сказала. Это их тайная мечта. О ней никто знать не должен. Главное для неё сейчас, чтобы Миша скорей назад вернулся. Ей без него плохо, тяжко очень. И деткам папка нужен. Будь она неладна эта Мурашко со своими доносами. Сгубила человека почём зря, детей сиротами оставила. Её саму нужно по этапу отправить за язык змеиный.
Следователь протянул Вере бумагу. Велел прочитать внимательно и подписать протокол допроса. Почерк у него был корявый, читала она с трудом. Больше угадывала слова, чем понимала их.
Свидетельница Вера Матвеевна Купцова 1919 года рождения, фасовщица фабрики «Тален». Пять классов образования.
Замуж за Купцова я вышла в 1937 году. Он хороший семьянин. У нас двое детей: сын Виктор – три года и дочь Аделаида – один год. Гостей к нам в дом он не водил, зарплату не пропивал, был увлечён драмкружком. Он был режиссёром, ставил спектакли, а Мурашко была суфлёром. Люди говорили, что она нашу семью разбить хочет, что она на любую пакость способна. Она грозилась донос на Михаила написать. Написала и сразу всем сказала, что Миша арестован, что он – «враг-народа». Она грозилась мне глаза серной кислотой выжечь, чтобы я в её личную жизнь с Михаилом не лезла. А я и не знала, что у неё с моим мужем личная жизнь.
За что мужа арестовали, понятия не имею. Он сейчас работает электриком в бухте Нагаево, Берелех Лагпункт ГУ. Оттуда мне письма приходят.
Сталину я написала письмо по просьбе мужа. Он сам написал письмо вождю, а я его отправила в июне 1939 года. Ответ пришёл первого октября 1939 года на моё имя. Заместитель прокурора Московской области Долинский написал такое заключение: «Обвинение на Михаила Купцова базируется на показании двух свидетелей: учительницы Ксении Мурашко 1908 года рождения и завхоза Игната Неумелого 1910 года рождения.
Никаких доказательств вины Купцова нет. Мурашко, написав донос, отомстила Купцову за то, что он её бросил. Достоверность показаний Мурашко никто не проверил. Свидетелей о том, что Купцов говорил о «кнопке, при помощи которой можно взорвать канал», нет. Неясно, где, когда и при каких обстоятельствах Купцов говорил про «кнопку» и про диверсию на канале. Обвиняемому этих вопросов никто не задал. Никто не спросил начальника участка, на котором работал Купцов, о моральных и трудовых качествах обвиняемого.
Нарушена 206 статья УПК: Купцову не предоставили возможность ознакомиться с делом, по которому его обвинили. Дело совершенно не расследовано. На этом основании прихожу к заключению, что постановление Особого Совещания при НКВД от 24 апреля 1938 года по настоящему делу подлежит отмене, а само дело должно быть обращено к доследованию.»
– Вы лично знакомы с Риммой Марковой?
– Нет. Я знаю, что она играла в драмкружке. Один раз Миша меня на спектакль приглашал. Она там Снегурочку играла. Красивая женщина.
– Говорят, что у неё сын от Михаила Купцова родился.
– Люди много чего говорят. Теперь всех собак хотят на него повесить. Он больше года в тюрьме. Как от него ребёнок мог родиться?
Записано с моих слов верно. Вера Купцова.
Больше её на допросы не вызывали. Допросили начальника участка, на котором работал Михаил. Тот посмеялся над выдумкой про «кнопку». Добавил, что Купцов работал электриком в жилом фонде и на канал у него доступа не было, добавил, что канал – секретный объект. Все, кто имеет доступ к системе управления шлюзом, специалисты высочайшего класса – инженеры с высшим образованием. А Купцов – простой рабочий со средне – техническим образованием. Ему до инженера дорасти ещё нужно и опыта набраться. Единственный недостаток у Купцова – балагурит много, пытается себя показать лучше, чем он есть. В компании Мурашко много разных личностей подозрительных было, вот он перед ними и красовался. Мало ему драмкружка было, доигрался…
Из актёров драмкружка самой разговорчивой оказалась Римма Маркова 1919 года рождения. Она подтвердила, что ни о каких «кнопках» Михаил никогда не говорил. Сказала, что он хороший, добрый, честный, безотказный человек, всем готов помочь, весёлый, жизнерадостный, душа компании. Пел, на гитаре играл, стихи читал. С Мурашко у него конфликт вышел из-за того, что он перестал ходить на вечеринки в её квартиру. Она рассердилась. Устроила скандал при всех, сказала, что отомстит Купцову страшной местью, что он её по гроб жизни помнить будет. Самой Римме Мурашко много вредила: то от платья кусок отрежет, то стёкол в туфли накрошит. Ревновала. Завидовала молодости…
Соседки по бараку рассказывали потом, что Римма после допроса долго плакала и всё повторяла:
– Как же так? За что? Я ведь не знала, что у него жена и двое детей… Он мне сказал, что бобылём ходит… Ах, Мизгирь мой беспутный. Сгубил ты себя и свою Снегурочку… Мать-Весна меня любовью одарила, а что делать с ней не научила.
– Ты о чём так горько плачешь, девка?
– Роль репетирую, не мешайте…
– Драмкружок закрыли ведь, где теперь играть будешь?
– В Полесье к маме уеду. Хватит. Наработалась тут на канале. Страшно здесь. Люди злые, жестокие. Заключённых из Дмитлага много, а вольнонаёмных, как мы, мало. Я ведь замуж хотела выйти, поэтому по объявлению сюда приехала. Мамка меня отговаривала, как чуяла… эх, поздно плакать… Уеду я домой…
Как сказала, так и сделала. Бабы у колодца позлорадствовали:
– Улетела от стыда подальше. Отец родный у сыночка – «враг-народа», плохое наследство для ребёнка. Здесь каждый пальцем ткнёт, а в Полесье ври, что хочешь, никто не узнает правды-то.
– Может, она с Купчиком сговорилась и к нему помчалась?
– Как бы не так. Зачем ей дитё за решётку прятать? Вон Верка – жена законная, не едет никуда, здесь сидит.
– Верка не декабристка, а колхозница, а Римма из служащих, городская. Ей Икша наша мала. Пусть в своём Полесье живёт-поживает и мальца ростит…
Вера уехать не могла, потому что ждала писем от мужа. Молилась каждый вечер, просила защиты у Бога. Он её молитвы услышал. Дело пересмотрели повторно.
Особое Совещание при Народном Комиссаре Верховных Дел СССР 5 октября 1940 года слушало пересмотр дела №6539 по обвинению Купцова Михаила Юрьевича 1906 года рождения, осуждённого 25 апреля 1938 года на пять лет Исправительно-Трудовых Лагерей.
Постановили: Купцова Михаила Юрьевича из-под стражи освободить. Подпись и печать.
В протоколе Совещания указано, что Ксения Мурашко оговорила человека. Высказывания Купцова свидетельствуют не о диверсионных действиях, а о явном бахвальстве. Он выставлял себя большим специалистом, выходцем из буржуазной среды, богатым и даже вредителем, судимым в прошлом, чего фактически не было. Он вырос у бабушки, рано стал сиротой. С 1919 года работает, никогда не был судим, компрометирующих его данных, кроме заявления Ксении Мурашко, нет.
От Михаила Вере пришло письмо. Крупными буквами было написано: «Освобождён досрочно 24 октября 1940 года. Ура!!! Дело пересмотрели. В Икшу приехать не могу, остановлюсь в Кимрах. Приезжай».
Адрес ей написал и денег прислал. Где взял-то? Неужто, в лагере платили? Или уже на работу взяли и подъёмные выдали?
Вера детей сестре Ляле отвезла, помчалась к дорогому Мишеньке счастливая, наполненная любовью и нерастраченными чувствами.
Наговориться не могли, налюбоваться друг другом. Божечки! Разве бывает так хорошо до изнеможения? Бывает ещё лучше… Через три дня Вера опомнилась. Домой пора к детям. Вите уже пять лет. Аделаиде – три. Большие, самостоятельные. Папку ждут.
– А как в посёлке? Что слышно?
– От Мурашки все отвернулись. Из школы её уволили. Даже старенькая учительница, которая к нам в дом приходила, с ней дружить перестала. Теперь Мурашко в буфете работает, пиво мужикам наливает. Бабы много чего говорят, да я не больно-то их слушаю.
– Правильно делаешь. А драмкружком кто руководит?
– Никто. Закрыли его. Артисты разбежались, кто куда. Снегурочка сына родила неизвестно от кого и уехала в Полесье.
– Давно?
– После того, как к следователю сходила. Её по твоему делу вызывали, как свидетельницу.
– Что она сказала?
– Откуда мне знать. Я ведь с ней дружбу не водила. Бабы сказали, что ребёночка она нагуляла с Мизгирём каким-то. Не ты ли, тот Мизгирь, Миша?
– Не я, Верочка родная, не я… Я в заключении два года провёл на Колыме по Мурашкиному навету. Спасибо Сталину, дело пересмотрели. Заместитель прокурора молодец, защитил меня. Он сразу увидел, что дело – фальшивка. Два человека состряпали донос, а я и слыхом не слыхивал про то, что они там написали. Позорное клеймо мне прилепили из-за того, что я Мурашке отворот-поворот дал. Не сумела она нас с тобой разлучить. Не сумела. Вместе мы по гроб жизни, Верочка моя родненькая. Здесь останемся с тобой, заживём новой жизнью. Меня на станцию тепловых приборов мастером взяли. Им такие, как я, специалисты высокого класса очень нужны. Деньги будут хорошие платить. Жильё обещают. Здесь нам лучше будет, не сомневайся, Верочка.
– Я не сомневаюсь, Миша. Я люблю тебя безоглядно и верю тебе.
Она вернулась на Икшу, собрала вещи: один чемоданчик на троих. С работы увольняться пока не стала, как чувствовала. От Миши письмо пришло, что переводят его в Карелию. Там должность старшего механика предлагают. Отказываться нельзя ему в Кимрах остаться. Из-под ареста его освободили, но судимость ещё не сняли, поэтому нужно подчиняться приказу и ехать в Карелию, иначе – новый срок намотают.
Прошёл год, прежде чем Михаил денег скопил семье на дорогу. Вера дочку родила, назвала Надей, Надеждой. Михаил ликовал. Не пропал его запал на Колыме. Не сломили его силушку золотые прииски. И Верин дар любви не пропал. Скоро всё семейство вместе будет. В Карелии красота.
Путь сюда неблизкий, но Вера справится. До Ленинграда поездом, а там – уже недалеко. Михаил навстречу поедет. Главное знать, на какой поезд билеты она купит. Договорились, что Вера даст ему телеграмму.
Вера так и сделала: билеты купила, телеграмму отправила. Чемоданчик собрала, на вокзал с детишками отправилась. А по перрону отец её идёт Матвей Будулаевич Огневой – цыган красавец.
– Тя-я-тя-я… Божечки мои, – Вера бросилась ему на шею, разрыдалась в голос. Он её не успокаивал. Просто рукой по спине водил вверх, вниз, вверх, вниз…
– Ты куда с малыми детками собралась?
– К вам хочу, тя-тя, домой…
– Едем…
Отец сдал билеты, увёз Веру с внуками в скит, в привычную лесную тишь и благодать.
Михаил нарядился, поехал встречать семью. Сердце колотилось так, словно вырваться из грудной клетки хотело. Михаил подумал – сентиментальность. Трое детей и жена молодая – это не шуточки. Наденьку он вообще не видел. Да и Аделаиду с Витей позабыл. Веру помнит. Глаза её бездонные. Утонуть можно в них. Он и тонет постоянно. Постоянно…
Странная суета на перроне вывела его из забытья. Бабы заголосили, люди забегали, появились военные с оружием.
– Беда. Поезд с рельсов сошёл. Живых нет…
– Какой поезд? Откуда?
– Московский поезд, московский…
Михаил рухнул на землю и завыл, как раненый зверь. Не-е-е-т… Жена и трое детей разом… За что? Неужто, это всё Мурашкина месть? Убью её, удушу собственными руками. Поднялся с решительным намерением ехать на Икшу и вершить самосуд. Посмотрел на воющих баб, на военных и вездесущих сотрудников НКВД, остыл. Снова попасть в лагерь не хотелось. Ему за простой трёп расстрельную пятьдесят восьмую статью влепили, а за убийство – высшая мера… Это слишком шикарный подарок для Мурашки. Он на это не пойдёт. Он поживёт ещё и найдёт способ отомстить ей.
Ему нужно Римму Маркову найти. С ней он теперь семью будет строить. Он ей обещал жениться, а обещания свои он всегда выполняет. Вера обмолвилась, что Снегурочка сына родила от Мизгиря и в Полесье уехала. Адрес её в память ему врезался зачем-то… Когда они с Риммой на сеновале лежали она всё повторяла, повторяла свой адрес, словно предчувствовала, что расстаться им придётся. Хорошо, что она такой настойчивой была тогда… Нужно ей послать телеграмму срочную…
Михаил пошёл на почту, взял бланк, написал: Дорогая Римма… Скомкал его, сунул в карман, ушёл. Не сейчас. Боль огненной стрелой пронзила сверху вниз… Может спаслись мои птенчики и несмышлёныш мой, Вера… Бог милостив… Есть живые? Нет… Месиво. Ищут врагов, устроивших диверсию…
– Тут точно кто-то кнопку нажал, – подумал Михаил и побрёл прочь.
Был конец мая 1941 года. Через двадцать дней стремительно, неожиданно для всех началась Великая Отечественная Война. Михаил рвался на фронт, но его не взяли. Судимость ещё не снята, сиди в тылу.
– Меня оправдали, обвинение сфабриковано завистливой бабой, – горячился Михаил. Но его никто не слушал.
– В документах написано – судимость, значит призыву не подлежишь. Когда судимость снимут, тогда и на фронт пойдёшь. Следующий…
Ровно через месяц 22 июля 1941 года немецкие люфтваффе совершили массированный налёт на Москву. Двести двадцать стервятников пять часов четырьмя эшелонами с разных направлений налетели на столицу. Генерал – фельдмаршал Альберт Кессельринг напутствуя их, сказал:
– «Надеюсь, что прогулка будет приятной! Увидев парад немецкой авиации, русские препятствия не создадут. К Москве можно будет подойти спокойно на низкой высоте».
Но к Москве прорвались единицы. В этот день немецкая авиация частично разрушила тридцать семь зданий. Было убито сто тридцать человек, ранено шестьсот шестьдесят. Немецкая армада потеряла в небе над Москвой двадцать два самолёта. Такой поворот событий не остановил немецкую армию. Массированные бомбардировки продолжались до лета 1942 года, но существенного урона столице они больше не нанесли. Войска ПВО Красной Армии отражали почти все атаки противника.
8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда, которая длилась восемьсот семьдесят два дня и закончилась 27 января 1944 года. Всё это время Михаил жил в городе Сегеж. Там было относительно спокойно. Он работал главным прорабом на строительстве Одинской ГЭС и ждал, как и все советские люди окончания войны. Слушая сводки от Советского Информбюро о продвижении советских войск к Берлину, он думал о том, что вся страна ждёт досрочного освобождения и не знает, кому просьбу о помиловании послать. Если бы знали кому, давно бы написали такую просьбу всем миром. Давно бы… Неужели нам всем пять лет строгого режима впаяли? Думал он.
Оказалось, впаяли чуть меньше – четыре. Но если посчитать горе, слёзы, боль и разрушения, то на высшую меру потянет… На высшую… За что???
3
Михаил Пляцковский
4
Объединённое Государственное Политическое Управление
5
«Бессмертный барак» – Ответственный редактор Абрамов С. В.