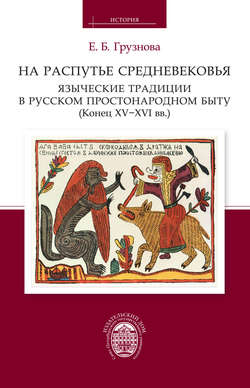Читать книгу На распутье Средневековья: языческие традиции в русском простонародном быту (конец XV–XVI вв.). - Елена Грузнова - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2
Сфера языческой культуры в конце XV–XVI вв.
Совмещение религиозных практик
ОглавлениеДействия, подобные вышеописанным, легко могли совмещаться с элементами, заимствованными из христианского культа, что считалось очень серьезным нарушением. Составитель все того же Чудовского списка с горечью писал: «а се иная злоба в крестьянех ножем крестять хлеб, а пиво крестять чашею».[188]
Защитники православия старались не только бороться с самовольным использованием христианской символики, но и в принципе изменить отношение народа к ритуальному питию горячительных напитков, обилию и свободе пиршеств, особенно приуроченных к дням почитания святых из-за совпадения церковного и земледельческого календарей. 20-й вопрос 41-й главы Стоглава призывал царя запретить пьянство и азартные игры детям и людям боярским «и всем бражникам», а 52-я глава памятника, предназначенная монахам, объявляла: «…празники не Божии чтите но диавола, егда ся обьядаете и упиваете и блюдите».[189]
Но почитание установленных церковью праздников не только сопровождалось обильным столом, более пригодным для языческих оргий, но и получало весьма специфическую форму, не имевшую ничего общего с христианством. Так, например, образы христианских святых Анастасии и Параскевы оказались совмещены непоследовательными прихожанами с языческой верой в предупредительное значение снов и видений. И участники собора 1551 г. вынуждены были разъяснять, что не Божии угодницы, а бесы являются нашим предкам, подучивая их не работать по средам и пятницам.
Подобные накладки происходили из-за того, что из христианского вероучения «в народе использовали… главным образом его магическую сторону, надеясь на помощь христианских “святых“ и “заступников“ при решении чисто практических задач повседневного быта».[190] Но, по наблюдению А. Я. Гуревича, «смешение религии и магии вызывалось не только неодолимой потребностью верующих видеть и испытывать чудеса и добиваться нужного им результата при посредстве колдовских действий, но и неясностью в понимании самими духовными лицами различия между христианством и языческой практикой».[191]
Это со всей очевидностью показывает и Стоглав, зафиксировавший освящение приходскими батюшками предметов, мало связанных с православным культом, но игравших важную роль в языческих представлениях. Второй из дополнительных вопросов сообщает: «Иная убо творится в простой чади, в миру дети родятся в сорочках, и ти сорочки приносят к попом, и велят их класти на престоле до шести недель. И о том ответ. Вперед таковыя нечистоты и мерзости во святая церкви не приносити, и на престоле до шести недель не класти, понеж и родившая жена до четыредесят дней дондеже оцыститца в святую церковь не входит».[192] (В Нидерландах считали, что на время от родов до очищения женщина как бы вновь превращается в язычницу[193].)
«Сорочки», т. е. остатки последа, воспринимавшиеся церковью как «нечистота и мерзость», для мирян повсеместно являлись признаком счастья и сверхъестественных способностей владельцев. Более того, на Русском Севере рубашка, в которой родились теленок, ребенок, жеребенок, считалась наделенной лечебными свойствами и способной уберечь своего владельца от неудачи при судебном разбирательстве,[194] поэтому ее бережно хранили в течение всей жизни и даже передавали из рода в род.[195] (Обереговые функции «сорочки» отразились и в ее названии, идентичном наименованию тканой одежды с вышивкой, также являвшейся охраняющим священным предметом [196]).
В сообщении Стоглава любопытны доводы, приводимые иерархами в подтверждение невозможности осквернять алтарь «сорочками»: остатки плаценты имеют отношение к родам и должны подвергнуться сорокадневному очищению, как и все, что связано с появлением ребенка на свет. Но если мать младенца через шесть недель могла войти в храм, то в отношении «сорочки» это было уже не актуально. Не случайно собор не уделяет внимания ее дальнейшей судьбе. Видимо, в глазах простой чади утверждение сверхъестественного статуса биологической оболочки могло происходить только в рамках переходного периода, который на Руси обычно составлял 40 дней. Принос сорочки в церковь в течение этого времени, вероятно, рассматривался и как своеобразное очищение от скверны инобытия, и как способ увеличения ее таинственной силы за счет соприкосновения с христианской святыней. Судя по всему, подобное запретное соприкосновение происходило нередко, так как предназначенные к рассылке на места наказные списки Стоглава включают указанную статью в полном объеме.[197]
Безусловно, церковь не могла допустить превращения алтаря в место совершения обрядов, характерных для язычников. Ведь посредством описанных действий простонародье и потакавшие ему священники вольно или невольно включали храм в старую картину мироустройства, отводя ему соответствующее место среди прежних почитаемых объектов – воды, деревьев, камней и т. д., также использовавшихся для увеличения магических свойств тех или иных вещей. Именно поэтому аналогичное постановление тут же было принято собором, а затем включалось в наказные списки, в отношении схожего обращения с мылом: «Да на освящение церкви миряне приносят мыло, а велят священником на престоле дръжати до шести недель. И о том ответ. Вперед священником на освящение церкви от мирян мыла не приимати, и на престоле до шести недель не дръжати», так как это нарушение, за которое отныне священнику грозило отлучение.[198]
Этнографические материалы показывают, что освящение мыла прихожане обычно приурочивали к Великому четвергу, имевшему сакральное значение и в христианской, и в языческой традиции, в том числе в рассматриваемую эпоху. По мнению В. К. Соколовой, такая привязка объясняется одним из названий четверга Страстной недели – Чистый, так как в этот день в большинстве русских и белорусских районов мылись сами и очищали дома.[199] На самом деле чистой называли всю предпасхальную седмицу, поскольку в продолжение ее христиане символически проделывали последний путь Спасителя к возрождению, последовательно освобождаясь от скверны инобытия. Так что освящение мыла именно в четверг имело иные причины, о которых речь пойдет чуть ниже.
Здесь же интересно отметить, что указанные манипуляции производились в названный день не только с мылом, но и с солью, так что если и можно связывать их с представлением о чистоте, то о чистоте ритуальной, а не физической, символом которой как раз выступало мыло. Поэтому для придания последнему священного статуса и требовалось поместить его на алтарь. Не исключено, что в памятнике речь идет о дополнительной сакрализации мыла, так как в XVIII–XIX вв. в оздоровительных целях использовалось так называемое «мертвечье» мыло, приобретавшее силу после того, как им обмыли покойника[200].
Что касается обычая приготовления соли, то он, по наблюдению той же В. К. Соколовой, «специфичен именно для „чистого“ четверга, ни на какие другие дни он не переносился».[201] Но способы приготовления были различными: соль на ночь оставляли на столе вместе с хлебом, пережигали на угольях, клали в узелке в печь или ставили туда вперемешку с квасной гущей до субботы, а в Белоруссии и на Смоленщине соль и мыло выносили ночью на улицу.[202] В XVI же столетии источники зафиксировали способ, сохранявшийся еще и в XIX в. в Лепельском уезде Витебской губернии и в Малороссии, где соль обжигали в печи, а затем несли ее на освящение в церковь.[203]
Цель подобных операций достаточно внятно проясняет Стоглав, 26-й вопрос 41-й главы которого гласит: «…никоторый ж невегласе попы в великий четверг соль под престол кладут, и до семого четверга по велице дни тако дръжат, и ту соль дают на врачевание людем и скотом. И о том ответ. Заповедати в великий бы четверг… соли бы попы под престол в великий четверг не клали, и до седмого бы четверга по велице дни не дръжали, понеж такова прелесть эллинская и хула еретическая».[204]
В свидетельстве памятника обращает на себя внимание как срок превращения соли в лечебное средство – семь недель вместо привычных шести, так и место ее хранения – под престолом, а не на нем, как в случае с «сорочками» и мылом. Эти особенности указывают, на наш взгляд, на связь данного обычая с культом мертвых, наиболее активно отправлявшемся как раз в промежутке между Великим четвергом и седьмым четвергом после Пасхи – Семиком. И на первый, и на второй дни приходились обряды почитания предков, предполагавшие совместную трапезу живых и мертвых, соответственно в пасхальное воскресенье или на Радуницу и в Троицкую субботу. Кормление предков на Радуницу вместо Пасхи объясняет, почему прихожане требовали держать соль под престолом 7, а не 6 недель – пасхальная седмица воспринималась в русском православии как один день, поэтому при общем счете от Великого четверга до Семика проходило привычное сакральное время преобразования – 40 дней.
Интересно, что кушанья для пасхального пира заготавливались именно в четверг, причем Н. Я. Гальковский обратил внимание на то, что молоко, мясо, хлеб и, что существенно в свете рассматриваемого сюжета, соль помещались хозяйкой в укромном месте двора, под крышей дома или на ней вплоть до Светлого дня, когда употреблялись в пищу. Соль же использовалась затем в разных ситуациях как чудодейственное средство.[205] Следует отметить, что четверговая соль в одинаковой степени могла принимать на себя как позитивную, так и негативную энергию, поэтому в Старорусском уезде Новгородчины по сей день уверены, что давать соль из дома в Чистый четверг нельзя во избежание порчи [206].
Вопрос о весеннем общении с умершими более подробно будет рассмотрен в отдельной главе, здесь же отметим, что Б. А. Успенский предположил связь между четверговой солью и почитанием предков, исходя из других оснований. Он думает, что обряды с золой и пережигаемым с солью пеплом производились в Великий Четверг, так как имели отношение к культу древнего славянского бога Волоса, покровителя скотоводства и властителя потустороннего мира. Его священным днем считают четверг, из-за чего приготовленная описанным образом соль давалась скотине как целебное и плодоносное средство и хранилась для предотвращения от громового удара, посылаемого противником Волоса, громовержцем Ильей.[207]
В нашем случае внецерковная часть магических действий не упоминается, речь идет только о принесении соли в храм для приобретения ею лечебных свойств. Именно оздоровительный характер обрядов, проводившихся в Великий четверг, по мнению И. П. Калинского, заставил Стоглав восстать как против освящения соли, так и против купания или обливания водой до восхода солнца, а также против очистительных костров, отражавших языческие представления о пробуждении влиявшей на здоровье человека природы.[208]
Действительно, названный источник приравнивает четверговые костры к «эллинскому бесованию» – зажиганию огней в новые месяцы, особо выделяя при этом март, до середины XIV или даже до конца XV в. являвшийся на Руси первым месяцем года (согласно В. И. Чичерову – до 1348 г., а по данным Н. С. Полищук – до 1492 г.[209]). Великий четверг тоже был своего рода началом – началом возрождения природы для всех и воскрешения Христа для православных. Именно новизна делала этот день источником полноценного здоровья для всего живого. Чтобы приобщиться к его силе, люди и прибегали к испытанному средству – вступали в новую пору жизни через огненную черту, повсеместно считавшуюся лучшей преградой для всего, что необходимо было оставить в прошлом. Но огонь в этом случае должен был обладать определенными свойствами – быть «живым», новорожденным, обладающим первобытной силой стихии. Для этого, например, в Новгородской губернии живой огонь добывали при общем сборе, на котором старшая женщина выбирала здоровую бабу, а старший мужчина – мужика. Избранные раздевались до нижнего белья, а баба обязательно одевалась в грязную рубаху, и терли сухие поленья до появления древяного, обычно можжевелового огня.[210]
Подробности разведения и дальнейшего использования живого огня в XVI в. даются в толковании 93-й главы Стоглава на 65-е правило шестого Вселенского собора: «…в великий четверг труд полагают в древо, и то древо иж имать во обоих концах труд, концы полагают в два древа, и трыют дондеже огнь изыдеть, и той огнь вжигають во вратех, или пред враты домов своих, или пред торговищи своими сюду и сюду и тако сквозе огнь проходяще с женами и с чады своими по древнему обычаю волхвующе, якож писано ес в четвертом царствии о Манасии цари, иж сквозе огнь проведе чада своя вражаше и волхвуаше, и разгневи бога, всякое бо волхование отрече ес богом, яко бесовское служение ес, сего ради собор сей, отныне таковая творити, не повелел ес, и запрещает причетником, извержением простым же отлучением».[211]
Очистительный характер прохождения сквозь огонь, разжигавшийся, к тому же в местах, обозначавших границу между двумя пространствами – внешним и внутренним, очевиден. В. К. Соколова отмечает повсеместность четверговых очистительных обрядов у народов Европы, но в качестве средства в них обычно использовалась проточная вода, которой обливались, мылись в бане либо купались в естественном источнике. Окуривание же этнографические материалы фиксируют в Вологодской, Вятской, Новгородской губернии и в Сибири. При окуривании, совершавшемся до рассвета, хозяин или нагая простоволосая женщина с иконой в руках и верхом на помеле, ухвате, кочерге или клюке очерчивали магический круг или обсыпали двор зерном, обладающим функциями оберега.[212] В описании Стоглава дело ограничивалось зажиганием костра у входа и провидением через идущий от него дым семьи в ритуально чистое пространство. Языческое происхождение данных действий церковные иерархи подчеркнули как ссылкой на ветхозаветное предание о Манасии, так и определением их характера – волшебные.
Взаимозаменяемость понятий «волшебный» – «лечебный», выясненная И. П. Калинским на приведенном примере, подтверждают и данные этнографии. Так, Н. Е. Грысык предположил, что «медицина как особая отрасль знаний у русских выделяется достаточно поздно. Медицинские знания входили составной частью в магико-онтологические представления; и русский материал ценен именно тем, что сохраняет живые связи с этим наследием. Представления о болезнях, традиционные способы их лечения оформлялись, классифицировались и вписывались в общую картину мира по собственным законам. Человек и домашние животные не вычленялись из природы, а рассматривались как ее элементы и шире – как элементы космоса. Основная цель лечебных и профилактических обрядов заключалась либо в восстановлении нарушенных связей человека и домашних животных с природой, либо в поддержании и упрочении этих связей…».[213] Как раз обеспечение правильных связей с возрождающейся природой и было, на наш взгляд, целью четверговых «пожаров», лечебная же их функция являлась лишь одним из результатов огненного волхования.
В магической практике Средневековья большую роль играли не только центральные дни церковного календаря, но и предметы церковного культа. Причину такой ситуации следует видеть в том, что, как заметил Г. Ловмянский, обращение за помощью ко всем возможным святыням в трудных обстоятельствах соответствует языческому образу мышления.[214]
Возможность использования христианских символов для колдовских целей была предметом постоянной заботы исповедников. Уже в XIV в. в требниках встречаются вопросы об изъятии из церкви фрагментов икон или креста «на потворы или наузы». В следующие столетия список того, что выносилось из храмов для волшебства, несколько увеличился и в мужской, и в женской части вопросников. В качестве цели посягательств, помимо крестов и икон, стали упоминаться привески к иконам, церковные дары, а также мох, паутина и облупившаяся краска с церковных стен: «А дары чи взимал на что-любо? А крест или иконы или очи святых изимал еси на которыя потребы или наузы?»; «Не имал ли еси очей у святых или мошку, или паучине, или троски ворожи деля, или у церкви чего-нибуди».[215] Все это подлежало юрисдикции церковного суда.[216]
Для чего именно могли использовать добытую святыню, показывают материалы по Сербии – здесь соскребенную с иконы или фрески Богородицы краску растворяли в воде и пили как средство от бесплодия.[217] В наших же требниках иногда указывается, что связанные с христианством вещи были нужны для изготовления потворов и наузов. В состав последних, согласно колдовским делам XVII в., действительно могли включаться не только травы, коренья, кости змей и летучих мышей, но и, например, медные крестики и тексты молитв.[218] Интересно, что вопрос о ношении наузов или нашивании их на ворот детям, как справедливо заметила М. В. Корогодина, встречается в основном в текстах для женщин.[219] Но возможность их создания одинаково приписывалась и женщинам, и мужчинам.
Некоторые покаянные вопросы позволяют предполагать, что именно колдовскими целями следует объяснять и какую-то часть церковных краж. Сакральное назначение такого воровства трудно увидеть в вопросах типа: «Или церкви крал еси? Или мертвеца лупил еси?», «Гробы раскапывал или мертвых лупливал?», «Не покрадовал ли еси гроба?», «Или мертвеца ограбил?».[220] Но в следующем фрагменте из сборника первой трети XVII в. оно проступает совершенно отчетливо: «С мертвеца ризы крадывала ли, на могиле земли имала ли?».[221] Если кража с мертвеца или из гроба может рассматриваться как обычное воровство, то освященная земля с могилы никакой материальной ценности не имела, зато несла в себе столь нужную для колдовства магическую силу. Кстати, процитированный вопрос показывает ошибочность вывода М. В. Корогодиной, будто ограблением мертвецов занимались исключительно мужчины [222] – ради волшебства это могли делать и женщины.
Особо интересовало исповедника, не используют ли его духовные чада в колдовской практике главный символ христианства: «Кресту Христову не поругался ли еси?», «Или крест под ноги клала?».[223]Эти вопросы встречаются в женской и мужской части требников и в XVII в., что не удивительно. По наблюдению М. В. Корогодиной, крест под пятку клали колдуны для отречения от Христа и призывания Сатаны, о чем говорят записи заговоров XVII–XVIII вв.[224] Поэтому статьи о поругании креста эта исследовательница в отличие от Я. Н. Щапова справедливо считает направленными не против порчи христианского символа, а против его использования в магических целях.[225]
Обвинения в неподобном использовании символа креста могли предъявляться и представителям церкви. В послании 1488 г. новгородский архиепископ Геннадий рассказывал суздальскому епископу Нифонту: «Да с Ояти привели ко мне попа да диака, и они крестиянину дали крест телник древо плакун, да на кресте том вырезан сором женской да и мужской, и христианин де и с тех мест начал сохнути, да не много болел да умерл».[226] По мнению Н. А. Криничной, крест из плакуна был изготовлен в соответствии с предписаниями травников, в которых плакун значился как средство против бесов
и колдовских чар. Считалось также, что корень плакуна дает магическую силу и власть над травами. Обычно его привязывали к нательному крестику или навешивали на шелковый пояс, а молитва священника давала такому корню дополнительную силу.[227]
Как уже отмечалось, по представлениям церкви, крест и молитва были самодостаточны в борьбе со злом и не требовали подкрепления другими средствами, тем более из колдовского арсенала. Использование для креста магического корня уже являлось нарушением и свидетельствовало о сомнении изготовителей в могуществе христианского символа. Нанесение же на него фаллических знаков и вовсе являлось кощунственным, хотя вполне логичным с точки зрения магии.
Иначе трактует эту ситуацию В. Я. Петрухин, который считает, что в данном случае речь идет не о наследии язычества, а об антиповедении, поскольку изготовители креста наверняка считали себя добрыми христианами, тогда как книжник Геннадий всюду видел ересь.[228] Антиповедение является не более чем предположением ученого, тем более, что нам не известно, действительно ли поп и дьяк осквернили крест, или просто пали жертвой религиозного фанатизма. Что же касается попытки владыки приписать надругательство над крестом проискам еретиков-жидовствующих, то она не меняет сути зафиксированной им проблемы: христианская символика использовалась для колдовства, и подозревать в колдовстве могли даже священников.
188
Гальковский Н. Я. Борьба христианства с остатками язычества… Т. 2. С. 35.
189
Царския вопросы… С. 185, 251.
190
Сахаров А. М. Русская духовная культура в XVI столетии // ВИ. 1974. № 9. С. 129.
191
Гуревич А. Я. Средневековый мир… С. 348.
192
Царския вопросы… С. 168–169.
193
Рождение ребенка в обычаях и обрядах. Страны зарубежной Европы. М., 1997. С. 362.
194
Мазалова Н.Е. Народная медицина локальных групп Русского Севера // Русский Север. К проблеме локальных групп. СПб., 1995. С. 97.
195
Рождение ребенка в обычаях и обрядах. С. 76, 108, 169, 272–273, 354, 389, 412, 451; Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М., 1994. Стб. 404; Русские. М., 1997. С. 508.
196
Об этимологии слова подробнее см.: Гаген-Торн Н. И. Обрядовые полотенца у народностей Поволжья // ЭО. 2000. № 6. С. 109–111.
197
Беляев И. В. Наказные списки Соборного уложения… С. 29; Емченко Е. Б. Стоглав предполагаемый оригинал полной редакции // Исследования по источниковедению истории СССР дооктябрьского периода. М., 1990. С. 304; Павлов А. Еще наказной список по Стоглаву. Одесса, 1873. С. 28.
198
Царския вопросы… С. 169; Беляев И. В. Наказные списки Соборного уложения… С. 29; Емченко Е. Б. Стоглав… С. 305; Павлов А. Еще наказной список по Стоглаву. С. 29.
199
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX – начала XX в. М., 1979. С. 105.
200
Гальковский Н. Я. Борьба христианства с остатками язычества… Т. 2. С. 115.
201
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды… С. 104.
202
Там же. С. 104–105.
203
Калинский И.П. Церковно-народный месяцеслов… С. 193; Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды… С. 105.
204
Царския вопросы… С. 193.
205
Гальковский Н. Я. Борьба христианства с остатками язычества… Т. 2. С. 6.
206
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера… № 324. С. 84.
207
Успенский Б. А. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1983. С. 142.
208
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов… С. 193
209
Чичеров В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI–XIX веков. (Очерки по истории русских верований). М., 1957. С. 67; Русские. М., 1997. С. 576.
210
Журавлев А. Ф. Домашний скот в поверьях и магии восточных славян. М., 1994. С. 131.
211
Царския вопросы… С. 392–393.
212
Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды… С. 101–105, 150, примем. 12.
213
Грысык Я. Е. Лечебные и профилактические обряды русского населения бассейна Ваги и Средней Двины: пространственные и временные координаты // Русский Север. Ареалы и культурные традиции. СПб., 1992. С. 62.
214
Ловмянский Г. Религия славян и ее упадок (VI–XII вв.). СПб., 2003. С. 262–267.
215
Корогодина М. В. Исповедь в России в XIV–XV веках… С. 420, 431, а также 417, 418, 432, 434, 458, 460, 462–464, 467, 468, 470.
216
Смоленская «наказная» грамота… С. 153.
217
Толстой Н. И. Богородица // Славянские древности: этнолингвистический словарь. Т. 1. М., 1995. С. 217.
218
Гальковский Н. Я. Борьба христианства с остатками язычества… Т. 1. С. 289.
219
Корогодина М. В. Исповедь в России в XIV–XV веках… С. 215.
220
Там же. С. 424, 430, 434, 438.
221
Там же. С. 483; то же для мужчин – с. 422.
222
Там же. С. 167; СлРЯ. Вып 8. М., 1981. С. 307; Срезневский И. И. Словарь… Т. 2, ч. 1.М., 1989. С. 55.
223
Корогодина М. В. Исповедь в России в XIV–XV веках… С. 422, 468, а также с. 434, 464.
224
Там же. С. 230.
225
Там же. С. 283; Щапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси. XI–XIV вв. М., 1972. С. 78–81.
226
Казакова Н. А., Лурье Я. С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. М.; Л., 1955. С. 313.
227
Криничная Н. А. Русская мифология… С. 615.
228
Петрухин В. Я. Древнерусское двоеверие: понятие и феномен // Славяноведение. 1996. № 1. С. 44–45; Петрухин В. Я. Древняя Русь. Народ. Князья. Религия // Из истории русской культуры. Т. 1 (Древняя Русь). М., 2000. С. 302.