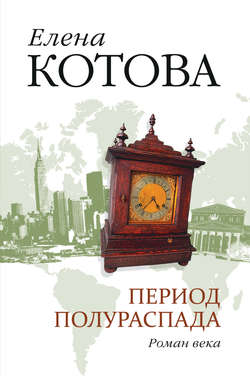Читать книгу Период полураспада - Елена Котова - Страница 9
История первая.
Сестры
Часть 2
Зеркальный вестибюль
Разросшаяся семья
ОглавлениеМоравовы радовались, что семья Хесиных облагородилась родством с Кушенскими, а квартира из коммунальной превратилась в почти семейную. Когда у Милки с Моисеем не было концертов, молодежь вечером музицировала – в комнату Маруси набивалось человек по двенадцать. На эти посиделки иногда заглядывали даже сестры Гнесины. Шурка время от времени приходила с Арамом Хачатуряном. Тот был еще совсем молод – на два года моложе Кати, – он еще был лишь талантливым студентом Гнесинки, берущим классы фортепьяно, виолончели и композиции одновременно. Арам и Шурка боготворили Рахманинова, с упоением играли Равеля, рассуждая о странной, завораживающей гармонии, его, казалось бы, лишенных мелодичности «Зеркалах». Рассуждали они и о джазе, которому Хачатурян предрекал великое будущее. Импровизировали в четыре руки на рояле, а Моисей, как мог, пытался украшать их импровизации басовыми нотами своего контрабаса. «Видишь, Милуша, как хорошо, что контрабас я все же оркестре не оставляю», – любил повторять он.
Каждый приход Хачатуряна превращался в праздник. Милка непременно пекла пирог с капустой, который она научилась под руководством Дарьи Соломоновны делать мастерски. Милка была беременна, но с удовольствием возилась у плиты, несмотря на сетования Моисея:
– Милуша, ну что ты все время возишься у плиты? Зачем такой большой пирог, тебе вредно уставать. Лучше напеки побольше маленьких пирожков!
Никто не задумывался над сибаритством Моисея, который тарелки за собой ни разу не вымыл. Никто не углублялся в размышления о смешении кровей. Никто уже не пенял Кате, что та бросила институт, ведь она так счастлива со Слоником. Когда не было гостей, семья все равно собиралась за вечерний стол вместе. Разговоры велись все больше о литературе. Катя выше всех почитала Тургенева, Маруся приносила книги современных авторов: Алексея Толстого, Горького. Роман «Мать» по очереди прочли все, но сошлись на том, что ранние рассказы, особенно «Старуха Изергиль», несравненно сильнее. Милка заявляла, что ей понравилась «Как закалялась сталь» – надо непременно спросить в письме Костю, похожа ли жизнь шахтеров на то, что описано в книге.
Но книги откладывались в сторону, как только появлялись Шурка и Хачатурян. Играли все подряд – джазовые импровизации, куски симфонических партитур, благо инструментов в семье было много. Если бы только не Трищенко, который отравлял все удовольствие!
Трищенко всегда с трудом терпел Марусиных учеников по вечерам. Бранился он и по поводу Милкиной виолончели, и контрабаса Моисея, хотя те репетировали по утрам, когда Трищенко проводил время в своей конторе. Но мода на концерты, которые эта семейка взяла за правило устраивать теперь по вечерам, переходила все границы. Едва раздавались в прихожей три звонка, Трищенко бросал свой обед с неизменной рюмкой водки и выскакивал в коридор в майке и подтяжках, двумя дугами обрамлявшими его внушительный живот. «Опять хулиганить явились?» – такими словами встречал он Шурку с Хачатуряном. «Мы не надолго, немножко посидим, мы тихо…» – отвечала ему волоокая Шурка, таща Хачатуряна за руку в комнату Маруси.
– Знаю я ваше «тихо», – вслед захлопнувшейся за ними дверью кричал Трищенко. – Не дают трудовому человеку отдохнуть после работы. Ну и что же, что нет одиннадцати! Имею право требовать покоя! Домоуправа завтра приведу. Ей-богу, приведу! Притон устроили из квартиры. Хоть бы приличную музыку играли, нет, только по клавишам барабанят.
Пару раз Трищенко приводил-таки в квартиру участкового, но того быстро поставила на место Маруся. Отчаявшийся Трищенко приноровился брать огромный жестяной таз и ходить с ним по коридору, колотя в него палкой. Сестрам было стыдно перед Хачатуряном, а тот только смеялся, не сводя глаз с Шурки и повторяя, что бывают соседи и хуже.
Квартиру наполняли аккорды фортепиано, синкопированные звуки контрабаса. Дарья Соломоновна, которой Слоник раз и навсегда запретил вмешиваться, лишь прикрывала голову подушкой у себя в комнате, пытаясь читать… А по коридору, стуча палкой в таз, все ходил Трищенко в майке, подтяжках, с красной лоснящейся лысиной и громко выкрикивал:
– Понаехали тут… Что за семейка! Пока были одни Хесины, еще куда ни шло. Хоть и евреи, а приличные люди. А эти? Нищета, ничего за душой, а сборища – каждую ночь! И армяшку этого приваживают! Ничего, найду я на вас управу, какая стала нехорошая квартира!
Но молодежь продолжала веселиться. Это было ее время. Так было каждый вечер, пока в квартире не появилась Лялечка, дочь Милки и Моисея, а значит, и всей семьи. Первый ребенок нового поколения. Никто не забывал, конечно, что у Татьяны, старшей сестры Кушенских, есть Тамарка. Но это было где-то далеко, за пределами зеркального вестибюля, да и Тамарка стала незаметно взрослой. А Лялечка – это дитя их новой жизни. С ее рождением музыкальные безумства прекратились в нехорошей квартире сами собой.
…Роды у Милки были трудные, она лежала в родильном доме Грауэрмана с общим заражением крови. Чуть ли не ежедневно ей делали переливания крови, через две недели, когда родильная горячка стала стихать и Милка сделалась транспортабельной, ее с дочерью перевели в Первую Градскую за Калужской площадью: воспаление перекинулось на суставы таза. Антибиотиков еще не было, шел двадцать шестой год.
Милка вернулась на Большой Ржевский, когда Ляльке было уже почти два месяца. Теперь она передвигалась при помощи костылей, но врачи говорили, что со временем ноги и таз могут и разработаться, главное, не перетруждаться, не носить тяжести. Моисей возвращался домой, теперь уже неся вместо контрабаса сумки с продуктами. Коляску с Лялькой спускала в лифте вниз Дуня, когда-то жившая у теток Оголиных в прислугах. Она вручала Милке костыли, и та отправлялась гулять с ребенком на Собачью площадку, что отделяла Малую Молчановку от Большой.
Пожалуй, тут и проявился истинный Милкин характер. Легкость нрава, казавшаяся легкомысленностью, обернулась стоицизмом. Болезнь не убавила в ней ни грана жизнелюбия, не сузила ее мир. Точнее, сузила, конечно, но Милка находила его по-прежнему прекрасным. Она суетилась на кухне, умело управляясь с костылями, переваливаясь тазом, шустро ковыляла в ванную стирать Лялькины пеленки. Когда Лялька начала ходить, она и Моисей, державший на руках дочь, выходили по воскресеньям на улицу Воровского, поджидали у Гнесинского института автобус, чтобы проехать одну остановку до Красной Пресни, затем пересаживались на троллейбус «Б» и ехали гулять в Нескучный сад.
Милка сидела на скамье, Моисей бегал по дорожкам с Лялькой на плечах, и они были счастливы. Они, да и остальная разросшаяся семья не размышляли над испытаниями, выпавшим им волей судьбы и страны, коловшим их мир на «до» и «после». Это «после» затем снова раскалывалось, и не раз, осколки множились в отражениях зеркал вестибюля, убегавших в прошлое, а жизнь, настоящая и особенно будущая, виделась прекрасной бесконечностью.
Катя помогала сестре чем могла: стирала, таскала на плиту ведра воды, кипятила постиранное. Милка сопротивлялась, отнимала у Катюши высохшее белье и часами, стоя у гладильной доски, гладила простыни, полотенца, скатерки, сорочки Соломона, Катины блузки чугунным утюгом, наполненным угольками, разогревала утюг на конфорке, когда угольки остывали. Через полтора года уже сама Катя родила дочку. Снова трудные роды, но все обошлось, и Катя радостно включилась в прежний ритм жизни, ни на что не жалуясь. Изредка они с Милкой вспоминали, что и их собственная мать, Катенька-старшая, умерла вскоре после родов, но не стоит думать, что это особая участь женской части семьи Кушенских. Надо радоваться жизни, их квартире, наполнившейся новыми жизнями, новым запахами – детскими, постирочными, кухонными, новыми звуками детского плача.
Жизнь семьи выплеснулась в общий коридор: Ляльке было уже два, она бегала, топоча крепкими ножками, по коридору, лезла на руки ко всем, цепляла женщин за юбки, путалась под ногами Дуни. С годами советской власти Дуня, вывезенная Костей в Москву вместе с сестрами, все больше обретала собственный голос, все больше проявлялся ее скверный нрав. С одинаковым упоением она набрасывалась на Трищенко, когда тот обижал ее семью, крича, что выцарапает ему глаза, огреет его шипящим утюгом, и злобно перемывала на кухне с его женой и Дарьей Соломоновной кости Милке и Кате, которые ее, Дуню, совсем заездили. Она носила тазы с кипятком в ванную с криком «Расступись!», а Милка или Катя выскакивали в коридор в страхе, что Лялька может ошпариться, на что Дуня отвечала бранью:
– В доме женщин полно, за ребенком присмотреть некому. Все барынями себя считают.
На это Катя, ничего не отвечая, тут же начинала собираться и отправлялась гулять с коляской, прихватывая на прогулку и Ляльку, чтобы Милка немножко отдохнула.
В коляске лежала Наташа, маленькое сокровище. Над Наталочкой, как с первого дня стал звать дочь Соломон, тряслись не только родители, но и все Хесины, не исключая и Дарью Соломоновну. Скоро из «Наталочки» девочка превратилась просто в «Алочку», а затем семья и вовсе забыла ее истинное имя, и «Алочка» стала Алкой. Соломон придавал особое значение тому, что Алочкин день рождения ровно на неделю позже дня рождения Катюши: у матери седьмого декабря, у дочери – четырнадцатого. Говорил, что первую годовщину дочери непременно будет справлять вместе с Катенькиной и соберет на этот главный праздник 1928 года всех родных – и Хесиных, и Костю с Мусей, а может, и Таня с Чурбаковым приедут… Лишь Олю звать в гости никому не приходило в голову: она совсем отдалилась, с головой ушла в работу, в загадочный расклад своего семейного пасьянса.
Маруся, единственная незамужняя из сестер, пару раз в году ездила в Тамбов навещать Олю, по возвращении рассказывала, что Ермолин с каждым годом все больше проигрывается, пьет, становится нехорош, а Оля и Владимир Иванович все более сближаются. Все трое ненавидят советскую власть, у них странные друзья, по вечерам обсуждают Троцкого, Бухарина, противоречивые, по их мнению, процессы в партии.
– Ничего в этом не понимают, но постоянно говорят, – досадовала Маруся. – Ругают индустриализацию, винят Сталина за колхозы. Как они могут об этом судить? Жизнь-то становится лучше. Не исключаю, что некоторые крестьяне не хотят в колхозы, но как можно из этого делать антисоветские выводы?
– В колхозы не идут только кулаки, которые разбогатели при помощи батрацкого труда. А в колхозах труд делится поровну, – утверждал Моисей.
– Я допускаю, да, что это, возможно, более справедливо и эффективно. Но, главное, мы же ничего в этом не понимаем, – продолжала досадовать Маруся. – Но мы и суждений не высказываем! А Оля и Владимир Иванович заряжены нигилизмом, это просто неприятно!