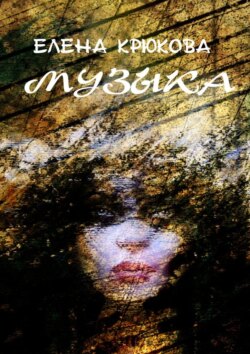Читать книгу Музыка - Елена Крюкова - Страница 5
ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ
Flauto piccolo
ОглавлениеФлейта. Древность. Звонкое имя.
Предок – фригийская флейта, двойная. Был еще авлос. Флейта косая, поперечная.
В восемнадцатом веке все играли на флейте. Кому не лень. И кто мог купить себе эту дудку.
Лютня, арфа, клавикорды и флейта. Таким ансамблем сопровождали спектакли.
Флейта малая, piccolo, звучит октавой выше обычной флейты.
Резкая, грубая, визжит. Как базарная баба. Я бы не хотела играть на такой.
Есть еще альбизифон. Басовая флейта. Зубр и бизон среди флейт. Я ее никогда не видала.
(сидят, едят. Шведский стол около Кремля)
Там, далеко, все кануло. Все утонуло в зимнем дыму. В чужих снегах. Здесь все близко, безумно и жарко. Много мисок стоят в ряд. Дымятся. Надо выбрать, наложить на сиротские голые тарелки еду. Роскошна! Никогда, такие салаты… Постругано мелко, порезано ювелирно. Повар в колпаке – в облаках пара. Звон, звон. Звенят бокалами? А может, падают с запястий наручные часы и бьются, бьются? Да нет, это куранты.
Рослый монгол, а может, бурят, каменно восседает напротив, косичка бежит по спине меж лопаток. Второй за столом – тоже высокий, каланча. Усы у него, как у Сталина. Девушка при них. Женщина, она хочет быть девушкой все равно, каждый день возвращаться назад, плевать ей на время. Глаза-лампочки. Косая челка. Снежная скатерть наброшена на плоскую, худую спину подобострастного стола. Нет времени! Нет, есть; оно просто бежит по белой скатерти очень быстро, как стыдный, преступный паук, что спустился на пыльной прозрачной нити с небеленого потолка. Рядом, в окне, Кремль. Он красный и страшный. Его башни, красные зубья, разгрызают время, знают его на вкус, кости его перемалывают, – а сами башни безвременны, их нельзя пристегнуть к ветру эпохи, к ветхому календарю.
Трое за столом. Монгол, а может, бурят встает и, чуть шатаясь, идет к раздатку. Шведский стол! Заплати в кассу смешную денежку – и сиди, пируй! Здесь вино не продают. Но можно тайком принести с собою, за пазухой. Усатый Сталин принес! Красное и сладкое.
– Девчонки такое любят!
Хитро смотрит. И штопор не забыл.
Есть счастье на земле.
Вина купить нельзя, а бокалы пустые взять можно: на столе, где пустые чашки для чая-кофе. Гигантские чаны с кипятком, не прикасайся, обожжешься. Вино, вино, пьем, пока молодые! Да в зале все пьют, и старики тоже. Времени ведь нет. Его убили. За это грех не выпить. Еле слышно, хрустально звенят куранты. Еще живые.
Монгол хватает поднос, по-цирковому подцепляет тарелки и блюдца, его руки ловки и умелы, они живут и дышат сами по себе, а лицо его недвижно и медно, и даже зеленью веков чуть схвачено, как плесенью загара: бесстрастный Будда. Руки, отдельно от монгола, бросают на фарфор и фаянс зеленые и лиловые листья салата, белые ломти крабов, мясных червей беф-строганова, рыжие лапти котлет, румяный картофель фри, и даже, о чудо, блинчики: с творогом, с мясом, с вареньем. Маслом полить! Они давно не видели масла. Не нюхали его.
Шведский стол, как он появился? Как они о нем узнали? Человек – зверь, для него люди соорудили тайную кормушку. Под боком у Кремля, да это все равно. Монгол несет поднос на вытянутых руках, опять звон, в зале, за окном, в ушах. Звон, звон, стон, стон. Кто это стонет? Твой народ? Он что, болен?
Поднос брошен на стол. Скатерть собралась в морозные складки.
Поехала, поплыла снежной гармошкой.
– Налетай, люди! Где еще, когда еще…
Они приходят сюда не в первый раз. Может быть, в третий. Или в четвертый. Они не считали. Усатый Сталин наливает вино в узкие высокие бокалы. Вино капнуло на скатерть, пятно растет, расползается. Жизнь, напротив, собирается, ее крошками со стола собирает в ладонь, в кулак некто невидимый и страшный, и не попросишь его о помощи.
Косая Челка берет бокал. Монгол садится, стул ножками громко процарапывает старинный паркет. Усатый Сталин нежно, осторожно вдвигает ножку бокала между длинных, как у музыканта, пальцев. Он не музыкант. Разнорабочий. И еще умеет тайком обращаться с холстом и кистью. Его картин не знает никто. А еще он тюкает на пишущей машинке разные слова. Слова складываются в печаль и горечь и пеплом оседают на мятых бумажных простынях. Усатый Сталин курит, а иногда шепотом ругается по-бурятски. Они оба, веселый монгол и мрачный усач, приехали в Москву из Улан-Удэ. Удэ, там рядом Китай. И Гоби. И золотой Очирдар сидит, скрестив голые ноги, в дацане в Иволге, и щурится, и лоснится его золотое, доброе и слепое лицо. Оно – небо: большое и незрячее. А люди только притворяются, что они видят и слышат.
Усач поднял бокал. Монгол поднял бокал. Косая Челка подняла бокал, все три бокала радостно содвинулись и издали небесный звон.
– Тише ударяй, разобьешь…
– На счастье!
– На счастье, дурак, повару за осколки заплатишь…
Смеялись. Зубы Косой Челки блестели в широкой улыбке. Жаль, она не видела себя в зеркале: зеркало маячило за спиной, во всю стену, – обернись, девка, ты сегодня так хороша.
– За что пьем?
– За все хорошее!
– А что у нас хорошего?
– Из дворников не гонят! Продержимся! еще немного.
– Люська, а может, ты в музыку свою вернешься? Зачем тебе поганая метла?
Жадно выпили. Сладко!
– Жить-то я должна. А то сдохну.
– Ну в ансамбль какой подайся! На радио там! Во дворец, там, культуры!
Косая Челка быстро, как воду, допила вино. Первым опустел ее бокал. Она жадно глядела на темную, как густая кровь, бутылку. Этикетка грязная, вино отменное. Бутылку будто из земли выкопали.
– Экая ты быстрая!
– Янданэ, налей ей. Видишь, она трясется.
– Трясется? Пляска святого Витта? Ломка? На, не мучайся.
Монгол плеснул Косой Челке в бокал еще вина.
Играй на разбитых тарелках, бей бокалы, живи, коли можешь еще жить, башни стерегут тебя, башни берегут свой старый беззубый кирпич, краснота, красота, снег перед Кремлем, все мы умрем, а завтра зима, а сегодня ноябрь, холстина дырявая неба свернута в длинный рулон, никто не влюблен, время ломается хлебом, время меняют и швыряют на свалку, мы выросли из него, люди идут в дурацких колпаках, высокая мода дохлой кошкой валяется под красной кремлевской стеной, на головах кастрюли, в руках полярные песцы, купите шапку, очень недорого, купите пишмашинку, еще дешевле, это «Эрика» или «Рейнметалл», да без разницы, а это что у вас? яйца? да, десяток яиц! только из-под курицы? я сама курица! а где твой петух? гарь железных повозок, вспышки слепящего света меж усов старых троллейбусов, Манеж, это просто золотой кулич, а Иван Великий просто сосулька, и с земли в небо свисает, идти в жесткой кожаной черной косухе и в диких красных резиновых сапогах, снятых с убитого на митинге парнишки, тоскливо жрать один раз в день, жарить картошку на гадком дешевом сале, получить бешеные, несчастные деньги за то, что метлой улицу метешь, а ломом неистово колешь железный лед, вчера ты музыкант, и музыка с тобой, сегодня инструмент твой отняли у тебя, а музыки стало еще больше, она вокруг тебя топчется, орет и плачет, льется смолой и черной кровью, клубится бензинной ли, табачной гарью, заливает тебя талым рыдальным снегом, и еле успеваешь отгребать ото рта, чтобы дышать, потоки ее: пена жемчужная, царской вышивкой, а вода страшнее грязи, люди идут, каблуки стучат, рты перекошены, слезы на бегу смахивает ветер, люди губы до крови кусают, кровь кулаком с подбородка утирают, им больно, у них на глазах убивают их время родное, а где царь, что отдал приказ время казнить? давайте мы лучше казним царя! а разве царей казнят? еще как казнят! лица горят, лица взрываются, шматки огня летят в стороны, уши военной ушанки мотаются на ветру, давно стреляли, и сейчас стреляют, пули бессмертны, жизнь одна, как хлеб, а едоков тьма, – не разделишь, всех все равно не накормишь.
Косая Челка высоко, выше головы, подняла красный бокал, приблизила ко рту и выпила одним глотком, до дна, одна.
Усатый Сталин захлопал в ладоши.
– Ай да Люська, ай да сукина дочь! Консерваторочка! Так вот они, смелые пианисты!
– Жалко, рояля тут нет!
– И органа – нет!
– Да тут ничего нет.
– Брось, Янданэ! Тут – жратва есть! Жратва – это ж музыка!
– Да, брат, прав ты. Это – музыка! Давай, дирижируй!
Навалились. Уминали беф-строганов. Ели, как жили. Жадно и быстро. Янданэ остановился, замер над котлетой.
– Ребята! Мы не едим, а жрем. Мы разве не в высшем обществе?
Оглянулись. За столами, накрытыми одинаковыми белыми скатертями, и уже позорно-грязными, уже запачканными, и презренно-нестираными, а все некогда замученному неистовыми приказами персоналу, сидели люди, такие же, как они, и так же быстро, наскоком, дико ели. Лишь один человек ел медленно. Он сидел в дальнем углу, оттягивал локтями скатерть, собирая ее в нежные водяные складки. За столом сидел в пальто. Звать – никто. Неужели его как-то звали? Ему не нужно было имя. Пальто расстегнуто. Пуговицы разные. На локтях заплатки. Медленно человек всаживал вилку в мясо. Медленно, горько подносил ко рту. И жевал так, будто – молился.
Девушка на миг увидала его глаза.
И отвернулась.
Ее руки лежали на скатерти и дрожали. Пальцами она беззвучно играла на столе музыку, которую любила.
– Чертовщина. Янданэ, мы где?
– Югу больше не наливать. Мы в гостинице «Москва», на утреннем шведском столе, сам же нас сюда и затянул, а у меня с собой есть корвалол, могу в бокал накапать, мозги прочищает.
– Уж лучше нашатырь нюхнуть.
– Для тебя специально в кармане заведу.
– Уж лучше ручную белую мышку заведи, ха.
Косая Челка стыдилась своего вечного голода. За столом слыхать было, как у нее громко, зверино урчало в животе.
– Ты ешь. Выпьем потом.
– Я ем, Янданэ.
– Я все смолотил! Наложи мне еще!
– Сам наложи, Юг, не безрукий.
Усач нехотя встал, стулом громко провез по паркету, долго наклонялся над стальными огромными мисками, выбирая. Половник мелькал, еда перетекала из кухонных емкостей на плоские озерные листья тарелок-кувшинок. Усач бухнул об стол поднос, поймал блеск широко расставленных подо лбом озер-глаз Косой Челки, усмешка покривила его тихие тонкие, под усами, губы, он задумчиво спросил, может, сам себя:
– И когда же мы, проглоты, нажремся?
Девушка и монгол смолчали.
Вина оставалось немного. Усач встряхнул бутыль, поднес к глазу, силился рассмотреть на просвет.
– Есть еще.
– Сорок капель?
– Побольше.
Монгол вынул у усатого Сталина бутылку из рук и разлил последнее.
Усач пододвинул по столу ближе, ближе к молчаливой Косой Челке тарелку с антрекотом.
– Кушай, поправляйся. Ножичек рядом! Режь на мелкие кусочки. Будешь вспоминать.
Люська смотрит на Усача, Усач на нее, они оба вспоминают, это нельзя словами, и не нужно, Янданэ смотрит на них, потом опускает узкие щелки косых хитрых глаз в тарелку и уже не поднимает: пусть эти двое побудут за столом одни. Есть мир, его им сейчас не надо. Гляди, девчонка уже смеется! Усачу, или сама себе? Она хохочет просто так. Нипочему. За стеной ресторана, где царит и дымится безумный шведский стол, и сидят за столами нищие люди и богатые рядом, тесно-близко, и рядом, послушно и жадно, едят, и рядом слушают слабый, призрачный бой курантов за широким и грязным окном, – так же рядом, руку протяни, за высокими мутными стеклами и мощной кладкой старинного кирпича, идут люди; они идут всегда, идут и сегодня; лица, лица, лица, колышутся в мареве странного позднего осеннего дня, еще сухие листья на ветвях, а уже снег, ноябрь теперь или март, никто не знает, нет времени; ушанки, кепки, убитые норки, мертвые песцы на головах, на беспечных затылках, вон тот придет домой и повесится, завтра ведь нечего есть, брусчатка площади ложится под танцующие ноги, дырявые перчатки и голые руки, сапоги и опорки, телячья кожа и свиная щетина, бархат и мешковина, лица мелькают превыше одежд, лица молча поют, лица летят, они беззвучны, но их можно услышать. Если встать и замереть. Выйти на крыльцо ресторана. Слушать ветер. Люди бегут мимо. Ты доешь свою еду, наденешь еще теплое, родное пальто, выйдешь на ветер и тоже побежишь. Мимо.
Опять бьют куранты. Кремль бросает людям, как птицам, хлебные, нет, ледяные, хрустальные крошки незабвенной музыки. Ключ повернули в красной кирпичной шкатулке. Про что играет столичная музыка? Про новую нищую революцию? Про новые богатые пиры?
Громко закричала за окном резкая флейта. Флейта-пикколо!
Просто автомобиль. Просто гудок. И больше ничего.
Косая Челка старательно молола крепкими зубами жесткий антрекот. Утерла рот ладонью. Взяла бутылку, повертела. Вино закончилось.
– Закончилось.
Им всем было не грустно, а весело.
– Ребята, как Новый год!
– Только без елки.
Усатый Сталин глядел, как Косая Челка набрасывает себе на плечи вчера чужую, сегодня родную кожаную косуху.
– Уходишь? Так быстро?
– Замерзла.
Раскосое лицо монгола летело в лицо Люськи и разбивалось об него. Осколки летели в пол и в потолок, – нет, это ресторанное зеркало резво и страшно рассыпалось и все, разом, стеклянным водопадом осыпалось на паркет. Это куранты били и бились, трещины змеились по круглому стеклу, трескался стеклянный лик, сияла витая винтажная медь, хитро поблескивало старое властное золото, жизнь болела и выздоравливала, а потом внезапно умирала, по приказу и приговору, а времени все еще не было, все никак не было, нигде, – одна только звонкая, костяшками стучала, умалишенным ксилофоном билась, холодная зимняя музыка.
Ни за что не запомнить. Не спеть. Не повторить.
Трое людей все еще сидели за белой льдиною стола. Льдина плыла из будущего в прошлое. И люди вокруг них тоже покорно и долго за ледяными столами сидели; ели, шептали, плакали, умирали; и за дальним, забытым столом сидел человек в расстегнутом потертом пальто, подцеплял на вилку счастье, медленно выпивал из высокого хрустального бокала лютое горе.