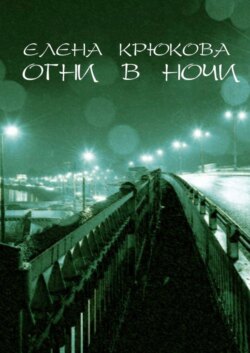Читать книгу Огни в ночи - Елена Крюкова - Страница 8
ОГНИ В НОЧИ
Эссе, этюды, раздумья
Юродство в пространстве русской культуры: смыслы и оправдания
Свищет синица
ОглавлениеЦарь-Волк юродивый мой господарь отец мой предвечный
стою пред тобой на коленях полоумно млечно калечно
стою не подняться я дочка твоя вся в отрепьях
Царь-Волк юродивый давай разобью твои цепи
Оковы твои каторжанин ведь ты виды видывал боен и тюрем
Кандальный пытальный хозяин прощальной Божественной бури
тебя – батогами
и в рёбра – ногами
наваксенными сапогами
а ты по застенку – дремотно и дико – кругами кругами
однажды мой верный в темницу нахлынули волны народа
врата распахнулись и вытолкали тебя взашей – на свободу
и вот ты по мiру пошёл мой Царь-Волк и топорщилась шкура
вперялись в тебя при дороге крестьяне солдаты гадалки русалки авгуры
вонзали собаки глазёнки что клюквы кровавей болотной
и вмиг умолкали когда проходил мимо ты гордый злой и свободный
собакой не стал никогда так на то ты и Царь хищна храбрая хватка
сиротский жемчужный январь зверий след заметает украдкой
а ты все идёшь на меня так похож остановишься тут в городище
и волчью доху совлечёшь со плеча бородатый серебряный нищий
и с матерью ляжешь моей санитаркой небес полудуркой больничной
с качанием лодочных рёбер с душой синеокой синичьей
не будет постели у вас никакой вы возляжете на пол
она поцелует угрюмую холку и сильные лапы
она распахнёт пред тобою себя детской скрипкой разбитой
сожжёнными гуслями песней безумной смешной позабытой
она воскричит когда станете вы о одним таким плотным единым
горящим единственным настоящим вовек непобедимым
и я войду о войду в это дивное смертное лоно
бессмертная дочерь Волка-Царя упаду с небосклона
так медленно сонно дремотно погружусь во сгустки Эдемовой крови
и встанут два Ангела обочь объятья наизготове
две острых секиры два яростных Мiра два сторожа мрачных
над лаской людскою над зверьей тоскою над вечерей брачной
и жалкий зародыш зверёныш свободыш в любовь прорасту я
сияющей плотью и стану твердить я молитву святую
Царь-Волк юродивый в небесном заливе звериная лодка
глаз светится сливой какой ты красивый как больно мне кротко
как я зачинаюсь от мощного Зверя от сильного Тела
от хищного брюха от пламени Духа от края-предела
и вижу так вижу навеки запомню своё я зачатье
и матери брошенный на пол больничный халат и цветастое платье
и ситцевый полог и век наш недолог и звёздные грозди
в колодец окна упадают до дна одеваются кости
горячечной плотью вздымает живот свою ношу сугробью
никто не загинет в военном Аду в позолоте надгробья
я – вот она я мой Отец так вот я зародилась
каков мой конец-кладенец о молчи Царь мой Волк сделай милость
ещё танцевать и любить и реветь и смеяться беспечно
вино-молоко моей музыки лить лить и пить бесконечно
и млеко и мёд и елей и ручей да ручьи во сугробе
Царь-Волк юродивый мой Царь Царей оставь мя в утробе
в чудных небесах где неведом страх ни зверю ни птице
где Ангела два стоят на часах и пьяняще свищет синица
Юродивый любит свое страдание, поскольку оно похоже на страдание возлюбленного Господа нашего Христа; он каждый день поднимает и волочит на гору, на Голгофу дня свой крест, он ежедневно принимает бичевания, терпит хулу и поношения – и рад этому, ПОВТОРЯЯ НЕПОВТОРИМЫЙ СПАСИТЕЛЯ ПОДВИГ. Тебе не только копеечку кидают, но в тебя же и плюют! А ты под личиной безобразия и умалишения скрываешь великую любовь, как под измызганной, но драгоценной плащаницей – любимое, оплаканное тело.
Но! Юродивый Христа ради был бы невероятным эгоистом, если б любил только СВОЕ страдание. Собственное страдание для него – чистое зеркало страдания другого, ближнего, которого по Завету надлежит любить воистину как самого себя.
А тот, другой, идет мимо – да недосуг ему! и было бы кому кланяться, а то – нищему юроду! – мимо живой церквушки с вечно горящими огнями – сквозь все морозы и дожди – живых глаз. Глаза слезятся от ветра; юродивый, со слезами на скулах, смеётся над войной, гладом и мором, ибо знает, что они преходящи, просвистят и следа не оставят. А любовь вечна; она-то останется. Вечна, как горячий хлеб, поцелуй, смех.
Смеётся не обидно – смеётся вольно, радостно. Это свобода смеха. Равно же как и свобода плача, если над чужим горем – человека ли, княжества, государства – юродивый внезапно и принародно восплачет. Так свободно, с высокой горы радости, может позволить себе смеяться и плакать тот, кто вобрал духом все счастья и все печали всех; для кого толпа – семья, а Бог – родная кровь.
Это и есть предвечная любовь – в понимании юродивого ради Христа; любовь, смыслы которой утрачены. Взамен которой, НЕ ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН И СЛЕДСТВИЙ, КРОМЕ ОДНОЙ – ПРИЧИНЫ ЖИТЬ, ЛЮБЯ, вместо обретения радостной свободы, появляются истерия, ипохондрия, души, стресс, депрессия, психоз, суицид и прочие симптомы душевного распада – иными словами, настоящее сумасшествие. Не то Высокое Сумасшествие Добровольной Любви, звучащее оправдательной нотой всего человеческого бытия на земле, а та патология, что просит срочной лечобы и умелого лекаря, – да никакие снадобья, никакие ножи хирургов здесь не помогут, кроме одного: звёздного ножа, звёздного Меча, что сжимает в руке карающий и любящий Ангел Апокалипсиса.
Юродивый – не Ангел мщения, не общественный доктор, хотя и несёт в себе (не явно: тайно, ведь он тайнозритель) их прямые признаки. Он – живое оправдание мiра, лишь ПРИТВОРЯЮЩЕГОСЯ нормальным, хорошим, пристойным, приличным. Он – камень яркого смысла в оправе серой дождливой повседневной бессмыслицы. На глупо-умный и заштампованный цивилизацией онтологический вопрос: в чем смысл жизни? – юродивый ответил молча, всем собой: в отражении страдания каждого – как в зеркале – в одном моём страдании, угодном Богу. Так я искупаю грехи. Так я соединяю времена.
Мне скажут: так было – во времена Смуты? А сейчас? Сумасшедшенькие у хлебных ларьков, у входов в кинотеатры, в подземках, в переходах метро, в толкотне вокзалов, где так прекрасно и благостно согреться, особенно зимой, в лютые холода, – их нынче считают юродивыми – по некоей исторической инерции, прежде всего, по похожести: ТЕ тоже сидели вот так же, тянули руку – так же… Нищий, голодный, просящий – значит, уже сумасшедший: на хлеб себе заработать не может? С головой что-нибудь не так? Проныры – живут, а этот – простодыра?
Тот, прежний юродивый, избирал свой Путь, любил косноязычной, смешной с виду и на слух, полудетской, простонародной молитвой каждого человека: недостаток любви в традиционно-неизменно жестоком мире компенсировался сумасшедшей любовью на виду, на миру. Старинный юродивый молился за всех – на виду у всех, и, значит, сакрал, тайна и тишина молитвы беспощадно и весело вытаскивались наружу, мотались на ветру, как свадебные простыни или скоморошьи ленты. Тогда, обвязанный цепями, увешанный крестами, в синяках и сукрови, со ступнями, порезанными о закраины льда, он хорошо понимал и знал, к чему, зачем он носит вериги. Он подносил к губам на морозе неподъемный крест, мотавшийся на ребрастой груди, обворачивал себя чугунными цепями, радуясь этим нехитрым символам преодоленного и возлюбленного страдания, и губы кровавились, когда он целовал обнимавшее его железо.
Юродивый носил вериги для того, чтобы все видели, как тяжело, страдально несение БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ. Как не все способны на это несение, поднятие. Ни грана гордыни тут не было. Это была простая констатация факта: видишь – гляди. По Иоанну Богослову: иди и смотри.
И ни грана дидактики тут не было тоже. Яркая зрелищность, демонстрационность оригинальной, ни на кого и ни на что не похожей фигуры юродивого на Руси являлась формой, полностью эквивалентной его внутренней сути. Он БЫЛ, бытовал, и он сам, своим существованием, образовывал уникальное пространство (образовывал: одновременно и порождал, и просвещал).
Просветительская миссия юродивого! Не слишком ли сильно сказано? Но ведь и копеечки, и плевки – не единственные отдарки ему от (по-своему) сумасшедшей и (по-своему) благодарной пестрой толпы. Люди в России воспринимали, отдаляясь, уходя с площади, унося в памяти последние его слова и выкрики, нищего юродивого как ПРОРОКА, как провещивателя, что предсказывает и нового царя, и смертоносную звезду в небесах, и Последние Дни, и рождение детей, на чьей коже просмотрятся тайные знаки, и – заодно – угадывает, знает личную судьбу каждого, кто осмелится спросить его о ней, узнать…
Поэтому почитание юродивого неведомым образом уживалось в русской душе с поношением и снисхождением, направленными в его адрес: пророчья сила крепко чувствовалась в нём, когда он вставал над сугробом и кричал в толпу непонятные, дикие тексты, на деле разгадывающиеся крайне просто. Вся символика высказываний юродивого предельно проста, основана на мировых архетипах: жизнь – смерть, любовь – ненависть, зло – добро, грех – искупленье, грешное – святое, война – мир (и иже с ними). Пророческая нота взята изначально и смело, без напряжения горла и сердца.
А народ был отнюдь не глухой, чтобы ее совсем не услышать. Более того: именно эта постоянно, Grundton’ом, звучащая нота и будоражила души живые, не давала им уснуть, погрязнуть в спячке, в еде-питье, в забвении, в мертвости и тоске. Напоминала о том, КТО МЫ ТАКИЕ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.
Пророки – и юродивые. Страшно близко. Быть может – одно.
У меня в романе «Юродивая» юродивый Царь-Волк – отец юродивой Ксении; обе фигуры столь же мифологические, сколь и живые, вечно живущие на Руси и для Руси. И Царь-Волк, и Ксения – пророки; они видят будущее, проживают тысячи жизней, видят Время, насквозь проглядывают его синюю страшную толщу.