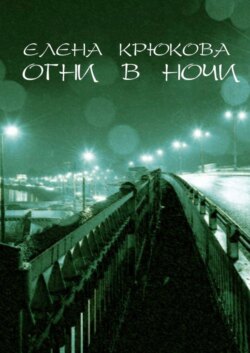Читать книгу Огни в ночи - Елена Крюкова - Страница 9
ОГНИ В НОЧИ
Эссе, этюды, раздумья
Юродство в пространстве русской культуры: смыслы и оправдания
Родится волчонок
Оглавление…юродивый Царь-Волк прыгает через девять огней —
катайся колесом, скоморох, до скончанья дней!
Царь-Волк сер-мохнач, коронушка златая на башке,
вдоль по улице стелись – бесьей шкурой на Божьей руке!
вдоль да по широкой, удаленький, сер-клубком катись!
на тебе, Царь-Волк, смур кафтан, опоясочка-жись,
опоясочка небесная, шелковая,
шапка бархатна, локоток выгнут подковою,
ах, околыш черна соболя, сапоги сафьяновы!
ты, Царь-Волк, с ума спятил меж людьми пьяными!
рукавички барановы нацепил на лапы когтистые —
да вдоль по улице мостовой – перекати-полем неистовым!
рукавички барановы, за них монета не даванная,
с короба стащены у торговца обочь вина разливанного!
об землю вдаришься – обернёшься, Царь-Волк, добрым молодцем…
таковому красавцу девки, яко Богу Осподу, молятся!
под полою гусли тащишь, а можа, на загривочке…
за пазухой – дуду-в-горюшко-гуду,
льётся песня яко сливочки!
стань как в землю вкопанный, Царь-Волк, да заиграй на гусельках!
а зубами щёлк, щёлк… а дрожат-то усики…
а струна-то загула, загула, дотла ветер сожгла,
а дуда-то выговаривала, будьто солнце рожу жарило!
ах ты, Царь ты Волк, не узнать тебя, княжича!
не возьму я в толк, как измазал ты морду сажею.
как умыл пасть вдругорядь —
да пошёл плясать,
колесом средь толпы кататься ринулся!
ах, палач ты кат,
ах, вор ты тать,
зачем яблочком наливным из-под сердца вынулся?!
а старуха с печки прыг – и с тобою пляшет вмиг!
и пляшет рядом старик,
безумный беззубый гриб-боровик,
а теперь с Царь-Волком – безусый новик!
угости старуху, Волк, да пищей своей,
из кафтана выдерни гусей-голубей,
шею голубке сверни да старухе всучи —
пущай в чугуне сварит в широкой печи!
крынка овсяного теста —
вот бабка и невеста!
молчи, бабка,
чай, не девка, на передок слабка!
а ты, девка красна, к Царь-Волку ближе шагни…
зришь, в глазёнках его горят огни…
а ну, валяй, ближей подойди…
как он зраками жрёт лалы на твоей белой груди…
а ты гляди, на Царь-то-Волке кафтанчик-полудурьице,
кафтанчик-полудурьице, златым дымком курится,
миткалинова рубаха развевается-трепещется,
скоморохово монисто бьет сребряным подлещиком,
ну давай, девка красна, Царь-Волка обними,
между всеми изумлёнными людьми,
пущай охают и ахают, возжигают очи ярче свечи,
а ты, девка, Зверя перед плахою, яко Бога, приручи!
а ты, девка, Волка из руки корми,
да за шею его крепче, крепче обыми,
развяжи на ём опоясочку шелковую,
шепни на ухо шерстяно ёму шелково слово,
а он тебе и прорычит в ответ:
не Зверь я на множество злобных лет,
не Волк я, резцов-клыков снежный горох,
а Царь скоморохов, наиважный скоморох!
скоморошки люди добрые, голосят-поют,
сухарь чёрствый весело жуют,
да так и помрут в безвестии,
скоморошки всюду дома, скоморошки очестливые,
скоморохи высоко летят, яко ангелы Божии,
скоморохи вина не вкусят во грязи-бездорожии,
скоморохи не смолят табак,
не обидят калик перехожих-нищих,
скоморохи не ловят в горсть пятак,
ежели деньга в кровище,
скоморохи шапки рытого бархата на затылке носят,
скомороху для весёлой пляски все одно – весна ли осень,
обними, красна девка, Царя-скомороха да изо всех силёнок!
зачуешь волчью силу!.. гляди, родится волчонок…
Юродивый – русская трансформация, родная трансляция ветхозаветных Иеремии, Иезекииля, Даниила, Исайи? А как же тогда быть с теми жалкими, скрюченными в грязи сумасшедшими, бормочущими не откровения – невнятицу и околесицу? Там, в этих сбивчивых косноязычных текстах, какой смысл просвечивается и пылает? И разве возможно сравнивать мощь Исайи или Амоса с бедным, совсем не Шекспировым и не библейским словарем уличного помешанного? Спасает ли его не чугунный – оловянный крест на груди? Или на Руси, хоть и гогочут и тычут пальцем в юродивого, а все же поклоняются ему тайком и незаметно обожествляют его, как некогда – язычники – идола, ибо темнота и заумь его речей предполагают тайносмыслие и силу неразгаданной и волшебной загадки?
Юродивый – некий тайный «лакмус» энергетики либо астении общества. Он присутствует в обществе всегда, но отчего-то на площадях – «на стогнах града» – его видно чаще и ярче и слышно громче тогда, когда на страну, на культуру, на эпоху обрушиваются всякого рода катаклизмы.
Излом времён! Это любимое пространство юродивого – здесь он как рыба в воде. И дело не в том, священен он для обывателя или презираем. ОН ЕСТЬ – и всё тут. А зачем он есть? А чтобы воскликнуть: вот оно! То, что вы не видите, не слышите! А времена наступили, пришли! И над временами – поверх – то, что и есть ГЛАВНОЕ для вас! А вы только себе под ноги да в карман глядите!
На беду, охватившую этнос, юродивый реагирует мгновенно и сильно. Если Григорий Распутин был вместе и святым и дьяволом, и распутником и врачевателем, и диким зверем и просветленным паломником, – значит, он был несомненным юродивым. Юродство Серафима Саровского или Нила Сорского – абсолютно другого порядка, но происхождения того же. Пророк на Руси, так же, как и в пространстве семитской, вольнопустынной Библии, сильно, разительно отличается от простого человека: уклад жизни юродивого странен, его внешность часто уродлива, его выкрики непонятны и страшны, – но то, что он вещает ВАЖНОЕ, что он несет БЛАГО, а не ЗЛО, – понятно и грамотному и неграмотному.
Увеличивается количество больных среди здоровых, но возрастает и количество юродивых среди одарённых.
Как, юродивый, кроме пророка, ещё и…
Да, да, именно так. Юродивый – ХУДОЖНИК, у которого цель оправдывает средства настолько, что сам он, весь, до капли крови, до последней жилы, состоит из этой цели, и даже арсенал средств ему абсолютно не нужен: ОН САМ ЕСТЬ ВЕЛИКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СРЕДСТВО БОГА, посредством которого Бог, как худой и грязной кистью, тем не менее кладущей яркие и рельефные мазки, пишет мир и достигает своей единственной цели – пробиться в сердца: «Я есмь Путь и Истина и Жизнь».
Цель жизни художника – сама его жизнь: оставить яркий золотой, самосветящийся след во тьме, во мраке мира (мрак до рожденья и после ухода – беззвездный, пустой, НЕЗНАЕМЫЙ нами). Такой странный, ни с чем не сравнимый, издалека видный, как комета в небе или молния в тучах, ЮРОДСКИЙ след. То, что делает художник, он делает вразрез с обществом; общество его гонит, не принимает, давит, шпыняет, хохочет над ним – он упорно делает свое, то, к чему призван, идет по своему пути, не сворачивая. Он исполняет миссию, и миссия не приносит ему никаких ощутимых дивидендов, кроме дивиденда радости: Я СВОИМ ТВОРЕНЬЕМ МОЛЮСЬ ЗА ВСЕХ И ОПРАВДЫВАЮ ВСЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ ТВОРИТЬ – ПЕРЕД БОГОМ.
«Священническая» миссия художника скрыта от догадок (наверное, даже самих священников) и тем более от невооруженного глаза простого человека. Для него самого она не значит ничего – он ее просто не осознает. Кто начинает осознавать, как, например, Гоголь в последнее время своей жизни, – уходит в мир иной быстро, странно, тайно и страшно: тоже по-юродски. Последнее слово Гоголя: «Лестницу!..» – не было ли намеком на восхождение, на восстание из гроба – сиречь, на ВОСКРЕСЕНИЕ собственное, на повторение миссии Господа? И он, Гоголь, взят был из дольнего мира ТУДА не за святотатство – не наказан, а вознаграждён юродским и странным прощанием он был, хотя чаши весов пораженья и победы в Юродивом Пространстве космично уравновешены и нашим бедным земным рацио неразличимы. И он, Гоголь, по легенде из гроба пытался выйти, в домовине перевернулся. Да и находился ли он по эксгумации во гробе – еще вопрос, как бы ни была жутка и мистична сама его постановка.
Художник – мистика, легенда. Художник – юродивый преобразователь быта в бытие.
Художник, как и юродивый, – живое напоминание миру и клиру о горней силе.
Он не лицедей, он не исказитель и не нарушитель: он вестник очищенной от наслоений правил, этикетов и comme-il-faut живой истины, а она, как и Дух, ее проявление, реет, где хочет.
***
Ах, обнять бы всех!.. времена на смех
Не поднять… таковы неисходные…
По дороге идти между мук и утех…
Поминая шаги Господние…
Ах, да смейтесь вы!.. не сносить головы.
Хулиганила, непотребничала,
Во грехах, что гуще чёрной травы,
Все валялась – пьяной царевною…
Ах ты путь мой, путь!.. Вот возьму на грудь
Я тебя, мой путь, – истомилася!..
Так мне больно, путь… отдохну чуть-чуть…
Дай забвения сладкой милости…
Шире руки раскинь!.. Вьётся синь-полынь
Да по ветру – вьюгой серебряной…
Я кричу: отзынь!.. визг: на кичку сарынь!..
Глотку жгу напевами древними…
Да, я древняя вся! И живу не прося!
И живу, на ветру скитаючись!
Утром щиколки мне целует роса…
Плачет тучею небо усталое…
Ах, иду-иду!.. Сколько раз в году
Вы в меня – то снежки, то булыжники?..
А мою ли песенную страду
Не услышите, вы, чернокнижники!..
Я и солнечных книг, я и лунных книг
До пяти смертей начиталася…
А ко мне щекой снег седой приник,
В лучезарной, холодной жалости…
Ах ты снег мой, снег!.. Может, ты человек!..
Лишь под коркою льда блестящего…
Да и я человек!.. Да и Мiръ – человек!..
До конца своего… настоящего…
Да и Бог – человек!.. не умрёт вовек…
А умрёт – воскреснет… под пыткою…
Вот он, свет мой, свет из-под тяжких век!
Век, зашитый белою ниткою!
Вот погибель моя!.. А танцую я!..
Шире, шире руки раскинула!
Эх, народ-народ!.. вся моя семья!..
Серебристый мой ствол осиновый!..
Иглы сосен-пихт!.. я – живая пищаль —
Вдоль по рельсам, да по серебряным!
Мне канатом – сталь! Ничего не жаль!
И ни верности… и ни ревности…
Образ Твой Пречист… Боже, палый лист…
Боже, светишься весь прощением…
Там, за далью рельс, Ты для всех воскрес —
Из кадила времен каждением!
Наважденье мне… ах, гореть в огне…
Я согласна, в мешке-моем-рубище —
Вдоль по рельсам идти, Боже-Боже, прости,
Всерыдающей и вселюбящей!
Я устала молчать! Я хочу кричать!
На весь мир Твой, Боже, неистовый,
И босою стопой прожигать Твою гать,
Мчаться по ветру медными листьями!
Я согласна всем – да, всем! – умереть!
Каждой кошкою, каждой мышенькой…
Всем родиться! Всеми глотками петь!
Не споёшь всего… не надышишься…
Ах бы, жить да жить!.. Целый век иль два!..
Что за шум за спиною?.. поезд ли?..
Ах, задавит… и пусть… я останусь жива
С нежным, Живым в помощи, поясом…
Ах, сомнёт – и пусть… и не обернусь…
Голова не гола – свечусь кикою…
Не мешок – парча… низка перлов-бус…
А рубины с плеча – земляникою…
Не руби мя сплеча!.. я ж твоя свеча…
Я ж ещё погорю… не гаси меня…
Дикий, смертный гудок… как жизнь горяча…
Только пламя… ни воли… ни имени…
И на рельсы сребряные так упаду,
Распластаюсь… снега узорные…
…задавили бродяжку… загасили звезду…
Безымянную… беспризорную…
Вспомним знаменитого «Степного волка» Гессе: «ТОЛЬКО ДЛЯ СУМАСШЕДШИХ» – гласила вывеска, приглашая войти, и мы со страхом, с замиранием сердца, с холодком под ложечкой – нагнувшись, перекрестившись, вместе с автором – входили. Куда?
Разговор с дьяволом «тет-на-тет», так же, как и разговор с Богом, есть прямая прерогатива юродства – поступка из ряда вон, немыслимого в бытовом пространстве вообще. Обратим внимание на то, что в эпоху первохристианства учащались встречи с Богом – в позднейшие эпохи, особенно в последние двести-сто лет, участились свиданья с дьяволом. Художник, как мембрана, юродиво-доверительно среагировал на тенденцию. Души и умы вверглись в страх и пребывали в нем, как в собственном доме, и это был не Божий страх, осветленный с самого начала, а темный и давящий – прямое отражение метаний и сгущений богатого мрачностями времени.
И все же! Доверительно входя в гости к высшим Силам, переступая надмирные пороги, художник-автор сам «впадал в грех» юродства, сам – и огульно – сразу записывал себя в изгои, в изгнанники, в поэты – в когорту тех, «кто жаждал быть, но стать никем не смог» (Макс Волошин, венок сонетов «Corona astralis»). НИКЕМ – с точки зрения опять же comme-il-faut. Шаляпин рассказывает об одной ночной поездке: после репетиции остановил извозчика, едет, трясется. Разговор затеялся сам собой. «А ты, Шаляпин, что делаешь?» – «Да вот, брат, пою». – «Эка! Да ведь и я тоже пою. Особливо на свадьбах, на гулянках люблю петь. А делаешь, делаешь-то ты что в жизни?» И извозчик успокоился только тогда, когда Федор Иванович сказал ему, что он держит хлебную лавку: «Ну, вот это я понимаю – дело!»
То, что делает юродивый в жизни, теряет всякий смысл, если глядеть на его действия из окна кухни или из ворот рынка, и НАПОЛНЯЕТ ВСЮ ЖИЗНЬ ВОКРУГ СМЫСЛОМ, ежели обозреть совокупность его действий, скажем, с горы Синай или горы Фавор.
Есть у Господа загадка – нам ее не разгадать:
Отчего одной заплаткой нам назначено мерцать
На рубахе злого мира, в клочья порванной стократ,
Где одни святые дыры бьются, плачут и горят?!
Юродивые воткнуты в мир, как угли в булку. Булка хороша, и вкусна и сладка единственная жизнь, и охота в ней уюта, вкусноты, довольства, комфорта и консорта. Да бац – уголек на зуб попался. Тьфу! – плюнул, да вместе с зубом. А в дыру от зуба ворвался ветер, вихрь, лютый холод, открытый Космос. И ты задрал голову в отчаянии и едва ли не впервые увидел, что над головой – тоже открытый Космос, и под ногами – он же, и вокруг. И страх охватил тебя, и понял ты, что подобен Богу и тоже, как и Он, от века летишь в пустом пространстве. И не за что держаться. И вокруг тебя, рядом, такие же летящие, отчаянно кричащие тела. Вопящие души. Прижаться! Найти родное! Обрести! Да, находишь своё. И хватаешь. И не отпускаешь больше никогда. Никогда – пока летишь. А пропасть бессознания, небытия – вот она.
И ты понимаешь в последний миг, что все правильно, что тебе и надо жить тут, вот так – лететь, гибнуть, видеть яркие звёзды, прижимать к груди любимое тело, пить любимые губы, как вино Причастия. Ты причастился юродства, а это значит – свободы. Ты теперь в свободе – дока. Ты в ней царь и сам с усам. Да беда: времени на царствование тебе отпущено очень мало. До обиды!
Но, пока летишь ты, обрываясь в пустоту, как брошенный жестокой рукой камень (а сколько таких КАМНЕЙ было кинуто в юродивых! им в спины! положено в их ПРОТЯНУТЫЕ руки!), ты понимаешь единственное счастье свое и дело свое – долететь за нелетящих, разбиться за твердолобых и медных, увидеть – за слепых, выкричать – за немых.
Умереть – за бессмертных.