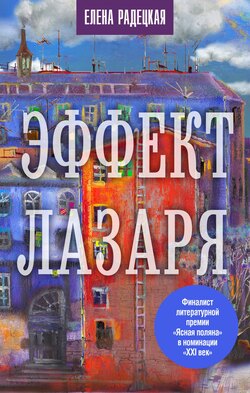Читать книгу Эффект Лазаря - Елена Радецкая - Страница 17
17
ОглавлениеБабушка нянчилась со мной до первого класса. Потом она умерла, и я осталась с Томиком и тетей Ниной на подхвате, если меня нужно было пристроить на время. Обездоленной я никогда себя не чувствовала. И не мешала Томику выйти замуж. Кстати, если она что-то хотела, ей невозможно было помешать.
Томик говорила, что она была звездной девочкой, то есть звезды дали добро на ее рождение. Бабушка Вера, выйдя замуж, лет десять не могла забеременеть, хотя врачи считали, что она и муж здоровы. И тогда ей нашли какую-то деревенскую бабку – лекарку-ведунью. Эта бабка заговорила кому-то из знакомых грыжу, говорили, что у нее есть заговор и на беременность.
Бабка посмотрела ладони Веры, подвела к окну и глядела в глаза, так что у той стало мутиться в голове, и она чуть не грохнулась в обморок. Сказала бабка следующее: беспокоиться нечего, Вера благополучно забеременеет, просто время еще не пришло. Не все женщины рожают, как кошки. Некоторым надо дождаться благоприятного момента, пока звезды сложатся в нужный узор. Вера пробовала расспрашивать, сколько надо ждать, пока это случится, но надоела лекарке, и та ее выгнала. И денег не взяла. Вера была сильно разочарована. В бога она почти не верила, но в трудные жизненные моменты обращалась к нему с молитвами, впрочем, и молилась без всякого усердия. Бог помог или звезды удачно сложились, трудно сказать, но она забеременела.
Мальчик родился в самом начале войны. Муж ушел добровольцем на фронт, а бабушка Вера с Юлией и двухмесячным ребенком тридцатого августа отправились в эвакуацию. Железная дорога на Москву и восток была перекрыта, поезда шли через Мгу, а в этот несчастный день Мгу заняли немцы. Поезд бомбили, но женщинам удалось выбраться, сохранить ребенка и вернуться домой. Потом началась осень и зима в блокадном Ленинграде. В феврале 1942 года ребенок умер от пневмонии. В марте умерла от голода Юлия.
В середине апреля Веру по «Дороге жизни» вывезли из города. Она была настолько истощена, что не могла ходить, почти ничего не весила, а из всей поездки по весеннему, с полыньями, подтаивающему льду Ладоги запомнила только, как ее били по щекам, чтобы она не спала, и как после высадки из машины чуть живые женщины-дистрофики качали шофера. Потом уж ей рассказали о машине политехнического института, которая шла перед ними и провалилась под лед вместе с людьми.
В Ленинграде Вера оказалась через два года, о судьбе мужа ничего не знала. Он вернулся домой в сорок пятом и тут же был арестован. Павел попал в плен, прошел все немецкие лагеря, а из сталинского вернуться ему было не суждено. Дома он находился всего ничего, но, видимо, звезды в тот момент снова сплелись в нужный узор. В сорок шестом родилась Томик, звездная девочка.
Томик хоть и росла капризной, но не плаксивой, ей редко изменяло хорошее настроение. Главным свойством ее характера была коммуникабельность, а любознательность распространялась на все, что не касалось учебы, однако и училась она неплохо, причем с легкостью. После школы Томик поступила в сельскохозяйственный институт, где работала ее тетка, та самая тетя Тася, которую мы звали Профессоршей. Не знаю, повлияла ли она на поступление, однако, отучившись год, Томик ушла из института, который называла «навозным». За время учебы она сблизилась с матерью тети Таси – Кирой Петровной, архитектором по профессии. Жили они в Пушкине, где находился «навозный» институт, и часто Томик, чтобы не ехать в Ленинград, оставалась у них ночевать.
В итоге на выбор жизненного пути Томика повлияла Кира Петровна. Она подарила Томику антикварный трехтомник «Истории искусств» Гнедича и разные старые книги по искусству, они много беседовали и ходили по музеям. Так что, попрощавшись с одним институтом, Томик тем же летом поступила в другой, в Академию художеств (тогда она называлась Институтом живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина), на факультет истории и теории искусства. Училась с рвением, перезнакомилась со студентами всех факультетов, бегала на вечеринки, в театры, на поэтические вечера.
После института Томик не могла найти работу по специальности, поэтому побывала регистратором в поликлинике, секретарем в школе, еще кем-то в том же роде. Потом ей повезло, она устроилась в Художественный салон, где хранились картины современных художников, купленные худфондом. Из этих картин формировались выставки в домах и дворцах культуры, в школах и везде, где были свободные стены, а помещения охранялись. Но счастье было недолгим, через полтора-два года вышла на работу постоянная сотрудница, и Томик осталась ни с чем. И снова счастье ей улыбнулось на время чужого декретного отпуска. Теперь она попала в издательство «Художник РСФСР», общалась с графиками и живописцами, и выставки здесь устраивали не в школах и прочих очагах культуры, а по линии «Международной книги», за рубежом.
Потом она трудилась экскурсоводом в Петропавловской крепости, а затем в Музее революции, где из экскурсовода выросла в научного сотрудника. Я с раннего детства знала, что мама работает в доме, принадлежавшем любовнице царя, и там есть балкон, с которого выступал Ленин. В девяносто первом году музей поменял название и стал музеем политической истории России. Томику была тошнотворна революция и все с ней связанное, перестройка экспозиции на новый лад, конечно, оживила ситуацию, но стойкого отвращения к музею не поборола. Томик и теперь считает, что ходить туда стоит лишь для того, чтобы взглянуть на модерные интерьеры, на Белый зал и зимний сад Кшесинской.
Замуж Томик сходила ненадолго, как она теперь говорит: «тудым-сюдым», причем мужа выбрала не из художников, не из архитекторов. Богушевич был рядовым инженером, мэнээсом – младшим научным сотрудником. После развода она активно тусовалась, но замуж не собиралась. У нее было много друзей мужчин, которые приходили в гости, но никогда не оставались ночевать. И был у Томика гражданский брак с Георгием Гургенидзе, которого она называла Жоржиком, а я дядей Жорой. Он не предлагал мне называть его «папа», тем более что по-грузински «папа», представьте себе – «мама». А «мама» – «дэда». Но отношения у нас были по-настоящему хорошие, и часто я называла его «мэгобари Жора» – «друг Жора», так он меня научил. А еще я умела сказать по-грузински «доброе утро», «добрый вечер» и прочие, подходящие к случаю слова и выражения.
Томик и Жоржик! Впрочем, при Жоржике Томик была – Томарико!
Дядя Жора появился после смерти бабушки, и их граждански-гостевой брак продержался долго, наверное, потому что дядя Жора был приходящим мужем. Он имел свою квартиру на Черной речке, куда смывался от всяких семейных проблем. Дядя Жора говорил, что он из старинного грузинского рода, о чем свидетельствует окончание его фамилии. Но родственников в Грузии у него не осталось. Все переселились в Москву. Родственников он тоже принимал на Черной речке, а Томик в Москве останавливалась у его родни. Иногда мы на выходные ездили к дяде Жоре и ночевали там.
Дядя Жора был членом Союза художников. Вступал он туда как живописец, но потом занялся ювелиркой. Он не любил это дело, а потому забросил, как только нашел замену, которая не ущемляла его материально. Он стал мастерить самые разные парусники в самых разнообразных бутылках, от водочного мерзавчика до старой, царского времени четверти – трехлитровой бутыли с достаточно узким горлом.
Среди недостатков дяди Жоры скупость не значилась. Он жил широко, ездил исключительно на такси, дарил всем, и мне в том числе, красивые и по большей части ненужные вещи, а когда заработанные деньги кончались, не считал зазорным жить за счет Томика. И Томик не считала это чем-то из ряда вон, хотя получала мизерную зарплату. В нашей семье всегда было то густо, то пусто.
Нет, не мешала я Томику строить личную жизнь.