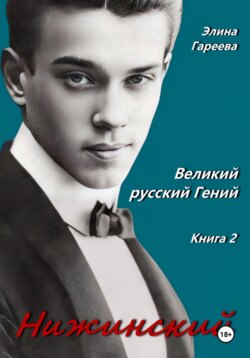Читать книгу Нижинский. Великий русский Гений. Книга 2 - Элина Гареева - Страница 4
Лето 1907 года – Дудергоф – Красное Село
Оглавление*** Примечание: даты всех событий, происходивших в России до 31 января 1918 года, в книге указаны по старому стилю, иногда в скобках указаны даты по новому стилю.
Ежегодно, с 1 мая по 1 сентября, все Императорские Театры были закрыты, а артисты уходили в отпуск. Некоторые из них арендовали дома недалеко от Санкт-Петербурга, чтобы провести лето на природе, другие же, более состоятельные, уезжали в отпуск на южные побережья Франции и Италии. Но не все могли позволить себе роскошь четырёхмесячного отдыха, и поэтому многие балетные артисты, с целью заработка, выступали в маленьких театрах пригородов Петербурга или гастролировали по малым городам России, а некоторые и за границей.
Самым престижным театром для летних выступлений был театр в Красном Селе. Уже с середины XIX века Красное Село, расположенное в 30-ти километрах от Петербурга, превратилось в летнюю воинскую столицу Российской Империи. Здесь сформировался гигантский военно-учебный комплекс. В учениях участвовали десятки тысяч человек. Практически всё высшее военное командование России того времени принимало участие в манёврах. На огромном «военном поле» Красного Села проводились грандиозные парады. Театр был построен специально для развлечения офицеров во время лагерного сбора.
Театр в Красном Селе. 1900-е годы. В 1930-е годы театр был закрыт, так как третий ярус обветшал. В годы Великой Отечественной войны, как утверждали очевидцы – жители Красного Села, здание театра использовалось фашистскими захватчиками в качестве пересыльного пункта военнопленных. Одновременно здесь содержалось около полутора тысяч человек. Позже он сгорел и до нашего времени не сохранился.
Императорский подъезд Красносельского театра. Старинная открытка. 1900-е годы.
Наружный вид Красносельского театра. Старинная открытка. 1900-е годы.
Купальни и театр в Красном Селе. 1900-е годы.
Часто выступать в Красносельском театре приглашали выпускников, окончивших Императорское Театральное Училище в этом году. Для молодых артистов это была возможность не только хорошо заработать, но и показать свои способности аристократической публике, что было важно для их дальнейшей карьеры. На сцене Красносельского театра выпускники выступали вместе с известными артистами.
Сцена Красносельского театра вполне подходила для спектаклей небольшой балетной труппы. В зрительном зале на трёх ярусах размещались 62 ложи и 198 кресел в партере (Ричард Бакл утверждает, что в Красносельском театре было всего 80 мест). Отделка была исполнена в русском стиле по рисункам известного архитектора Харламова. Вместо обычной серединной царской ложи за партером, здесь были две боковые ложи, расположенные на уровне сцены и выполненные с элементами орнамента народного творчества. На потолке по окружности плафона были нарисованы русские крестьянки в одеждах разных губерний и областей России.
Внутренний вид Красносельского театра. Старинная открытка. 1900-е годы.
Царская ложа в Красносельском театре. 1900-е годы. Фойе Красносельского театра. 1900-е годы. Ломачевский А. Воспоминания о Красносельском театре (К его пятидесятилетию) // Столица и усадьба. 1914. 12-13. С. 18 – 20.
Публика была в основном из аристократической среды Красного Села: офицеры императорской гвардии, участвовавшие в летних манёврах, и их семьи. Билеты на спектакли были дорогими, простые люди не могли позволить себе таких трат. Цена билетов в ложи 1-го яруса и бельэтажа составляла 15 руб. 50 коп., а 1-го ряда партера – 5 руб. 10 коп. Для сравнения цена билетов в Мариинский театр составляла 20 руб. 70 коп. и 6 руб. 10 коп. соответственно. Средняя зарплата рабочих составляла 22 рубля в месяц.
Царь Николай II и Великие князья часто присутствовали на манёврах и обязательно посещали спектакли в Красносельском театре. На представлениях также присутствовали титулованные семьи и петербургские балетоманы и критики. Спектакли освещались в газетах Санкт-Петербурга.
Этим летом 18-ти летний выпускник Императорского Театрального Училища Вацлав Нижинский тоже был приглашён выступать в Красносельском театре как солист. В связи с этим семья Нижинских решила отказаться от маленькой квартирки на Васильевском острове (9-я линия, дом 4) в Петербурге, и снова поехать на лето, как это было два года назад, в Дудергоф, который находился всего в четырёх километрах от Красного Села. Семья сняла дачу с тремя комнатами и кухней. С собой Нижинские взяли часть мебели из квартиры и книги. Элеонора развесила повсюду прозрачные шторы, а в комнате Вацлава положила ковёр на некрашеный пол и создала уют даже во временном жилье.
Дача находилась на вершине холма, с которого открывался вид на Дудергоф. Узкая извилистая тропинка вела вниз, к грунтовой дороге, которая шла вдоль железнодорожных путей. Каждое утро Вацлав уезжал или в Петербург, или в Красное Село. Броня, сидя за завтраком у окна, видела, как он сбегает с холма, а потом быстрым шагом идёт к станции. Когда шёл дождь и дорога становилась грязной, Вацлав осторожно ступал по рельсам, чтобы не испачкать обувь. Если он боялся опоздать на поезд, то перепрыгивал с одной шпалы на другую с большой ловкостью и лёгкостью. Сестра часто наблюдала за Вацлавом, пока тот не исчезал из виду.
В этом году летний театральный сезон в Красном Селе начинался только 15 июня. Поэтому, в конце мая – начале июня, Вацлав каждое утро ездил в Петербург заниматься в балетном классе для артистов в репетиционном зале Театрального Училища. Оттуда Вацлав ехал прямо в Красное Село на дневную репетицию.
После 20 мая 1907 года – даты своего выпуска из Театрального Училища, Вацлав не отдыхал ни одного дня и ежедневно интенсивно тренировался в репетиционном зале по два-три часа. Вацлав помнил, что Матильда Кшесинская пригласила его танцевать в качестве своего партнёра на сцене Красносельского театра, поэтому хотел быть в очень хорошей форме. Его друг Анатолий Бурман временами аккомпанировал ему.
Кроме того, в некоторые дни по вечерам, ради заработка, Вацлав вместе с Анатолием и несколькими другими артистами выступали с отдельными номерами в маленьких провинциальных театрах в пригородах Петербурга. Нижинский ненавидел это и называл эти представления «бабушкиными вечеринками». Но, так как зарплата Вацлава в Императорском Театре после окончания Училища составляла всего 65 рублей в месяц – ему нужны были деньги, ведь он был единственным кормильцем своей большой семьи. Иногда своё месячное жалование Нижинский мог заработать за один вечер и поэтому он танцевал на «бабушкиных вечеринках» под вымышленным именем, чтобы не уронить свой престиж в Мариинском театре.
В те дни, когда не было вечерних представлений, Вацлав и Толя прогуливались по Петербургу. Обычно Бурман искал клуб, чтобы поиграть в азартные игры, которые вошли у него в привычку ещё во время учёбы под дурным влиянием одного из учеников школы. За пристрастие к азартным играм Нижинский называл Бурмана дураком, но отучить его не мог. Ведь Толе не надо было думать о хлебе насущном, он был из довольно состоятельной семьи, главой которой был его отец.
Описания лета 1907 года очень разняться у Брониславы и у Анатолия Бурмана. Как я уже писала ранее, Бронислава категорически отрицает не только их дружбу с семьёй Бурманов, но и даже дружбу Вацлава с Анатолием. Хотя в своём Дневнике Вацлав неоднократно упоминает Бурмана как своего друга. О причинах такого полного отрицания этой дружбы Брониславой я напишу немного позже.
Описывая это лето, Бронислава сообщает, что однажды к ним на дачу неожиданно, без приглашения, приехал Анатолий Бурман. Он выразил желание провести с ними несколько дней. Бурман пробыл с ними целую неделю, деля с Вацлавом комнату. И когда Анатолий уехал, все вздохнули с облегчением. Матери Бурман не нравился, она чувствовала, что он может плохо влиять на Вацлава, потому что Толя был игроком и любил проводить время в ресторанах и ночных клубах. Кроме того, Анатолий хвастался своим успехом у женщин, а больше всего на свете Элеонора боялась, что Вацлав станет бабником, как и его отец. Но то, что Бурман был аккомпаниатором Вацлава, Бронислава не отрицает.
Анатолий Бурман же описывает лето 1907 года, как самый счастливый период в своей жизни. Он пишет, что его родители уехали в деревню и оставили его с мадам Нижинской, Вацлавом и Броней, которые должны были присматривать за ним в течение лета. Далее Бурман с большой теплотой вспоминает такое количество подробностей их совместного проживания на даче, что не поверить ему трудно.
«В то лето мадам Нижинская стала для меня матушкой Нижинской. Мы смеялись целыми днями, бегали по траве с крыльями на пятках. Мы прочитали десятки книг и говорили, говорили, говорили, а матушка Нижинская готовила для нас чудесные польские обеды, аппетитные запахи из кухни дразнили наши ноздри до тех пор, пока мы не становились голодными, как сибирские волки. Когда матушка Нижинская, стоя в лучах солнца, звала нас: «Толя! Броня! Вацо!» – мы бежали как дети, наперегонки и вприпрыжку, чтобы уничтожить всё вкуснейшее угощение, а она благосклонно улыбалась нам. Её лицо было румяным и сияющим от готовки, когда она накладывала нам в тарелки вторую и третью порции, пока мы не наедались до отвала так, что ленились идти на кухню, чтобы помочь с мытьём посуды.
После ужина мы садились обсуждать наше будущее и строить планы на тот чудесный день, когда Вацлав будет зарабатывать двести или двести пятьдесят рублей в месяц. Матушка Нижинская в полном отчаянии от наших несбыточных фантазий махала руками и умоляла: «Дети, дети! Не говорите о таких больших деньгах. Будьте довольны тем, что есть и не мечтайте о невозможном!». Затем она напоминала: «В следующем году Броня окончит школу и будет зарабатывать пятьдесят рублей. С жалованием Вацлава это будет сто рублей. Это большие деньги!». Я взрывался смехом. «Матушка Нижинская, сто рублей – это не большие деньги. Прошлой зимой я зарабатывал столько за неделю и всё потратил!» – это её сердило.
«Ты не пример для подражания, Толя! Ты сумасшедший мальчик, раз тратишь все эти деньги на карты и азартные игры!» Этой моей провинности матушка Нижинская так и не простила. Часто она ругала меня за это. Тем временем Броня научилась делать маникюр на наших ногтях, и они сияли, как розовые зеркала, всё это весёлое лето. Почти каждый вечер мы проводили дома, но иногда брали матушку Нижинскую с собой, чтобы на закате прогуляться по деревенским дорожкам, где издалека до нас доносились звуки оркестровой музыки.
… случалось, я исчезал в своем клубе за картами, хотя Вацлав умолял меня не уходить – он шёл рядом, засыпая меня упрёками и страшными пророчествами. Но всё было бесполезно. Азартные игры вошли в мою привычку, как никакая другая привычка. На следующий день я оказывался слишком уставшим, чтобы двигаться, когда приходил аккомпанировать на утренний урок. Вацлав обращался со мной холодно, неодобрение сквозило в каждом его взгляде, который он бросал на меня из-под своих густых бровей, потому что после такой экскурсии я обычно оставался без копейки в кармане. Если я выигрывал, то пытался помириться, покупая килограммы шоколада, конфет и фруктов, но и это не могло успокоить матушку Нижинскую, которая восклицала: «Толя! Толя! Я не хочу твоих конфет и фруктов! Я была бы самой счастливой женщиной на свете, если бы ты перестал играть и никогда не приносил мне ни одной шоколадки! Ты погубишь всю свою жизнь!». Как обычно, её слова не возымели действия, и я продолжал свою игру».
Чтобы отречься от такой искренней дружбы, у Брониславы должны были быть очень весомые причины… И всё же Броня кривит душой, когда пишет, что Бурман жил у них на даче только одну неделю. Потому что, на самом деле, Анатолий тоже был приглашён танцевать в Красносельском театре этим летом, и принимал участие практически во всех спектаклях, о чём свидетельствуют архивные программы и пресса. И, видимо, именно поэтому он и не поехал в деревню со своими родителями, а жил весь летний Красносельский театральный сезон на даче у Нижинских.