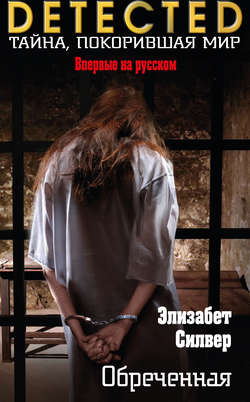Читать книгу Обреченная - Элизабет Силвер - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Шесть месяцев до дня «Х»
Глава 1
ОглавлениеВсе это началось за шесть месяцев до дня «Х», когда Оливер Стэнстед и Марлин Диксон посетили женскую тюрьму штата Пенсильвания. Оливер нетерпеливо ворвался внутрь, словно неопытный серфер, отчаянно пытающийся не упустить вторую волну. Его невинную физиономию обрамляли безвольные жидкие темно-каштановые волосы, стриженные в стиле минимум десятилетней давности. (Я знаю, поскольку это была самая модная стрижка, когда меня арестовали.) Одинокая ямочка дырявила его подбородок.
Я находилась в крохотном конвойном помещении с телефонной трубкой, куда меня притаскивали каждый раз, когда ко мне приходил посетитель. А они приходили часто, и я пыталась угадать, в чем дело на этот раз. Заметка для местной газеты? Материал для сериала новостного телеканала? Договор на книгу? Но когда Оливер Стэнстед в двадцатый или двадцать пятый раз набрал воздуху в грудь – твердо, но тревожно, уверенно, но нервно, – я поняла, что мои ожидания потребуют быстрой перенастройки.
– Ноа, не так ли? – сказал он в самую трубку. – Ноа Синглтон?
Это аристократическое британское «Ноа, не так ли?» с повышением интонации к концу фразы – словно высокомерный вопрос в один слог. Самоуверенность и наивность в этом одном суперчетком приветствии.
– Мое имя Оливер Стэнстед, я адвокат из Филадельфии, – сказал он, глядя в свой маленький конспектик, написанный красными чернилами. – Я работаю на некоммерческую организацию, которая представляет интересы заключенных, приговоренных к смертной казни, на различных стадиях процесса подачи апелляции, и совсем недавно мне поручили ваше дело.
– Хорошо, – ответила я, глядя на него.
Он был не первым наивным адвокатиком, который пытался использовать меня как трамплин в своей карьере. Я привыкла к таким нежданным визитам: после ареста приходили местные репортеры, после приговора – репортеры от государственных телекомпаний. А позже – год за годом, полные разочарований, – являлись назначенные апелляционным судом адвокаты, и меня затягивал бесполезный круговорот апелляций, где никто не слушал моих объяснений, что я не хочу больше бороться, что просто хочу поскорее дождаться 7 ноября. Всем этим адвокатам, как и этому, новому, было наплевать на мои желания.
– Так чего же вы от меня хотите? – спросила я. – У меня срок апелляции уже истек. Меня уничтожат в ноябре. «Первая женщина на электрическом стуле за много лет». Вы ведь читали новости, не так ли?
Мистер Оливер Стэнстед выдавил очередную улыбку на смену той, которая сползла с его лица, когда я начала говорить. Он провел пятерней по волосам, отбросив их набок, пытаясь сохранить этакий облик бескорыстного адвоката, жесткого противника смертной казни, вступившего в брак с Фемидой вместо нормальной женщины. И, как и у прочих защитников, которые приходили ко мне перед тем, как, повзрослев, обратиться в республиканство, даже его голос был под стать его прическе и костюму: покорный, как утихший океан, словно он только что вышел из материнской утробы, взыскуя себе некоммерческой занятости и однокомнатной квартирки в придачу. Я тут же возненавидела его.
– Ну, если не учитывать тот факт, что вы уже не можете подавать апелляции, я поболтал с некоторыми вашими адвокатами и…
– С какими именно? – подскочила я. – Со Стюартом Харрисом? С Мэдисоном Макколлом?
Я почти десять лет просидела в этой келье, выслушивая разнообразный убедительный адвокатский треп о назначенных судом защитниках, которые, по мнению очередного адвоката, накололи меня.
– Скажите вот что, мистер Оливер Стэнстед, почему я должна сидеть здесь и ломать их карьеры ради того, чтобы вы почувствовали себя борцом за правду? – спросила я.
Посетитель снова улыбнулся, словно я сказала ему комплимент.
– Я говорил с мистером Харрисом о некоторых моментах, имевших место во время вашего процесса.
– Харрис – пустое место. Что насчет Макколла?
Оливер кивнул, и я поняла, что он подготовился к этому визиту.
– К сожалению, он уже покинул нас.
– Покинул? – Я рассмеялась. – Не надо эвфемизмов. Оглянитесь вокруг. Не думаю, чтобы кто-нибудь из нас заслуживал смягченных формулировок. От чего он умер? От СПИДа? Я знала, что он мальчик – с кем попало спальчик. Может, сифилис?
– В его офисе был пожар. Он не сумел вовремя выбраться. Задохнулся дымом.
Я трижды коротко кивнула. Не предполагается, чтобы такое могло впечатлить людей вроде меня.
– Понятно, – сказала я наконец.
– Я также говорил с некоторыми вашими адвокатами из апелляционного суда, – продолжил Стэнстед. – Теми, которых назначил суд.
– И что они вам сказали? Что меня изнасиловал мой дядя? Что я ментально нестабильна? Что я не хотела убивать? Что в моем прошлом есть нечто, что позволяет суду помиловать меня?
Я ждала ответа. У них всегда есть ответ. На юридических факультетах этих чмошников учат мести языком, что хвостом. Сунь жвачку в рот, пожуй, пока вкус не пропадет, надуй пузырь, лопни его и выплюнь.
– Нет, – сказал Оливер. – Не совсем так.
– Тогда зачем вы здесь? Я смирилась. Все кончено. – Адвокат следил за моими губами, пока я говорила, словно плексиглас между нами глушил слова. – А если со мной всё в порядке, то и успокойтесь на этом. Вы даже не знаете меня.
– Дело в том, что мы действительно уверены, что у вас хорошие шансы на помилование.
– Мы? – уточнила я.
– Да. Мы думаем, что вы в уникальном положении, и это дает нам сильные основания написать прошение о помиловании.
Ну вот и приехали, вот вам и вечная причина для подобного визита. Глубокое желание исправить несправедливость. Или выставить справедливость несправедливой. Или исправить несправедливость, которая была справедливой по отношению к тому, кто свершил несправедливость. Дальше слушать не было смысла. Он мог точно так же подать еще стопку апелляций, нарыть новые свидетельства о моем поведении – короче, снова повторить все эти бесполезные отчаянные попытки, которые уже испробовали все остальные доктора юриспруденции, встречавшиеся на моем пути.
– Вы думаете, что меня несправедливо осудили, не так ли? – улыбнулась я. – Вы хотите начать карьеру, добавив себе такой плюс к карме, что сможете в будущем спокойно заниматься любыми грязными делами на службе какого-нибудь мультинационального банка, или страховой компании, или чего-то в этом роде? Я права?
Поначалу адвокат не ответил.
– Я права, верно? – повторила я.
И снова – без ответа.
Я вздохнула.
– Ну, говорите.
Оливер осторожно огляделся по сторонам.
– Невиновность – всегда спорный фактор, особенно когда идет речь о смертной казни. – Он почти прошептал эти слова, явно подчеркивая слово «невиновность», как будто оно действительно имело особое значение лично для него.
Правда в том, что в какой-то момент я действительно думала, что невиновна, но уверенность продержалась недолго – как подростковая гиперсексуальность или желание съесть шоколадку.
– Знаете ли, Олли, в Европе есть около пяти тысяч одиноких женщин, которые страшно хотят выйти замуж за мужчин, сидящих в тюрьме, – сказала я. Мой собеседник не ответил; не думаю, чтобы он был удивлен. – Вы ведь англичанин, верно?
– Формально – да, – кивнул юрист, не осознавая, что я едва слушаю его. – Вообще-то я валлиец. Я родился в Кардиффе.
– Хорошо. Так сколько у нас, женщин, есть английских Ромео?
Адвокат промолчал. Он просто онемел.
Я приложила ко рту ладонь, сложенную трубочкой.
– Я подскажу вам. Столько же, сколько и русских.
Опять тишина в ответ. Его молчаливость не сильно меня удивила. Ответное молчание растет откуда надо. В конце концов он пришел сюда, как этакий Аттикус Финч[2], но не понимает, что чопорная учтивость в теле бледного валлийского футболиста – не самая эффективная юридическая тактика.
– Олли, вы должны быть легки на подъем, если хотите «сделать» тех остальных адвокатов, – сказала я, щелкнув пальцами. – Они сюда приходят раз в полгода вымаливать мне час свободы в день, понимаете ли. Давайте. У вас получится лучше.
Стэнстед не принял мою подачу, и я решила, что он просто очередной самоуверенный адвокатик.
– Ладно же, – сказала я и отняла трубку от уха. – Охрана!
– Ноа, пожалуйста, выслушайте, – чуть слышно сказал Оливер, наконец; я едва улавливала его слова, исходившие из трубки в моей застывшей руке. – Пожалуйста, не кладите трубку.
Он поднял руку к перегородке. Четыре пальца коснулись плексигласа, я даже смогла увидеть слабые отпечатки, бледные полоски в круге подушечек, неожиданно мясистых. Их тепло затуманило стекло.
– Мы очень хотели бы поговорить с вами, – добавил адвокат.
Я ждала, что он назовет имя, но он молчал. Я уже было отвернулась, когда Стэнстед снова постучал по плексигласовой стенке, умоляя меня выслушать его. Я едва расслышала имя сквозь шум – не мой шум. Он жестами просил меня взять трубку и приложить ее к уху. И через десять лет после того, как за мной закрылись двери камеры, глядя на этот неуместный валлийский оскал, я могла поклясться, что Олли Стэнстед называет имя матери Сары.
– Мы? – спросила я, поднимая трубку.
Оливер с облегчением улыбнулся.
– Я недавно имел удовольствие встретиться с миссис Марлин Диксон, и она убеждена, что вы должны остаться жить. Вот почему мы уверены, причем оба, что вы – подходящий кандидат на помилование. Обычно это рутина, последнее средство, но из-за ее родства с обеими…
Я перестала слушать. Последние отпечатки испарились с плексигласа, и осталась лишь захватанная пальцами прозрачная стенка. В тот момент это было единственным, на чем я была способна сфокусироваться. Толстая искусственная преграда, разделявшая тех, кто живет, и тех… ну, кто живет по-другому.
– Надо же, – сказала я наконец. – Марлин…
Многосложное Марррлиииин Дииииксооон доводило меня до тошнотворного самобичевания каждый раз, как я слышала это имя, так что последние десять лет я старалась никогда не думать об этом сочетании звуков. Олли, явно пытавшийся потягаться с людьми вроде Марлин, не останавливался, чтобы послушать то, что я говорю, или чего не говорю или не знаю, против чего протестую упорным молчанием. Он быстро учился – хотя бы одна положительная черта по первому впечатлению.
– Миссис Диксон недавно основала некоммерческую организацию, которая называется «Матери против смертной казни», и не считает, что даже самый жестокий убийца заслуживает смерти со стороны государства. Я – один из адвокатов-волонтеров МАСК.
Четыре слога ее имени продолжали дрожать в трубке, как эхо колеблющейся между нами гитарной струны.
– «Матери против смертной казни»? – сказала я, изобразив смешок.
– Мм, – ответил мой посетитель.
– «Матери против смертной казни»? – снова повторила я, и на этот раз юмор действительно сквозил в моем голосе. – Вы шутите, что ли? МАСК? То есть как… маска, как скрытое истинное лицо?
Оливер Стэнстед сглотнул и уставился на свои ботинки, вытащив пачку бумаг.
– Ну, да, М.А.С.К. – Он произнес эту аббревиатуру, каждую букву раздельно, с паузой, с отточенной дикцией. Наверняка получил настоящее оксбриджское образование. Пигмалион вплоть до британского произношения[3].
– А разве это не группа за запрет вождения в пьяном виде? Ее за нарушение авторского права еще не привлекали? – засмеялась я. – Разве это не поэтично?
– Эта группа называется «Матери против пьяных автомобилистов», МАППА, – поправил меня юрист.
– МАППА, – повторила я, произнося это односложное слово как можно четче. – МАППА. – Я попыталась еще раз с той же интонацией, будто хотела попробовать на слух разницу между тем и этим. – По мне, все едино.
– Прошу вас, – нетерпеливо сказал Оливер.
– Так чего же несравненная миссис Диксон хочет от меня? – спросила я наконец. – В последний раз, как я точно знаю, она желала присутствовать на моей казни. Она давала показания на слушаниях против меня, знаете ли.
Не могу сказать, знал ли уже об этом адвокат – или все еще ждал, когда ему на стол положат заключение.
– Я уверена: она сказала, что смертная казнь – единственная чрезвычайная форма наказания, имеющаяся в нашей судебной системе, которая должна применяться только в случае самых вопиющих преступлений и только к самым ужасным людям, которых ничто другое на их преступном пути не сможет остановить. И если я верно помню, она заявила буквально следующее: «Никто настолько точно не подпадает под это определение, как Ноа Пи Синглтон». Кавычки закрываются.
Оливер Стэнстед достал блокнот, щелкнул кнопкой шариковой ручки и положил ее на стол.
– Она вам об этом рассказывала? – спросила я.
– Ну, для нее с тех пор обстоятельства изменились.
– Да неужели?
– Как я уже сказал, она основала эту организацию…
– …да, вы сказали. «Матери против пьяных автомобилистов»…
– …и больше не верит, как вы говорите, в смертную казнь как в чрезвычайную форму наказания.
Мистер Стэнстед, не желая слушать меня, продолжал, словно составлял свою речь несколько дней и жаждал произнести ее, чего бы то ни стоило.
– Теперь она уверена, что это пережиток, варварство, идущее вразрез с любыми историческими целями и устремлениями вашей страны. – Оливер замолк на целых пятнадцать секунд перед тем, как продолжить. – Вы улавливаете нить?
– О да, конечно. Но что, если я сама верю в смертную казнь? Что, если я верю в принцип «око за око»?
Адвокат уставился на меня так, словно был уверен, что я лгу. Словно его убеждения были правильнее моих просто потому, что у него есть акцент, а у меня когда-то был загар.
– Но ведь вы на самом деле не верите в это, Ноа? – Он скрестил руки на груди, правую поверх левой. – Я знаю, что на самом деле вы в это не верите.
– Да ладно, мистер Стэнстед. Я не ищу сочувствия.
– Статистики по апелляциям, отвергнутым на этой стадии – стадии прошения о помиловании, в последний момент – очень мало, – сказал мой собеседник. – Мы должны это сделать. Нам нужно это сделать. Сработает или нет, но нам нужно узнать алгоритм работы губернатора на этой стадии процесса. Если группы вроде МАСК и прочие не смогут понять и задокументировать алгоритм – алгоритм, согласно которому суды и присяжные посылают на смерть заключенных, алгоритм действия апелляционных судов, утверждающих приговор губернатора, отвергающего прошение о помиловании, – то трудно будет показать обществу, насколько вопиюще несправедлива такая система. Без этой статистики правительство никогда не осознает, какие законы оно увековечивает. Это варварство, это отжившая форма наказания, не дающая устрашения, что бы ни…
Я опять перестала слушать. Печально, но, похоже, я отвернулась как раз в тот момент, когда Оливер Стэнстед снова вернулся на страницы Харпер Ли, но у меня болела голова, и я не могла выслушать еще одну речь. Мой разум сжимался от слов, произнесенных более правильно, чем я слышала за эти десять лет. Они сочились слепой амбициозностью, несбывшимися надеждами. И снова у меня закружилась голова – она тяжело закачалась на шее, как у старой негодной игрушки, каковой я и была. Я хотела сказать что-нибудь переломное, чтобы адвокат отстал от меня, но он говорил так быстро, что чуть ли не спотыкался о собственные слова, пока буквально не захлебнулся ими.
– Так что вы на это скажете? – спросил он. – Если не ради вас, то ради системы. Ради других заключенных.
Он не знал никого из других заключенных, а если бы знал, то уж точно не стал бы им помогать.
– Послушайте, мистер Стэнстед, вы действительно считаете, что я впервые думаю о помиловании или о других вариантах апелляции? Я уже такое проходила. Вы пришли помучить меня? Дать мне призрачную надежду, когда я уже почти сдалась? – Я пыталась не хихикнуть на слове «надежда». Это было так мелодраматично. Так в духе «Побега из Шоушенка». – Поможет это или нет – нет. Спасибо вам.
– Оливер, – мягко сказал юрист как ни в чем не бывало. – Зовите меня Оливер.
– Не Олли?
Он не ответил.
– Отлично, Оливер, – сказала я. – Вы понимаете, помилование зарезервировано в основном за умственно отсталыми, которые…
– …те, кто на самом деле невиновен, не будут сидеть в тюрьме шесть месяцев перед казнью, а умственно неполноценные даже не подлежат смертной казни.
– Избавьте меня от ваших юридических проповедей.
– Реальность в том, что я только начал разбираться в вашем деле и думаю, что у нас есть кое-какие карты. Жертвы, оружие, свидетельства, мотив. Все это так чертовски запутано!
– Позвольте мне спросить прямо. Зачем вы хотите пробудить во мне надежду? Ради статистики?
Стэнстед покачал головой.
– Нет.
– Вы не хотите дать мне надежду?
– Нет, я не это сказал.
– Вы хотите использовать меня ради блага других заключенных?
– Нет, мисс Синглтон, – сказал Оливер, поднимая руку ко лбу.
– Расслабьтесь, – улыбнулась я. – Все в порядке, все в порядке.
– Мы твердо уверены, что при новом отношении миссис Диксон к смертным приговорам губернатор действительно может по-иному взглянуть на ваше дело.
– С чего бы? – рассмеялась я. – Потому, что Марлин Диксон – поправьте меня, если я ошиблась – намерена просить о моем помиловании?
Но поскольку Оливер продолжал бубнить, мой взгляд переместился с его рта на задернутую занавеской дверь в глубине помещения, откуда доносились только гулкие звуки. Из своей звуконепроницаемой камеры я слышала цокот высоких каблуков по полу, жесткий и ушераздирающий, как грохот града, если слушать его из-под воды. Это оказались темно-синие лодочки, крохотные, с широким каблуком – тип, который носят женщины средних лет, когда им становится наплевать на чувственный изгиб икр.
– Оливер, – сказала я, пытаясь остановить посетителя. – Извините. Я знаю, почему я здесь. Мне нет нужды снова переживать все стадии моей вины ради очередного амбициозного адвокатика, который хочет построить себе трамплин для карьеры, посещая приговоренных вроде меня.
– Если б мы могли просто поговорить о том, что случилось… – сказал он, подавленный размеренным цоканьем туфель пожилой леди у себя за спиной. Ее шаг был настолько громким, что я слышала его, как фон, в трубке. А Олли подпрыгивал с каждым ее шагом, словно танцуя в такт, пока она не возникла в полный рост в комнате для посетителей.
Сквозь плексигласовую перегородку я услышала, как она сказала что-то Стэнстеду – я не разобрала, что именно, но достаточно много поняла по реакции моего-в-скором-времени-упертого-адвокатика. Он немедленно вскочил, чтобы поздороваться с ней, послушно поклонившись. Понятно. Сколько бы Олли ни изображал передо мной силу духа, он тут же, как щенок, лег на спину в иерархическом подчинении. Я почти потеряла аппетит.
– Привет, Марлин, – прошептала я, постучав трубкой по перегородке. Я постаралась заговорить первой, с прицельной четкостью. Я не хотела говорить глумливо, но, полагаю, у меня все равно не получилось бы иначе. А может, я просто хочу дать людям то, ради чего они сюда пришли. Так что ничего страшного.
Я снова повторила:
– Привет, Марлин. Я и не знала, что вам нужен пролог.
Лицо Диксон еле заметно дернулось, когда она поморщилась. Не произнося ни слова, она достала из кармана платок и протерла трубку. И только после этого подняла ее к уху.
– Привет, Ноа. – Она явно через силу произносила мое имя.
«Не так уж это и трудно», – хотелось мне ответить. Но вместо этого я сказала, что она хорошо выглядит, и это было правдой. Марлин снова покрасила волосы – ради процесса она по очевидным причинам оставила свою привычную практику. Сейчас эта дама была красивой платиновой блондинкой – того самого лучистого цвета, к которому прибегает большинство женщин старше пятидесяти, чтобы седина не выдавала правды. Но должна сказать, что эта масть ей очень шла.
Я посмотрела на Олли, который держал ее портфель, пока она усаживалась в его кресло. Затем он сел рядом и взял вторую трубку, чтобы подслушивать процесс нашего священного воссоединения. Чем больше я думала об этом, тем больше мне казалось, что он не такой уж языковый полоскун. Но опять же, возможно, это была просто очередная иллюзия, возникающая в заключении.
– Я слышала, что тебе назначили новую дату исполнения приговора, – сказала наконец Диксон. Ее длинные костлявые пальцы пробежались по челке, и она отбросила ее со лба, как это делают подростки.
– Ага, седьмого ноября. – Я приложила трубку к другому уху. – Для чего вы все-таки на самом деле пришли, Марлин? Вряд ли вы жаждете сохранить мне жизнь.
Посетительница снова взглянула на Оливера, а затем прижала к сердцу ту же самую костлявую руку и прокашлялась.
– На самом деле, жажду.
Мои глаза сузились, натянутые в уголках незримыми струнами, и на лице моем появилось подобие заискивающей улыбки. Господи, как раз вовремя! То есть не то чтобы она ждала ликования, смеха, благодарности, раскаяния или Бог весть чего еще, но она казалась искренне обрадованной – конечно, на фоне приглушенного дискомфорта – от того, что увидела якобы счастье на моем лице. Я не могла сказать ей, что моя реакция была проявлением скорее насмешки, чем надежды.
– Зачем? – спросила я наконец. – Почему это вы вдруг внезапно решили помочь мне?
– Разве Оливер об этом с тобой не говорил?
Я кивнула.
– И все же…
– У меня есть на то свои причины, Ноа. И ты прежде всех других должна это понимать.
– Продолжайте, Марлин.
Диксон поправила кресло – так, чтобы смотреть мне прямо в лицо – и пожевала губами, словно размазывая помаду. Когда Марлин нанесла ее – вероятно, несколько часов назад, – та была кроваво-красной, а теперь выцвела до красно-глинистой. Несомненно, Диксон очень страдала от невозможности подкрасить губы в этих стенах.
– Вы действительно не хотите сказать мне, почему решили переиграть? – спросила я.
Марлин пропустила мои слова мимо ушей. Пока я говорила, она на мгновение положила трубку, а потом вместо ответа наклонилась и достала пачку документов из своего кожаного портфеля с монограммой. Как только Диксон снова вышла на связь, она с дробным стуком рассыпала папки по столу. Она не собиралась отвечать мне. Что ж, все честно. Я могу продолжать игру.
– Итак, что за заморочка с МАСК? – спросила я. – Вы не могли придумать названия получше? Вам было лень? Вы послали подальше «Матерей против пьяных автомобилистов» после того, как вас задержали за вождение в пьяном виде?
Диксон снова подняла трубку, продолжая рыться в папках.
– Я склонна объяснять твое непонимание прямым результатом заключения, Ноа, и в будущем не намерена удовлетворять твое любопытство насчет причин моего участия в подаче прошения о помиловании, точно так же как я не стану обсуждать с тобой детали похорон моей дочери. – Она в конце концов посмотрела на меня. – Это понятно? – Марлин была первым посетителем, кроме Олли С., кто не предлагал мне печенек или воды из автомата.
– Хорошо, – вздохнула я. – Но я все равно не понимаю. Что может изменить ваш приход сюда?
– Оливер должен был тебе объяснить, – заявила Диксон, ни на градус не повернув головы в его сторону; сам он при этом сидел не шевелясь. – Я четко велела ему рассказать тебе об этом. Кроме того, разве мы уже не покончили с этим?
– Он рассказал, рассказал, – ответила я, выдавливая сочувственную улыбку в адрес Оливера. – Да, мы вроде как разобрались во всем. И все равно я не понимаю этой внезапной перемены в вашей душе.
– Это не перемена в душе, Ноа, – ответила женщина, вставая прямо перед перегородкой. – Это благодаря той душе, которая всегда жила во мне.
Я не знала, как на это ответить. Я и не думала, что у Марлин была хотя бы четверть души, а не то что целая.
– Ну? Что замолчала? – Она почти рассмеялась. – Ты никогда за словом в карман не лезла, Ноа.
– Простите, Марлин, я не хотела вас обидеть.
– Ты не обидела меня, Ноа, – сказала Диксон. – Ты просто так и не повзрослела за все эти годы. Это сквозит во всех твоих апелляциях на уровне штата и федеральном – ты же ни пальцем не шевельнула, чтобы помочь своим адвокатам. И все же… – Она вдруг запнулась. – Все же…
Она так и не завершила фразу. В тот раз – нет. Как и в течение последующих шести месяцев.
– Полагаю, я заслужила объяснений, – сказала я, глядя на Оливера. Он быстро отвернулся.
– Послушай, Ноа, я хочу помочь тебе, – сказала Марлин текучим голосом. – Я хочу поговорить о тебе с губернатором и сказать ему как мать жертвы, что я не смогу жить с такой тяжестью на душе, если тебя казнят, но мне нужно что-то – что угодно – от тебя, что показало бы, что ты изменилась. Что теперь ты хорошая. Что ты не хотела делать того, что сделала. Что ты ценный член общества. Так что поговори со мной, докажи это мне! – Губы у нее были чрезвычайно сухими, и она облизнула их, прежде чем продолжить. – Не мне и не государству распоряжаться чужой жизнью. Теперь я свято верю в это. Но еще сильнее, на личном уровне, я хочу верить, что это верно в отношении тебя. – Она потрогала указательным пальцем мешки под глазами. – Это что-то значит для тебя?
– Вы изменились, но мне кажется – что я ни скажи вам, ваше мнение обо мне не изменится.
– Не оскорбляй меня! – приказала Диксон, да таким тоном, что почти сразу стало понятно, почему она добилась такого успеха. И до суда, и еще больше потом. – Не трать мое время, Ноа.
Это был по-прежнему монотонный и до дрожи повелительный голос, но теперь совсем спокойный. Как миллионер, без дела гуляющий по улице. Самоуверенно спокойный, понимаете? Итак, с меня сняли намордник, и без ее мягкого сдерживания я наконец смогла это сказать.
– Мне… мне жаль.
Это было даже не так трудно, вот что всего удивительнее. Я не могла выдавить эти слова во все время процесса – а тут они просто слетели с языка, как сдача проваливается в дырку в кармане.
Посетительница вздохнула, и ее плоская грудь выпятилась вперед.
– Я хочу узнать тебя. Понять.
Мы с Оливером переглянулись, когда она замолчала.
– Почему родители назвали тебя Ноа? – спросила Марлин. – Какая твоя любимая еда? Какой цвет ты любишь? Ты… – Она прервалась. – Извини. Ты слушаешь какую-то особую музыку?
И ни слова о моем извинении. Но я снова подыграла ей.
– Ладно, – сказала я. – Я любила суши – правда, до того, как они стали так популярны. Я обожала музыку из шоу, бродвейские мюзиклы, особенно «Кабаре», «Карусель», «Чикаго» – в одно слово и почти на одну букву, не обязательно тюремные. И, ну, я не то чтобы сама их любила, я слушаю их из-за мамы. Извините. Слушала, – быстро поправила я и замялась. – Хмм… Что же еще? Я люблю зеленый цвет, любого оттенка. Цвет лесной листвы, цвет лайма, старый добрый зеленый, травяной, темно-зеленый с желтоватым отливом. Однажды я пробежала половину марафонской дистанции. – Я посмотрела в ждущие глаза Диксон. – Мое имя… Зачем?
– Не думайте, что вас принуждают говорить только о таких вещах, – встрял Оливер.
Марлин повернула голову – словно откручивали крышку бутылки с колой – и так глянула на Олли, что его кресло аж отъехало и по-мышиному пискнуло. Кресло буквально все сделало за него само. Он уронил трубку и быстро снова поднял ее, чтобы ничего не упустить. Я уже почти и забыла, что он здесь. Такова была сила личности Марлин Диксон – доза облучения и лучевая болезнь. Она просто затмевала всех вокруг. Возможно, поэтому она никогда и не любила меня. Я не давала ей роскоши пощекотать свой нарциссизм.
– Правда, – кивнула она. – Я хочу знать. – Затем снова немного помолчала, изображая интерес. – Почему Ноа?
Она действительно не притворялась ни в чем – ни в желаниях, ни в просьбах, ни во внешних проявлениях. Изящно одетая в угольно-черный строгий костюм, свободный в раздающихся бедрах, она представляла собой полную противоположность всем женщинам в моей жизни. Рубиновые «гвоздики» светились прямо посередине каждой ее отвисающей мочки. Поверх блейзера висела длинная золотая цепочка, спускаясь между тем, что было бы ее грудями, не будь они удалены во время широко разрекламированной мастэктомии, проходившей параллельно с моим процессом. (Я знаю, что мой приговор никак с этим не связан, но не могу перестать задаваться вопросом – даже сейчас, – что случилось бы, если б присяжные ничего не знали о ее проблемах со здоровьем.) На цепочке висел увесистый медальон примерно в два дюйма длиной, в котором, я уверена, она хранила младенческий портрет Сары и, конечно, фотку с выпускного.
– Честно говоря, – сказала я, – я не могу сказать, что там думала моя мать, но я сама уверена, что она хотела мальчика, потому дала мне женское имя от имени Ной – Нойа. Все просто.
– Но ты произносишь его как Ноа, – продолжала Марлин.
– Мы опять будем цепляться к словам? Это не аббревиатура.
Однако Диксон продолжала настаивать.
– Видите ли, – сказала я, – когда я пошла в школу, я выбросила «й», потому мне так казалось круче. Оригинальнее.
– Но вам дали второе имя, – встрял Оливер.
– Нет.
– Но запись…
– Я сама дала себе второе имя, Олли, – повысила я голос. – Представьте, что вам наскучило быть родителем прежде, чем вы успели дать имя ребенку.
Стэнстед не ответил. У Марлин был недовольный вид.
– Всё в порядке. – Я понизила голос и прокашлялась, прежде чем продолжить. – Просто представьте, что вы не сможете сделать ничего запоминающегося или оригинального, если у вас скучное имя, вот и все. Второе имя, имя через дефис, многосложное этническое имя – вы понимаете, о чем я?
– Ну, – пробормотал адвокат себе под нос. – А как же Билл Клинтон? Или Джейн Остин? Или Джимми Картер?
– Случайность, – отрезала я. – Они просочились через трещины в бытии.
Марлин наконец заговорила снова.
– Дело в том, как ты произносишь свое имя, – сказала она. – Так оно звучит по-еврейски. Красивое еврейское имя для женщины.
– Еврейское, неужели? – спросила я так, словно не знала этого. Люди всегда приходят сюда, к заключенным, сообщая очевидное с таким видом, будто открывают им то, чего они еще не знают. Знак праведного превосходства в силу выбора сидения в этом месте.
– Правда? – спросил Олли, словно я только что сообщила ей, что Микеланджело расписал Сикстинскую капеллу или что Иисус был евреем. Марлин, неужели ты не могла найти кого-нибудь получше?
Но пока я говорила, а Стэнстед делал заметки, что-то менялось, и я это чувствовала. Внезапно температура в комнате для посещений упала. Замедлился ход часов. Пульс застыл.
– Я хотела назвать свою дочь Ноа, – призналась Марлин, – но моему мужу это имя не понравилось.
– Я не знала, – сказала я, дав ей время поскорбеть об этом упущении.
Она взяла документы, собрала их в пачку и постучала ими по столу, пока не выровняла.
– Что же, события не всегда идут так, как мы их запланировали, верно? – Диксон снова наклонилась к портфелю и убрала папочки. – Спасибо, что уделила мне время, Ноа. Будем на связи.
* * *
После того как Марлин и Оливер ушли – так же внезапно, как и пришли, – Нэнси Рэй (порой моя любимая тюремная надзирательница – она работает только три дня в неделю) надела мне наручники и повела в мою камеру в моей собственной версии прохода «после вчерашнего» (или в нашем случае «красной дорожки»).
Это никогда не занимает много времени, отчасти потому, что в последние годы я стала образцовой смертницей. Когда сразу после визита командуют: «Руки», я пячусь к двери, как будто перед плексигласовой перегородкой стоит сама английская королева со своим двором, скрещиваю руки за спиной и просовываю их в отверстие в двери, где Нэнси Рэй (или некто не столь похожий на официальную карикатуру) сковывает мои запястья. Со мной не особо деликатничают, и в течение трех месяцев после моего заключения я часто возвращалась в камеру после посещений с синяками, очень напоминающими те браслеты, которые я носила в 80-х, или мой любимый бриллиантовый «теннисный браслет».
Одна из моих прежних соседок, Дженис Дуковски, которая была приговорена к смерти за то, что заказала мужа, имела обыкновение как минимум раз в месяц кончать с собой, вскрывая вены на запястьях своими грибковыми ногтями на ногах, и оставшиеся после этого шрамы было невозможно различить, поскольку их всегда скрывали окровавленные повязки.
Конечно, сейчас я ничего такого не делаю. Я всегда позволяю сковать себе руки и всегда высоко держу голову, идя «по ковровой дорожке» в свою камеру, в которой я сижу двадцать три часа до часа прогулки или пока другой журналист или адвокат не пожелает поговорить со мной. Все просто.
Я так много лежу на койке, что мое тело не всегда способно держаться прямо. Иногда, когда тюремщица подходит к моей камере и говорит, что у меня посетитель вроде Оливера или Марлин, я встаю с кровати и вместо того, чтобы подойти к решетке, падаю на пол – мои мускулы атрофировались, мои ноги лишены активности, а мои кости пусты и звонки. Однажды я отказалась от прогулок, поскольку меня достала моя мать своими звонками и записками за те две недели, что я жила в своей камере шесть на девять футов, так что последующие пять недель я вставала только пописать или покакать. Потом я узнала, что она совершала круиз по Балтийскому морю вместе с пожарным по имени Ренато, которого встретила, будучи в группе поддержки – не родителей заключенных, а матерей-одиночек и актрис без карточки членства актерской ассоциации. Когда она снова вышла со мной на связь, те пять недель истекли, и следующие десять я провела, пытаясь восстановить мою мышечную массу, отжимаясь от холодного пола сорок раз в час.
Однако теперь я пользуюсь своим часом прогулки (часто при этом бегаю по пятнадцать футов за раз, смотрю телевизор или подбираю себе новое чтиво) и шествую с исправительной смиренностью от кабинки для посещений до камеры, словно мои наручники – это на самом деле бриллиантовые браслеты, Нэнси Рэй – офицер моей тайной службы, а моя коричневая тюремная роба – кашемировая шаль.
Как минимум раз в час меня будят в моей камере. Большинство людей просыпаются, когда им снятся кошмары или когда надо выйти в туалет. Я просыпалась, потому что моя соседка по часам рыдает по своему любовнику. Она убила его в Гаррисбурге; утверждала, что защищалась, но, по правде, все было наоборот. Я помню все очень хорошо, потому как это случилось, когда я прибыла сюда. Она грабила дежурный мини-маркет, когда прострелила ему голову. «Он», конечно же, не был ее бойфрендом, или любовником, или мужем, или другом – он был просто парнем по имени Пэт Джеримайя, владельцем местного спорт-бара, куда она часто заходила. Он зашел купить сигарет, она вошла следом, чтобы добыть для него сигарет – конечно, бесплатно. Она вытащила «ствол», когда кассир не подчинился, но поскольку она не знала, как им пользоваться, то случайно разрядила его в сторону двери, откуда выходил ее приятель. Она так испугалась и огорчилась, что пристрелила еще и кассира – и сделала ноги. Все это попало на камеру и было показано в новостях, когда я встретилась с Сарой, так что эта соседка занимала особое место в моем сердце. Но я рассказываю это потому, что она вопила на двадцать первой минуте каждого часа, во время смерти ее любимого «Пэта» из «Клуба Пэта». Я была, по крайней мере, в курсе, который час. Часов у меня нет, и время я отмечала только по воплям соседки. «Пэт, я тебя люблю! Пэт, ты мне нужен! Пэт! Мне тебя не хватает, Пэт!» – и так по три раза. Не знаю, были ли у нее в камере часы. Предположительно, нет. Возможно, надзиратель стучит палкой по решетке ее камеры на каждой двадцать первой минуте каждый день. Но что-то говорит мне, что это срабатывает ее внутренний таймер – ежедневно, как солнечные часы. Она надежна и вездесуща. Я называю ее Пэтсмит в честь былых дней, когда фамилия означала твое занятие – кузнец или ювелир. В этом случае она – «убийца любимого», убийца Пэта, Пэтсмит.
Остальные пятьдесят пять минут каждого часа заняты размышлением о моем прошлом, о моем преступлении и о пауках, устроивших себе гнезда в углах моей камеры. Я не могу поговорить с выдуманными собеседниками, которые якобы населяют мою камеру, и я не думаю, что кому-нибудь будет приятно слушать мое пение. Мои соседки скорее разговаривают сами с собой, чем через стену со мной. И я лучше буду молчать, чем исповедоваться – опять же через стену с решетками, глазами, ушами и микрофонами.
Я в тюрьме, господи боже мой! Это в буквальном смысле вакуум, который затягивает в себя людей, чтобы очистить внешний мир. Я живу в этом вакууме, который стал моей вселенной, и я думаю о себе (а еще о Саре и о ребенке Сары, и порой о Марлин, и о моем отце и о моих друзьях детства). Вот почему, когда ко мне приходят, я могу только разговаривать. Разговаривать и подмечать, во что одет посетитель, что он говорит или чего не говорит. При мне осталась только моя наблюдательность. Если они или кто-либо еще (Оливер или сама Марлин) хотят заявить, что, прежде чем попасть сюда, я была эгоцентрична, – ну и ладно. Но не сейчас. Сейчас я зациклена на имидже, поскольку на этом в отношении меня зациклены люди. Как я выгляжу, что говорю, что делаю. Я зациклена на том, что никогда не стану женщиной средних лет. На том, что никогда не смогу покрасить волосы, чтобы замаскировать свою опытность. Или дать совет своей младшей версии.
Впрочем, время от времени в этот вакуум приходит кто-нибудь, чтобы принести мне что-нибудь новое для размышления. Но уж точно это не Оливер. Как минимум пока. Однако в его невинности было нечто соблазняющее, потому что много часов после того, как они с Марлин ушли, я все представляла его, глядящего на меня через плексигласовую перегородку, с улыбкой шириной от Алькатраса до Синг-Синга[4]. В тот час он был политиком, ведущим телешоу, специалистом по погоде, убеждающим меня в своей подлинности и надежности. В то же время он был пятнадцатилетним подростком, только что закончившим среднюю школу и получившим вот эту самую первую работу. Нет, он был двадцатичетырехлетним молодым человеком, который только что закончил юридический колледж и получил первое дело – дело, которое, как он на самом деле чувствовал, кричит всем и каждому о его жалкой карьере. Но он был слишком молодым, чтобы сделать что-нибудь. Слишком неопытным. Слишком неуверенным в отношении того, кому собирается посвятить свое время – такой, как я.
Затем он вернулся уже один – на другой день после того, как Марлин почтила меня своим присутствием, – и принес с собой пустой блокнот. Он забросил за ухо выбившуюся прядь (где, словно птичье гнездо, неожиданно виднелся клочок седых волос) и обратился ко мне, прямо как Стюарт Харрис, Мэдисон Макколл и все прочие адвокаты обращались к присяжным много лет назад, когда убеждали меня оспаривать обвинение.
– Давайте рассмотрим вас как личность, – сказал он. – Давайте посмотрим на Марлин и на то, что она говорит. Заявление пострадавшей – именно то, чем отличается этот случай от прочих. И благодаря Марлин мы можем рассматривать помилование с обратной стороны. Мы можем позволить ей стать инициатором всего. Прошение о помиловании, заявление со стороны семьи жертвы, аффидевит с ее личной подписью и ее обращение о помиловании – и все это сразу же ляжет на стол губернатору для его рассмотрения. Рассмотрим, что подумает губернатор. Готов ли он отправить вас на смерть, не дав вам шанса на борьбу? – Оливер обращался ко мне так, словно просил о милосердии. – Сейчас имеют значение люди. Это не факты. Это не закон. Это сострадание. И люди.
Было очевидно, что я первая здешняя клиентка Олли. А кому не хочется быть первым для кого-нибудь хоть в чем-то?
И все равно, хотя соблазн стать первым в чем-то для кого-то (даже в заключении) казался восхитительно непреодолимым, я все же воспротивилась. Стэнстед не предлагал мне ничего нового. Это был просто заход с другой стороны, и, откровенно говоря, я устала что-то делать для кого-то. Затем он напомнил мне о Марлин.
– Она больше не верит в смертную казнь? – спросила я. – Правда?
Оливер покачал головой.
В этом явно было нечто большее, но в тот момент мое сердце упало, и я сдалась. Для Оливера Стэнстеда, однако, мой неохотный кивок стал знаком активного согласия. И, почти как по сигналу, он взял блокнот в правую руку и нажал кнопку шариковой ручки левой.
– Вы не против, если я буду делать заметки? – спросил он. Это был первый случай сознательного решения с его стороны, и я не смогла удержаться. Я хотела провести остаток дней с Аттикусом Финчем. Я хотела, чтобы меня очаровал Марк Дарси[5] перед тем, как мне попадут мой последний ужин. Я хотела поговорить с Кларенсом Дарроу[6]. Но вместо этого получила Олли Стэнстеда.
– Нет, я не против.
Зря я согласилась. Потом я об этом сильно пожалела. Заявляю четко и ясно: я жалею, что мы вообще взялись за это.
2
Герой романа «Убить пересмешника», адвокат, защищающий чернокожего, обвиненного в изнасиловании белой женщины.
3
Имеется в виду герой пьесы Б. Шоу «Пигмалион», профессор Хиггинс, специалист по произношению.
4
Алькатрас, Синг-Синг – знаменитые американские тюрьмы строгого режима.
5
Герой романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение».
6
Кларенс Дарроу (1857–1938) – американский юрист и один из руководителей Американского союза гражданских свобод, из идейных соображений выступавший в качестве адвоката на многих известных судебных процессах.