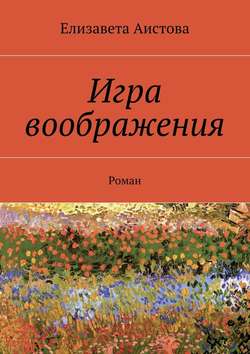Читать книгу Игра воображения. Роман - Елизавета Аистова - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Гошино признание
ОглавлениеСуществование Гоши Бергштрауха мало походило на жизнь его друга Пономарева. Гоша жил в мире звуков. Бергштраух работал в музыкальной школе, преподавал сольфеджио и теорию музыки, а по совместительству подрабатывал настройщиком фортепиано. Вечерами, в свободное от преподавания время, он нажимал на клавиши и слушал звуки. Несмотря на молодость, Гоша среди учеников, их родителей и коллег слыл настоящим мастером своего дела. Пономареву, Гошиному ближайшему другу, казалось странным, что Гоша любит работу настройщика. Ладно бы играл, а то нажимает на клавиши, одно и то же из дня в день. Ведь надоесть должно!
Гоше нравился момент, когда он ловил нужный звук. Мог сидеть над инструментом часами, лишь бы добиться желаемого. Работа требовала гигантского терпения. Старенький инструмент после Гоши начинал петь, как будто его сделал хороший мастер.
Гошина жена, Лера, серьезная и волевая женщина, не мешала Гоше любить музыку, а Гоша Лере – быть главой семьи. Жили они дружно. Семейный бюджет обеспечивал Гоша, но все остальное находилось в руках Леры, прекрасной хозяйки, отличавшейся немного мужеподобной внешностью, особенно заметной на фоне тщедушного мужа: природа наделила Леру довольно широкими плечами. Лоб Леры тоже был шире, чем необходимо женщине. У Бергштраухов рос сын Венька девяти лет. Собаку Джуську, каштановую дворняжку, подобранную Гошей в электричке, все тоже считали членом семьи. Джуська любила целоваться с хозяевами и с теми гостями, которые позволяли подобные нежности.
Как и Пономарев, Гоша с детства любил собак. Отец фотографировал своего двухлетнего сына с породистыми псами разных мастей и пород, которых выгуливали на бульваре. Поэтому, когда маленького Гошу как-то спросили, знает ли он свое имя (родители опасались, что, потерявшись в магазине или на улице, Гоша не сможет назвать себя), он вместо «Гоша Бергштраух» ответил папе: «Гоша Ризеншнауцер», – чем вызвал громкий родительский хохот.
Бергштраухи жили в крошечной однокомнатной квартире и мечтали перебраться в новую побольше и поудобнее. Пока новая жилплощадь оставалась лишь мечтой. Гоша безукоризненно настраивал инструменты, но платили мало и редко находил он заказы, не умел заводить связи с нужными людьми.
Лера просила мужа в воскресенье сводить сына в филармонию, на детский абонементный концерт: в этот раз была Гошина очередь. В прошлый раз на Веню пожаловалась сотрудница Малого зала: Веня непосредственно во время концерта «обсидел» все свободные кресла, мешал исполнителям и юным слушателям. «Да, Венечка – ребенок бойкий. Ему трудно усидеть на одном месте», – мысленно оправдал сына Гоша, но возражать не стал. Его сын не смог спокойно послушать концерт! О стыд! Позор! Надо серьезно поговорить с ребенком. Но филармония висела над Гошиной головой завтра, а сегодня у Гоши был свободный вечер. Он позвонил Пономареву на работу, и они сговорились о встрече. Пономарев решил, что поедет к Гоше, не заезжая домой. Их дружба началась в школе, в первом классе и длилась всю жизнь. Гоша был лучшим другом Пономарева, его любимым слушателем и собеседником.
Пономарев намеревался предупредить жену. Трубку взяла Наташка. Наташка была обижена на отца. Вчера Пономарев по просьбе Светланы отругал дочь за то, что она в свои двенадцать лет по два часа кряду не отходит от зеркала и красится, как взрослая. Пономарев никогда не умел разговаривать с женщинами. Он был или слишком нежен, или чересчур жесток. Ему легче было сходить за хлебом или выбить ковер (Пономарев делал это только ночью, чтобы не увидели соседи. То, что он мешал им спать, не приходило ему в голову).
Уже у дверей квартиры Бергштраухов Александр Николаевич почуял запах выпечки. Дверь открыла Лера. Она, как родственнику, улыбнулась Пономареву и пригласила войти. Джуська со всех ног кинулась здороваться. Появился радостный Гоша в синих трикотажных тренировочных штанах с мешками на коленях, в шерстяных носках и в стареньком, но теплом толстом сером свитере с заплатами на локтях. Сверху Гоша накинул домашнюю меховую жилетку из овчины. Работая над своими музыкальными сочинениями, он, когда вспоминал, надевал нарукавники, и Лера даже смастерила ему две пары, пестрых, из фланелевых обрезков, оставшихся от шитья халата, чтобы рукам было теплее и рукава дольше носились. Но этот свитер был сношен до дыр еще до Лериного изобретения. Друзья обнялись.
– Тебе не жарко? – спросил несколько удивленный экипировкой друга Пономарев, потому что в квартире было очень тепло; Александр Николаевич нисколько не боялся холода и мальчишкой осенью даже плавал в Неве.
– Нет, отлично! Пойдем в комнату.
Пономарев никак не мог начать говорить о главном, ускользал от цели беседы: прошелся на вечную тему всех петербуржцев – тему погоды, потом стал спрашивать у Гоши, как его дела и, наконец, пробормотал:
– Я о многом хотел с тобой поговорить. С тех пор, как с нами не живет мама, у меня все наперекосяк. Ты не поверишь. Как будто это какой-то страшный сон! Бесконечный! Мы со Светланой так отдалились друг от друга…
– Все наладится. Я думаю, вы не привыкли еще к новым условиям жизни, – ласково сказал Гоша, нежно и внимательно посмотрев на друга.
Его проницательные карие глаза, небольшие, миндалевидные, с восточным разрезом, были полны участия и заботы. Он видел, что Пономарев чем-то всерьез расстроен.
– Не знаю, не знаю, может быть, ты прав. Ты помнишь, мы, еще в пору нашей юности говорили о любви, спорили, строили планы.
– Конечно, помню. Мечтали и спорили, как дети, Саша. Даже ссорились! Только не пойму, отчего ты вспомнил об этом?
– Я думал, что любовь – чувство вымышленное. Ее сочинили писатели и поэты, а в реальности все по-другому, чем в книжках, но мне хотелось, чтобы жизнь обманула меня, и я оказался бы перед лицом непостижимой загадки, чтобы я вздрогнул от удивления и счастья… И вот мне почудилось, Гоша, что это со мной случилось, только трудно поверить себе, своему опыту, трудно понять свои переживания, проанализировать их, осмыслить… Ты понимаешь?
– Я всегда думал, что ты и Светлана… что она и есть эта загадка и твоя любовь.
– Светлана – моя жена, мать моей дочери, я чувствую за нее ответственность перед Богом, но я говорю о другой любви, я говорю тебе о сверхчувстве, о мечте, твоей и моей в юности.
– И ты встретил… свою Мечту?
– Ах, Гоша, я не могу сказать тебе точно. Она любит меня, и мне кажется, наверное, я тоже люблю ее. Сегодня утром я чистил зубы и так долго не выходил из ванной, что Светлана испугалась и не могла понять, в чем дело. Я размышлял, Гоша, об этой любви. Я не готов к этому и взволнован. Ее ли я ждал, о ней ли мечтал? Я совсем не знаю еще, что мне делать, как жить. Ее зовут Нина… Я, пожалуй, пойду, – неожиданно закончил Пономарев.
– Ты с ума сошел! Сейчас Лера пирожки допечет, они у нее уже в духовке. Она обидится.
– Гоша, я, в сущности, человек воображения. Я всегда живу как бы в двух измерениях. Одна жизнь – это моя работа, строительство, проекты и сметы. Это Светлана, Наташка, семейные проблемы. Другая – мои мысли перед сном, мои сны о любви… Знаешь, один сон мне снился несколько раз: я видел Ее в легком прозрачном платье. Она шла по березовой аллее, и ветер слегка волновал ее распущенные длинные волосы. Я пробовал заглянуть ей в лицо, нагнать ее, но она смеялась и шла дальше. Я словно живу двойной жизнью.
Пономарев насупился и замолчал, недовольный своей откровенностью. В комнату заглянуал Лера.
– Пироги готовы! – весело сообщила она и внесла в комнату пышущее жаром блюдо.
– Спасибо. У тебя изумительные пироги, Лера!
Пироги были и в самом деле восхитительными: блестящие, румяные, но не слишком. Но Александр Николаевич не мог отрешиться от своих мыслей, от того, что он совершенно запутался и не знает, как жить дальше.
Днем позже Гоша пришел к Пономареву на работу в час, когда Александр Николаевич его не ждал и был погружен в важные расчеты.
– Что-нибудь стряслось? – спросил Пономарев, нехотя оторвав глаза от бумаг.
Гоша помялся.
– Присаживайся. Ну, расскажи. С Лерой что-то не так?
– Да нет. С Лерой все хорошо.
Гоша стал поправлять ладонью свои всегда непослушные, стоявшие торчком кудрявые волосы. Он был небрит и, казалось, как-то осунулся и помрачнел.
– Что же тогда? Говори, не тяни. На работе проблемы? Нужны деньги? – спросил Пономарев, машинально доставая бумажник.
– Нет, нет, не то, – отмахнулся Гоша. – Я не могу вот так сразу, я должен подготовить тебя. Да и себя тоже. Это не такой простой шаг.
– Господи, Гоша, да что с тобой?! Ты нездоров?
Воцарилась многозначительная пауза. Наконец, Гоша сказал:
– Помнишь, Саша, ты говорил, что ты человек воображения?
– Да, – поморщился Пономарев и опустил глаза. Ему неприятно было сегодня вспоминать о разговоре с Гошей как о минуте своей слабости.
– У каждого из нас свои грезы. Без них наше существование было бы бессмыслицей. То, что ты сказал о себе и твоем чувстве, о твоем новом чувстве, заставило меня много думать. Я совсем не спал этой ночью.
– Тебя так взволновало мое сообщение?
– Не перебивай, Саша, иначе мне не удастся сказать тебе, ради чего я здесь.
– Александр Николаевич, звонят по городскому, – сообщила Тамара.
– Сейчас не могу, я занят, – отрезал Пономарев. – Пусть перезвонят попозже.
– Я влюблен в твою жену.
Пономарев оторопел. Он мог предположить все, что угодно, только не это! Он подошел к Гоше совсем близко, сел рядом, заглянул ему в глаза и переспросил:
– Что? Я не ослышался?
– Да, я люблю Светлану. Я понял это еще несколько лет назад, а окончательно – после нашего последнего разговора.
Александр Николаевич вытаращил на друга свои большие голубые глаза.
– Зачем ты говоришь это мне?
Гоша выдержал его взгляд.
– Ты мой лучший друг. Я ничего не могу от тебя скрывать.
– Подожди, а Светлана? Она знает? – лицо Пономарева мгновенно сделалось подозрительным и злым.
– Что ты, что ты! – замахал руками Гоша и зажмурился, словно ему дали выпить чернил. – Светлана ничего не знает. Я сначала решил сказать тебе, а уж потом…
– Будет потом?! – высокомерно переспросил Пономарев и заносчиво поднял голову, а глаза опустил.
– Это, конечно, зависит не только от меня, Саша. Но ты же сам говорил, что в последнее время у вас с женой трудные отношения.
– Да, говорил, но это ничего не значит! – раздраженно сказал Пономарев.
– То есть как это не значит? – нервничая, Гоша встал и заходил по кабинету. – Может быть, если бы она узнала, что я люблю ее, ей стало бы легче, тем более, что с тобой… У тебя другая женщина, эта Сверхлюбовь, а несчастная Светлана… Ты предал ее.
– Ты, что же, свободный мужик, что ли?! А как же Лера? Венька? – зашипел Пономарев, вспомнив: говорить громко нельзя, их могли услышать. Послушай, Гоша, у вас идеальный брак, вы с Лерой – замечательная пара!
– Любимая женщина не обязательно должна тебя нянчить, я ясно выражаюсь? На нее можно смотреть, радоваться ей и молиться.
Тут Гоша вздохнул и закрыл глаза. Его лицо выражало страдание.
– Сумасшедший! Как же музыка, твои рояли, твои звуки?
– Одно другому не помеха, – твердо сказал Гоша.
– И что же теперь будет? Ты собираешься объясняться с ней, что ли? Я правильно понял? – спросил Пономарев, и его заблестевшие от обиды глаза сделались синими-синими.
– Собираюсь, да, – неторопливо, как будто взвешивая каждое слово, – сказал Гоша. – Прости, что я так жесток с тобой, но иначе не могу. Я должен был сказать тебе все.
– Ну и денек! – Пономарев присвистнул и опустил глаза в бороду.
– Не свисти. Денег не будет, – серьезно сказал Гоша, веривший в приметы. – Мне бы не хотелось, – сказал он, помолчав, – чтобы мое признание как-то отразилось на наших отношениях. Лера обидится, если ты не придешь к ней на день рождения.
– Она обидится? На тебя она не обидится, когда узнает? – снова зашипел Пономарев. – Ничего себе подарочек любящей жене! Да ты сам ей все скажешь, что я тебя не знаю? И захочешь, чтобы она же тебя утешала!
– Я не думал, что услышу издевательства в свой адрес. Саша, я рассчитывал, что, раз ты влюблен, ты постараешься меня понять!
Несмотря на разлад с женой, страшно взволновало Пономарева Гошино признание. Его лучший друг готов увести его жену! Первая навязчивая мысль, посетившая его утром следующего дня, была о Гоше. Гошина дурацкая влюбленность в Светлану действовала Пономареву на нервы. От Гоши можно ждать чего угодно. Это он, Пономарев, не способен круто менять жизнь, принимать решения, а Гоша юродивый, он готов на все!
И Пономарев настроился на худшее. Он представил себя брошенным Светланой. Заныло где-то в области груди. «Неужели во мне говорит лишь собственническое чувство? – думал он. – Может, это значит, я люблю Светлану? А Нина? Кого же из них я люблю? Этот ненормальный и в самом деле признается Светлане в любви. И что потом? Она бросит меня и уйдет к Гошке. Нет, жить им все равно негде, не уйдет, а квартиру я им не отдам ни за что! Я не стану помогать Гошке ломать нашу со Светланой жизнь!» Пономарев без конца думал о жене, о Гоше и о Нине, о том, как он должен теперь поступить, не мог отдаться работе и новому строительному проекту. Дела отвлекли бы его от самого себя, но Александра Николаевича съедали мука ревности и чувство бешенства от собственного бессилия.
«Мама толком ничего не знает, и слава богу. Сначала у нее было много работы, потом почувствовала себя неважно. Она не видит, что происходит, не задает лишних вопросов», – вспомнил Александр Николаевич. Неведение Татьяны Павловны радовало и огорчало Пономарева. Кто, кроме матери, пожалеет его? Кто утешит?