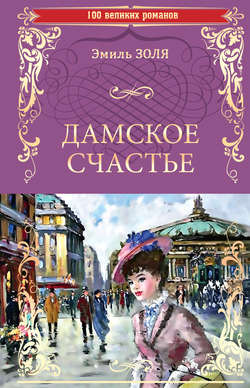Читать книгу Дамское счастье - Эмиль Золя, Еміль Золя - Страница 2
Глава I
ОглавлениеДениза шла пешком с вокзала Сен-Лазар, куда ее с двумя братьями доставил шербурский поезд. Маленького Пепе она вела за руку. Жан шел сзади. Все трое страшно устали от путешествия, после ночи, проведенной на жесткой скамье в вагоне третьего класса. В огромном Париже они чувствовали себя потерянными и заблудившимися, глазели на дома и спрашивали на каждом перекрестке: где улица Ла Мишодьер? Там живет их дядя Бодю. Попав, наконец, на площадь Гайон, девушка в изумлении остановилась.
– Жан, – промолвила она, – погляди-ка!
И они замерли, прижавшись друг к другу; все трое были в черном: они донашивали старую одежду – траур по отцу. Дениза была невзрачная девушка, слишком тщедушная для своих двадцати лет; в одной руке она несла небольшой узелок, другою – держала за ручонку младшего, пятилетнего брата; позади нее стоял, от удивления свесив руки, старший брат – шестнадцатилетний подросток, в полном расцвете юности.
– Да, – сказала она, помолчав, – вот это магазин!
То был магазин новинок на углу улиц Ла Мишодьер и Нев-Сент-Огюстен. В этот мягкий и тусклый октябрьский день его витрины сверкали яркими тонами. На башне церкви Сен-Рок пробило восемь; Париж только еще пробуждался, и на улицах встречались лишь служащие, спешившие в свои конторы, да хозяйки, вышедшие за провизией. У входа в магазин двое приказчиков, взобравшись на стремянку, развешивали шерстяную материю, а в витрине со стороны улицы Нев-Сент-Огюстен другой приказчик, стоя на коленях, спиной к улице, тщательно драпировал складками отрез голубого шелка. Покупателей еще не было, да и служащие только еще начали прибывать, но магазин уже гудел внутри, как потревоженный улей.
– Да, что и говорить, – заметил Жан. – Это почище Валони. Твой был не такой красивый!
Дениза пожала плечами. Она два года прослужила в Валони, у Корная, лучшего в городе торговца новинками; но этот неожиданно попавшийся им по дороге магазин, этот огромный дом преисполнил ее неизъяснимым волнением и словно приковал к себе; взволнованная, изумленная, она позабыла обо всем на свете. На срезанном углу, выходившем на площадь Гайон, выделялась высокая стеклянная дверь в орнаментальной раме с обильной позолотой; дверь доходила до второго этажа. Две аллегорические фигуры – откинувшиеся назад смеющиеся женщины с обнаженной грудью – держали развернутый свиток, на котором было написано: «Дамское счастье». Отсюда сплошной цепью расходились витрины: одни тянулись по улице Ла Мишодьер, другие – по Нев-Сент-Огюстен, занимая, помимо угольного дома, еще четыре, недавно купленных и приспособленных для торговли, – два слева и два справа. Эти уходящие вдаль витрины казались Денизе бесконечными; сквозь их зеркальные стекла, а также в окна второго этажа можно было видеть все, что творится внутри. Вот наверху барышня в шелковом платье чинит карандаш, а неподалеку две другие раскладывают бархатные манто.
– «Дамское счастье», – прочел Жан с легким смешком: в Валони у этого красавца юноши уже была интрижка с женщиной. – Да, мило! Это должно привлекать покупательниц.
Но Дениза вся ушла в созерцание выставки товаров, расположившейся у центрального входа. Здесь, под открытым небом, у подъезда, были разложены, точно приманка, груды дешевых товаров на все вкусы, чтобы прохожие могли их купить, не заходя в магазин. Сверху, со второго этажа, свешивались, развеваясь, как знамена, полотнища шерстяной материи и сукон, материи из мериносовой шерсти, шевиот, мольтон; на их темно-сером, синем, темно-зеленом фоне отчетливо выделялись белые ярлычки. По бокам, обрамляя вход, висели меховые палантины, узкие полосы меха для отделки платьев – пепельно-серые беличьи спинки, белоснежный пух лебяжьих грудок, кролик, поддельный горностай и поддельная куница. Внизу – в ящиках, на столах, среди груды отрезов высились горы трикотажных товаров, продававшихся за бесценок: перчатки и вязаные платки, капоры, жилеты, всевозможные зимние вещи, пестрые, узорчатые, полосатые, в красный горошек. Денизе бросилась в глаза клетчатая материя по сорок пять сантимов за метр, шкурки американской норки по франку за штуку, митенки за пять су. Это было похоже на гигантскую ярмарку; казалось, магазин лопнул от множества товаров и избыток их вылился на улицу.
Дядюшка Бодю был забыт. Даже Пепе, не выпускавший руку сестры, вытаращил глаза. Приближавшаяся повозка спугнула их с площади, и они машинально пошли по улице Нев-Сент-Огюстен, переходя от витрины к витрине и подолгу простаивая перед каждой. Сначала их поразило замысловатое устройство выставок: вверху были расположены по диагонали зонтики в виде крыши деревенской хижины; внизу на металлических прутьях висели шелковые чулки, словно обтягивавшие округлые икры; тут были чулки всех цветов: черные с ажуром, красные с вышивкой, тельного цвета, усеянные букетиками роз, и атласистая вязь их казалась нежной, как кожа блондинки. Наконец, на полках, покрытых сукном, лежали симметрично разложенные перчатки с удлиненными, как у византийской девственницы, пальцами и с ладонью, отмеченной какою-то чуть угловатой, поистине девичьей грацией, как все еще не ношенные женские наряды. Но особенно ошеломила их последняя витрина. Шелк, атлас и бархат были представлены здесь во всем разнообразии переливчатой, вибрирующей гаммы тончайших оттенков: наверху – бархат густого черного цвета и бархат молочной белизны; ниже – атласные ткани, розовые, голубые, в причудливых складках, постепенно переходящие в бледные, бесконечно нежные тона; еще ниже, словно ожив под опытными пальцами продавца, переливались шелка всех цветов радуги, – отрезы, свернутые в виде кокард и расположенные красивыми складками, точно на вздымающейся груди. Каждый мотив, каждая красочная фраза витрины была отделена от другой как бы приглушенным аккомпанементом – легкой волнистой лентой кремовых фуляров. А по обеим сторонам витрины высились груды шелка двух сортов: «Счастье Парижа» и «Золотистая кожа». Шелка эти продавались только здесь и были из ряда вон выдающимся товаром, которому предстояло произвести переворот в торговле новинками.
– Такой фай и всего по пять шестьдесят! – шептала Дениза, изумленная «Счастьем Парижа».
Жан начал скучать. Он остановил прохожего:
– Скажите, пожалуйста, где улица Ла Мишодьер?
Оказалось, что это – первая улица направо, и молодые люди повернули назад, огибая магазин. Когда Дениза вышла на улицу Мишодьер, ее ошеломила витрина с готовыми дамскими нарядами: у Корная она как раз торговала готовым платьем. Но ничего подобного она никогда еще не видывала; от изумления она даже не могла сдвинуться с места. В глубине широкие полосы очень дорогих брюггских кружев спускались вниз наподобие алтарной завесы, распростершей рыжевато-белые крылья; дальше гирляндами ниспадали волны алансонских кружев; широкий поток малинских, валансьенских, венецианских кружев и брюссельских аппликаций был похож на падающий снег. Справа и слева мрачными колоннами выстроились штуки сукна, еще более оттенявшие задний план святилища. В этой часовне, воздвигнутой в честь женской красоты, были выставлены готовые наряды; в центре было помещено нечто исключительное – бархатное манто с отделкой из серебристой лисицы; по одну сторону красовалась шелковая ротонда, подбитая беличьим мехом; по другую – суконное пальто с опушкой из петушиных перьев; наконец, тут же были выставлены бальные накидки из белого кашемира, подбитые белым же, отделанные лебяжьим пухом или шелковым шнуром. Здесь можно было подобрать себе любую вещь по вкусу, начиная от бальных пелерин за двадцать девять франков и кончая бархатным манто ценою в тысячу восемьсот. Пышные груди манекенов растягивали материю, широкие бедра подчеркивали тонкость талии, а отсутствующую голову заменяли большие ярлыки, прикрепленные булавками к красному мольтону шеи. Зеркала с обеих сторон витрины были расположены так, что манекены без конца отражались и множились в них, населяя улицу прекрасными продажными женщинами, цена которых была обозначена крупными цифрами на месте головы.
– Замечательно! – вырвалось у Жана, не нашедшего других слов для выражения своего восторга.
Он стоял неподвижно, разинув рот. Вся эта женская роскошь так нравилась ему, что он даже порозовел. Он наделен был девичьей красотой, красотой, которую словно похитил у сестры: у него был бледный цвет лица, рыжеватые вьющиеся волосы, а глаза и губы – влажные, нежные. Зачарованная Дениза рядом с ним казалась еще более хрупкой, – впечатление это усиливалось благодаря утомленному продолговатому лицу, слишком большому рту и бесцветным волосам. Пепе, совсем белесый, как это часто бывает у детей его возраста, все теснее прижимался к сестре, точно охваченный беспокойной потребностью ласки, смущенный и восхищенный красивыми дамами с витрины. Эта грустная девушка с ребенком и красавец подросток, все трое в черном, белокурые и бедно одетые, являли собою столь своеобразное зрелище и были так прелестны, что прохожие с улыбкой оборачивались на них.
Полный седой мужчина с широким изжелта-бледным лицом, стоявший на пороге одной из лавок по другую сторону улицы, уже давно разглядывал их. Глаза его налились кровью, рот дергался: он был вне себя от витрин «Дамского счастья», а вид девушки и ее братьев довершал его раздражение. Ну что за простофили, чего они разинули рты на эти шарлатанские приманки?
– А дядя-то! – вдруг вспомнила Дениза, словно очнувшись от сна.
– Это и есть улица Ла Мишодьер, – сказал Жан. – Он живет где-нибудь здесь.
Они подняли головы, обернулись. И прямо перед собой, над полным господином, они увидели зеленую вывеску с полинявшей желтой надписью: «Старый Эльбёф, сукна и фланели. – Бодю, преемник Ошкорна». Дом, в незапамятные времена выкрашенный рыжеватой краской и зажатый между двух больших особняков в стиле Людовика XIV, имел по фасаду всего лишь три окна; окна эти, квадратные, без ставней, были снабжены только железной рамой с двумя перекладинами крест-накрест. Глаза Денизы были еще полны блеском витрин «Дамского счастья», а потому ее особенно поразило убожество лавки, приютившейся в первом этаже; низкий потолок словно придавил ее, сверху нависал второй этаж, а узкие окна в виде полумесяца были, как в тюрьме. Деревянные рамы того же бутылочного цвета, что и вывеска, приобрели от времени оттенки охры и асфальта; они окаймляли две глубокие, черные, пыльные витрины, где смутно виднелись нагроможденные друг на друга штуки материй. Отворенная дверь вела, казалось, в сырой сумрак погреба.
– Вот, – сказал Жан.
– Ну что ж, пойдемте, – решила Дениза. – Пойдемте. Иди, Пепе.
Но они всё не решались тронуться с места: их охватила робость. Правда, когда умер их отец, унесенный той же лихорадкой, от которой месяцем раньше умерла мать, дядя Бодю, под впечатлением двойной утраты, написал племяннице, что у него всегда найдется для нее место, если она вздумает поискать счастья в Париже; но со времени этого письма прошел уже почти год, и девушка теперь раскаивалась, что так опрометчиво уехала из Валони и заранее не уведомила дядю о своем приезде. Ведь он совсем не знает их и не бывал в Валони с тех пор, как еще юношей уехал оттуда и поступил младшим приказчиком к суконщику Ошкорну, на дочери которого он впоследствии женился.
– Господин Бодю? – спросила Дениза, решившись, наконец, обратиться к полному господину, который все еще смотрел на них, удивляясь их поведению.
– Это я, – ответил он.
Тогда Дениза, вся раскрасневшись, пролепетала:
– Вот чудесно!.. Я – Дениза, а это – Жан, а вот это – Пепе… Видите, дядя, наконец мы и приехали.
Бодю остолбенел от изумления. Большие красные глаза его заморгали, и без того бессвязная речь стала еще бессвязнее. Он был, очевидно, очень далек от мыслей об этой семье, так неожиданно свалившейся ему на голову.
– Как? Как? Вы здесь? – на все лады повторял он. – Да ведь вы были в Валони!.. Почему же вы не в Валони?
Пришлось ему все объяснить. Кротким, слегка дрожащим голосом Дениза рассказала, как после смерти отца, который ухлопал всё до последнего гроша на свою красильню, она осталась матерью для мальчиков. Ее заработка у Корная не хватало даже на то, чтобы прокормиться. Жан, правда, работал у столяра-краснодеревца, чинившего старинную мебель, но еще ничего не зарабатывал. Между тем он обнаруживал вкус к старинным вещам и любил вырезать из дерева фигурки, а однажды, найдя кусок слоновой кости, забавы ради выточил голову, которую случайно увидел какой-то прохожий; этот-то господин и убедил их уехать из Валони и подыскал для Жана место в Париже у резчика по кости.
– Понимаете, дядя, Жан завтра же отправится в обучение к своему новому хозяину. Денег с меня за это не потребуют; более того, он даже получит кров и пищу… Что же касается Пепе и меня самой, я думаю, мы как-нибудь проживем. Хуже, чем в Валони, нам не будет.
Но она умолчала о любовных похождениях Жана, о его письмах к девушке из почтенной семьи, о том, как подростки целовались через ограду, – словом, о скандале, принудившем ее уехать из родного города; она сопровождала брата в Париж главным образом для того, чтобы присматривать за ним. Этот большой ребенок, такой красивый и веселый, уже привлекавший внимание женщин, внушал ей материнскую тревогу.
Дядя Бодю никак не мог прийти в себя и опять пустился в расспросы. Услышав, однако, как она говорит о братьях, он стал обращаться к ней на «ты».
– Значит, отец так-таки ничего вам и не оставил? А я-то был уверен, что у него еще уцелело немного денег… Ах, сколько раз я писал ему, советовал не связываться с этой красильней. У него было доброе сердце, но рассудительности ни на грош!.. И ты осталась с этими ребятами на руках! Тебе пришлось кормить эту мелюзгу!
Его желчное лицо просветлело, глаза уже не были налиты кровью, как в ту минуту, когда он смотрел на «Дамское счастье». Вдруг он заметил, что загораживает вход.
– Пойдемте же, – сказал он, – входите, раз уж приехали… Входите, нечего ротозейничать на глупости.
И, еще раз бросив злобный взгляд на витрины напротив, он провел детей в лавку и стал звать жену и дочь:
– Элизабета! Женевьева! Идите-ка сюда, тут к вам гости!
Сумрак, царивший в лавке, смутил Денизу и мальчиков.
Ослепленные ярким дневным светом, заливавшим улицы, они напрягали зрение, словно на пороге какого-то логовища, и нащупывали ногою пол, инстинктивно опасаясь вероломной ступеньки. Эта смутная боязнь еще больше сближала их, они еще теснее жались друг к другу: мальчуган по-прежнему держался за юбку девушки, старший шел позади – так они входили, и улыбаясь и трепеща. Их черные силуэты в траурной одежде отчетливо вырисовывались на фоне сияющего утра, косые лучи солнца золотили их белокурые волосы.
– Входите, входите, – повторял Бодю.
И он вкратце объяснил жене и дочери, в чем дело.
Г-жа Бодю, невысокая женщина, изнуренная малокровием, была вся какая-то бесцветная: бесцветные волосы, бесцветные глаза, бесцветные губы. Эти признаки вырождения еще отчетливее проявлялись у ее дочери: она была тщедушна и бледна, как растение, выросшее в темноте. Только великолепные черные волосы, густые и тяжелые, словно чудом выросшие у этого тщедушного существа, придавали ее облику какую-то печальную прелесть.
– Добро пожаловать, – сказали обе женщины. – Очень рады вас видеть.
Они усадили Денизу за прилавок. Пепе тотчас же взобрался к сестре на колени, а Жан стал подле нее, прислонившись к стене. Они постепенно успокаивались и начинали присматриваться к окружающему; глаза их мало-помалу привыкали к царившему здесь сумраку. Теперь они видели всю лавку с ее нависшим закопченным потолком, дубовыми прилавками, отполированными за долгие годы, столетними шкафами, запертыми на крепкие замки. Темные кипы товаров громоздились до самого потолка. Запах сукон и красок – терпкий запах химикалий – усиливался благодаря сырому полу. В глубине лавки двое приказчиков и продавщица укладывали штуки белой фланели.
– Быть может, карапузик не прочь чего-нибудь покушать? – спросила г-жа Бодю, улыбаясь малышу.
– Нет, благодарю вас, – ответила Дениза. – Мы выпили по чашке молока в кафе у вокзала.
Заметив, что Женевьева бросила взгляд на узелок, положенный на пол, Дениза прибавила:
– Сундучок я оставила на вокзале.
Она краснела, понимая, что не принято так неожиданно сваливаться людям на голову. Еще в вагоне, не успел поезд отойти от родного города, она почувствовала глубокое раскаяние; поэтому, приехав в столицу, она отдала багаж на хранение и накормила детей завтраком.
– Отлично, – сказал вдруг Бодю. – Теперь потолкуем малость по душам… Правда, я сам тебе писал, чтобы ты приехала, но это было год назад, а дела у меня с тех пор, голубка моя, стали совсем плохи…
Он остановился, поперхнувшись от волнения, которого старался не выдавать. Г-жа Бодю и Женевьева потупились с видом безропотной покорности.
– Разумеется, – продолжал он, – эта заминка в делах пройдет, в этом я не сомневаюсь… Но мне пришлось сократить персонал; теперь у меня только три приказчика, и для найма четвертого время неподходящее. Словом, бедная моя деточка, я не могу взять тебя к себе, как предлагал.
Дениза слушала, потрясенная, бледная, как полотно. Бодю решительно прибавил:
– Из этого не вышло бы ничего путного ни для тебя, ни для нас.
– Ну что ж, дядя, – с трудом выговорила она. – Я постараюсь как-нибудь устроиться.
Супруги Бодю были неплохие люди, но они считали, что в жизни им не везет. В те времена, когда торговля их шла бойко, им приходилось растить пятерых сыновей; трое из них годам к двадцати умерли, у четвертого появились дурные наклонности, а пятый недавно уехал в Мексику капитаном судна. Осталась одна Женевьева. Семья требовала больших расходов, а Бодю к тому же окончательно погубил себя, купив в Рамбуне, на родине тестя, большой и скверно построенный дом. И в душе этого старого маниакально честного торговца все сильнее накипала горечь.
– Надо было предупредить, – продолжал он, мало-помалу раздражаясь на собственную черствость. – Ты могла бы мне написать, и я тебе ответил бы, чтобы ты оставалась в Валони… Когда я узнал о смерти твоего отца, я тебе высказал лишь то, что обычно говорится в таких случаях. А ты вот являешься без предупреждения… Это крайне стеснительно.
Он повышал голос, отводя душу. Жена и дочь продолжали сидеть, потупившись, с покорностью людей, которые никогда не позволяют себе вмешиваться. Жан побледнел, Дениза прижала к груди испуганного Пепе. Две крупные слезинки скатились по ее щекам.
– Хорошо, дядя, – сказала она. – Мы уйдем.
Наконец, ему удалось взять себя в руки. Последовало тягостное молчание. Затем он ворчливо сказал:
– Я вас не гоню… Уж раз явились, сегодня переночуйте у нас наверху. А там посмотрим.
Госпожа Бодю и Женевьева с одного взгляда поняли, что могут заняться размещением гостей. Все уладилось. О Жане нечего было заботиться. Что касается Пепе, то ему будет чудесно у г-жи Гра, пожилой дамы, которая занимает нижний этаж одного из домов на улице Орти и за сорок франков в месяц берет на полный пансион маленьких детей. Дениза сказала, что за первый месяц она уплатить может. Оставалось только устроиться ей самой. Где-нибудь поблизости для нее, наверное, найдется местечко.
– Кажется, Венсар ищет продавщицу, – заметила Женевьева.
– Да, да, ищет! – воскликнул Бодю. – После завтрака мы к нему и сходим. Куй железо, пока горячо!
Ни единый покупатель не помешал этому семейному объяснению. В лавке по-прежнему было темно и пусто. В глубине ее приказчики, шушукаясь, продолжали работу. Но вот появились три дамы, и Дениза на минуту осталась одна. Она поцеловала Пепе, и сердце ее сжалось при мысли о близкой разлуке. Пепе, ласковый, как котенок, прятал головку и не произносил ни слова. Когда г-жа Бодю с Женевьевой вернулись, они обратили внимание на то, какой он послушный, и Дениза стала уверять, что мальчик никогда не шумит; он молчит по целым дням и только ласкается. До самого завтрака три женщины говорили о детях, о хозяйстве, о жизни в Париже и в провинции, обменивались краткими и ничего не значащими фразами, как родственники, которые еще недостаточно знакомы и поэтому стесняются друг друга. Жан вышел на порог: его заинтересовала жизнь улицы, и он с улыбкой смотрел на проходивших мимо хорошеньких девушек.
В десять часов появилась служанка. Обычно стол накрывался сначала для Бодю, Женевьевы и старшего приказчика. Вторично накрывали в одиннадцать часов – для г-жи Бодю, другого приказчика и продавщицы.
– Завтракать! – воскликнул суконщик, обращаясь к племяннице.
И когда все уже расселись в узкой столовой, находившейся позади лавки, он позвал замешкавшегося старшего приказчика:
– Коломбан!
Молодой человек извинился: он собирался сначала убрать фланель. Это был малый лет двадцати пяти, полный, грузный и хитрый на вид. У него было степенное лицо с крупным мягким ртом и лукавыми глазами.
– Успеется! Всему свое время, – отвечал Бодю и, прочно усевшись, принялся осторожно и ловко, по-хозяйски, разрезать кусок холодной телятины, размеряя на глаз тоненькие ломтики с точностью чуть ли не до грамма.
Он оделил ими всех и даже нарезал хлеб. Дениза посадила Пепе возле себя, чтобы он не напачкал. Но темная столовая угнетала ее; осматриваясь вокруг, Дениза испытывала тоскливое чувство, – у себя в провинции она привыкла к большим, просторным и светлым комнатам. Единственное окно столовой выходило на крохотный внутренний дворик, сообщавшийся с улицей темными воротами; этот дворик, сырой и зловонный, был похож на дно колодца, еле освещенное мутным светом. В зимние дни здесь приходилось жечь газ с утра до ночи. Когда же можно было не зажигать света, становилось еще печальнее. Денизе потребовалось некоторое время, чтобы глаза ее освоились и стали как следует различать куски на тарелке.
– Вот у этого молодца так аппетит! – заметил Бодю, видя, что Жан уже покончил с телятиной. – Если он так же работает, как ест, из него получится настоящий мужчина… А почему же ты, дитя мое, не ешь?.. Признайся – теперь можно и поболтать, – почему ты не вышла замуж у себя в Валони?
Дениза отставила стакан, который поднесла было ко рту.
– Да что вы, дядя, как же мне выйти замуж! Что вы! А что будет с детьми?
Она даже рассмеялась, – до того нелепой показалась ей эта мысль. Кроме того, кому придет в голову жениться на ней, бесприданнице, да еще такой тщедушной и некрасивой? Нет, нет, она ни за что не выйдет замуж, довольно с нее и двоих детей.
– Зря, – возразил дядя, – женщине трудно без мужчины. Если бы ты нашла какого-нибудь молодца, тебе с братьями не пришлось бы, как цыганам, очутиться на парижской мостовой.
Он замолчал и снова принялся скупо, но справедливо делить блюдо картофеля на свином сале, поданное служанкой. Потом, указывая ложкой на Женевьеву и Коломбана, прибавил:
– Посмотри-ка на эту парочку. Если зимний сезон будет удачен, весной они обвенчаются.
Таков был патриархальный обычай этой фирмы. Ее основатель, Аристид Фине, выдал свою дочь Дезире за старшего приказчика, Ошкорна; сам Бодю, прибыв на улицу Ла Мишодьер с семью франками в кармане, женился на дочери старика Ошкорна, Элизабете, и намеревался в свою очередь передать Коломбану дочь и все предприятие, когда дела снова пойдут хорошо. Брак этот был решен еще три года тому назад и откладывался только из-за щепетильности и упрямства безукоризненно честного коммерсанта: сам он получил предприятие в цветущем состоянии и не хотел, чтобы в руки зятя оно перешло с уменьшившейся клиентурой и сомнительным балансом.
Бодю продолжал говорить: разговор перешел на Коломбана, который был родом из Рамбуйе, как и отец г-жи Бодю, – они даже состояли в дальнем родстве. Отличный работник: уже десять лет не покладая рук трудится в лавке и вполне заслужил повышение! Да к тому же он и не первый встречный; его отец – кутила Коломбан, ветеринар, известный всему департаменту Сены и Уазы, настоящий мастер своего дела; но он так любит пожить, что промотал все, что у него имелось.
– Отец пьянствует и водится с девками, зато сын, слава богу, научился здесь понимать цену деньгам, – сказал в заключение суконщик.
Пока он разглагольствовал, Дениза испытующе поглядывала на Коломбана и Женевьеву. Они сидели друг против друга, с равнодушными лицами, не улыбались, не краснели. С первого же дня службы молодой человек рассчитывал на этот брак. Он безропотно прошел различные ступени своей карьеры – от ученика до продавца на жалованье – и был, наконец, посвящен во все тайны и радости семейства; он был терпелив, вел жизнь налаженную, как часовой механизм, и смотрел на брак с Женевьевой как на превосходную и честную сделку. Он знал, что будет обладать Женевьевой, и это мешало ему желать ее. Девушка тоже привыкла любить его и любила со свойственной ей серьезностью и сдержанностью, но в то же время и с глубокой страстью, о которой сама не подозревала, – так ровно и размеренно текла ее жизнь.
– Когда люди нравятся друг другу и имеют возможность… – сочла своим долгом с улыбкой сказать Дениза, желая быть любезной.
– Да, этим всегда кончается, – вставил Коломбан; он медленно прожевывал куски и до сих пор еще не произнес ни слова.
Женевьева бросила на него долгий взгляд и сказала:
– Надо только понять друг друга, остальное пойдет само собой.
Их любовь выросла здесь, в нижнем этаже старинного парижского дома. Она была как цветок, расцветший в погребе. В течение десяти лет Женевьева знала только Коломбана, проводила дни бок о бок с ним, среди все тех же груд сукна, в полутьме лавки; утром и вечером они встречались в узкой столовой, холодной как колодец. Лучше спрятаться, лучше укрыться они не сумели бы и в лесной глуши, под листвой деревьев. Только сомнение или ревнивый страх потерять любимого могли бы открыть Женевьеве, что она навсегда отдала себя Коломбану – и все из-за душевной пустоты и скуки, завладевших ею в этом мраке-соучастнике.
Однако во взгляде, брошенном Женевьевой на Коломбана, Дениза заметила зарождающееся беспокойство. И она предупредительно ответила:
– Когда любишь, всегда друг друга поймешь.
Между тем Бодю неукоснительно надзирал за столом. Он распределил ломтики сыра и потребовал, в честь родственников, второй десерт – банку смородинного варенья; такая щедрость, видимо, изумила Коломбана. Пепе, который до сих пор был умником, при появлении варенья изменил себе. Жан, увлеченный разговором о браке, пристально рассматривал двоюродную сестрицу: он находил ее слишком вялой, слишком бледной и в глубине души думал, что она похожа на белого черноухого кролика с красными глазами.
– Довольно болтать, дадим место другим! – заключил, наконец, суконщик, подавая знак встать из-за стола. – Иной раз и можно позволить себе что-нибудь необычное, но все хорошо в меру.
Теперь за стол уселись г-жа Бодю, второй приказчик и продавщица. Дениза опять осталась одна; она села подле двери, ожидая, когда дядя освободится, чтобы проводить ее к Венсару. Пепе играл у ее ног. Жан снова занял наблюдательный пост на пороге. И почти целый час девушка присматривалась к тому, что происходит вокруг. Изредка входили покупатели: появилась какая-то дама, затем еще две. Лавка хранила аромат старины, полумрак, в котором вся прежняя торговля, бесхитростная и добродушная, казалось, оплакивала свое запустение. Но «Дамское счастье», витрины которого на другой стороне улицы виднелись в открытую дверь, приводило Денизу в восторг. Небо было облачно, воздух после теплого дождя стал мягче, несмотря на холодное время года; в этот бледный, словно насыщенный солнечной пылью день большой магазин так и кишел людьми: торговля шла полным ходом.
У Денизы было такое ощущение, точно она смотрит на машину, содрогающуюся под высоким давлением от недр своих до самых витрин. Сейчас перед нею были уже не те холодные выставки, которые она видела утром; они казались согретыми и словно трепещущими от внутреннего волнения. Люди разглядывали их, женщины останавливались, толпились перед окнами, озверев от вожделения. И ткани оживали под действием страстей, кипевших на улице: кружева чуть колыхались, таинственно скрывая за своими ниспадающими складками недра магазина; даже толстые четырехугольные штуки сукна дышали соблазном; пальто на оживших манекенах принимали все более округлые формы, а роскошное бархатное манто, гибкое и теплое, вздувалось, точно покоясь на женских плечах, облегая волнующуюся грудь, трепещущие бедра. От магазина веяло жаром, как от фабрики, и этот жар исходил главным образом от прилавков, где шла оживленная продажа и была сутолока, которая чувствовалась даже за стенами здания. В помещении стоял непрерывный гул точно от машины, находящейся в движении и беспрестанно обрабатывающей покупательниц, – их сбивали в кучу перед прилавками, одурманивали товарами, а затем перебрасывали к кассам. И все это – с механической точностью, с силой и логикой передаточного механизма, захватывающего целые толпы женщин.
Денизу с самого утра снедало искушение. Этот магазин, казавшийся таким огромным, ошеломлял и привлекал ее; она заметила, что за один только час туда вошло больше народа, чем побывало у Корная за полгода. К ее желанию проникнуть туда примешивался смутный страх, который еще усиливал соблазн. В то же время дядина лавка вызывала в ней какое-то неприятное чувство. Это было необъяснимое презрение, инстинктивное отвращение, вызванное этой норой, где торговали по старинке. Все впечатления Денизы – ее робкий приход, сухая встреча родственников, унылый завтрак в тюремном сумраке, ожидание среди сонливого застоя старой, умирающей фирмы, – все это слагалось в глухой протест, в порыв к жизни и к свету. И, вопреки ее доброму сердцу, глаза ее беспрестанно обращались к «Дамскому счастью», словно ей, как продавщице, хотелось согреться в сверкании этой торжествующей торговли.
– Вот уж к кому народ валит! – вырвалось у нее.
Но, посмотрев на семейство Бодю, она пожалела об этих словах. Г-жа Бодю, позавтракав, вышла из-за стола и стояла теперь вся белая, устремив бесцветные глаза на чудовище. Хоть она и покорилась судьбе, все же зрелище огромного магазина на другой стороне улицы повергало ее в немое отчаяние, и слезы накипали у нее на глазах. Женевьева с растущим беспокойством следила за Коломбаном, а тот, не зная, что за ним наблюдают, замирал в каком-то экстазе; его взор был устремлен на продавщиц отдела готового платья, которые были видны сквозь окна второго этажа. Сам Бодю ограничился желчным замечанием:
– Не все то золото, что блестит! Подождем!
Видно было, что все они стараются подавить приступ накипевшей злобы. Самолюбие не позволяло им обнаружить свои чувства перед этими только что приехавшими детьми. Наконец, суконщик сделал над собой усилие и отвернулся, чтобы не видеть ненавистного магазина.
– Hу, – сказал он, – пойдем к Венсару. Места нарасхват: завтра, того гляди, уж и не будет.
Но прежде чем уйти, он приказал младшему приказчику съездить на вокзал за сундучком Денизы. А г-жа Бодю, которой девушка доверила Пепе, решила воспользоваться свободной минутой и отвести малыша на улицу Орти, к г-же Гра, чтобы столковаться с ней. Жан обещал сестре никуда не уходить.
– Это всего в двух шагах отсюда, – пояснил Бодю, спускаясь с племянницей по улице Гайон. – У Венсара специальная торговля шелками, и дела пока еще идут неплохо. Слов нет, и ему трудно, как и всем, но он проныра и чертовски скуп, поэтому кое-как сводит концы с концами… Впрочем, мне кажется, что он собирается уйти от дел – у него сильный ревматизм.
Магазин Венсара находился на улице Нев-де-Пти-Шан, возле пассажа Шуазель. Помещение, обставленное соответственно требованиям новейшей роскоши, было чистое и светлое, но тесное; товаром магазин был не богат. Бодю и Дениза застали Венсара за деловым разговором с двумя мужчинами.
– Не беспокойтесь, – сказал суконщик Венсару. – Нам не к спеху, подождем.
Вернувшись из деликатности к двери, он наклонился к уху племянницы и прибавил:
– Худой – это помощник заведующего шелковым отделом «Счастья», а толстяк – лионский фабрикант.
Дениза поняла, что Венсар старается передать свой магазин Робино, продавцу из «Дамского счастья». Прикидываясь искренним и откровенным, он божился с легкостью человека, который готов клясться в чем угодно. По его словам, предприятие его – золотое дно; несмотря на свою пышущую здоровьем внешность, он принимался вдруг охать и плакаться, ссылаясь на проклятую болезнь, которая вынуждает его отказаться от такого богатства. Но Робино, нервный и издерганный, нетерпеливо перебил его: он знал о кризисе, который переживают магазины новинок, и напомнил об одном торговом доме, уже погубленном соседством «Счастья». Венсар, разволновавшись, возвысил голос:
– Черт возьми! Вабр – такой простофиля, что ему не миновать было банкротства. Его жена проматывала всё… Кроме того, от нас до «Счастья» почти километр, а Вабр находился у него под боком.
Тут в разговор вмешался Гожан, фабрикант шелков. Голоса снова понизились. Он обвинял большие магазины в разорении французской промышленности; три-четыре таких магазина диктуют цены и безраздельно царят на рынке; он говорил, что единственный способ борьбы с ними заключается в поддержке мелкой торговли, особенно в поддержке специализированных фирм, которым принадлежит будущее. Поэтому он предлагал Робино весьма широкий кредит.
– Посмотрите, как «Счастье» ведет себя в отношении вас! – твердил он. – Там не считаются с тем, какие услуги оказал человек магазину, там только эксплуатируют людей!.. Ведь вам уже давно было обещано место заведующего, а Бутмон, который пришел со стороны и не имел перед вами никаких преимуществ, получил его сразу.
Рана, нанесенная Робино этой несправедливостью, еще кровоточила. Однако он колебался взять магазин; он говорил, что деньги принадлежат не ему; это жена получила в наследство шестьдесят тысяч франков, и он страшно боится за эти деньги; он говорил, что скорее предпочел бы лишиться обеих рук, чем подвергнуть этот капитал риску, пустив его в сомнительные дела.
– Нет, я пока ничего не могу решить, – сказал он в заключение. – Дайте время подумать; мы еще поговорим.
– Воля ваша, – ответил Венсар, скрывая разочарование под напускным добродушием. – Я продаю в ущерб собственным интересам. Не будь я болен… – Он вышел на середину магазина: – Чем могу служить, господин Бодю?
Суконщик, прислушивавшийся краем уха к разговору, представил Денизу, рассказал то, что считал нужным о ее жизни, и прибавил, что она работала два года в провинции.
– А вы, я слышал, ищете хорошую продавщицу…
Венсар изъявил глубочайшее сожаление:
– Ах, какая досада!.. Я действительно целую неделю искал продавщицу и нанял всего каких-нибудь два часа назад.
Водворилось молчание. Дениза чувствовала себя неловко. Тут Робино, участливо смотревший на нее и, вероятно, тронутый ее жалким видом, позволил себе дать совет:
– Я знаю, что нам нужен человек в отделе готового платья.
Бодю не мог сдержать крика, вырвавшегося у него прямо из сердца:
– К вам?! Ну нет! Этого еще недоставало!
Но он запнулся, смутившись. Дениза вся вспыхнула: она ни за что не осмелилась бы поступить в этот громадный магазин, и в то же время мысль, что она может быть там приказчицей, наполнила ее гордостью.
– Но почему же? – с удивлением спросил Робино. – Напротив, для мадмуазель это было бы большой удачей. Я советую ей прийти завтра утром к заведующей отделом, госпоже Орели. Худшее, что может случиться, – это что ее не примут.
Суконщик старался скрыть свое возмущение за неопределенными фразами: он знает г-жу Орели или по крайней мере ее мужа, Ломма, толстяка кассира, которому отрезало омнибусом правую руку.
– Впрочем, это ее дело, а не мое, – резко заключил он вдруг, – она вольна поступать, как хочет.
Он раскланялся с Гожаном и Робино и вышел. Венсар проводил его до двери, снова рассыпаясь в сожалениях, что не может исполнить его просьбу. Дениза нерешительно задержалась было в магазине, думая получить от Робино более подробные указания насчет работы, но не осмелилась прямо спросить и только пролепетала, прощаясь:
– Благодарю вас, сударь.
На улице старик не сказал племяннице ни слова. Он шел быстро, словно подгоняемый размышлениями; девушке приходилось почти бежать за ним. На улице Ла Мишодьер, когда он собирался уже войти к себе, его подозвал жестом сосед торговец, стоявший на пороге своей лавки. Дениза остановилась, чтобы подождать дядю.
– Что такое, папаша Бурра? – спросил суконщик.
Бурра был глубокий старик с головой пророка, длинноволосый и бородатый, с проницательными глазами, глядевшими из-под густых, взъерошенных бровей. Он торговал тростями и зонтами и занимался их починкой, а также вырезал ручки, чем снискал себе в округе славу художника. Дениза бросила взгляд на витрину лавки, где ровными рядами выстроились зонты и трости. А когда она подняла глаза, самое здание еще больше изумило ее. Это был жалкий домишко, зажатый между «Дамским счастьем» и большим особняком в стиле Людовика XIV, неизвестно как выросший в этой тесной щели, где притаились два его низеньких этажа. Не будь подпоры справа и слева, он весь, казалось, так и рухнул бы – и крыша с покривившимися и истлевшими черепицами, и фасад в два окна, покрытый трещинами и пятнами ржавчины, и деревянная полустертая вывеска.
– Знаете, он написал моему хозяину, что хочет купить дом, – сказал Бурра, устремив на суконщика пристальный, негодующий взгляд.
Бодю побледнел и пожал плечами. Наступило молчание. Старики стояли друг против друга с глубоко сосредоточенным видом.
– Надо быть ко всему готовым, – прошептал наконец Бодю.
Тут Бурра вспылил; тряхнув волосами и волнистой бородой, он воскликнул:
– Пускай покупает дом, ему придется заплатить втридорога!.. Но клянусь, пока я жив, он не попользуется тут ни одним камнем. Срок аренды кончается у меня только через двенадцать лет… Посмотрим еще, посмотрим!
Это было объявление войны. Бурра бросал вызов «Дамскому счастью», хотя ни Бодю, ни он сам не называли своего врага. Бодю молча покачал головой. Потом поплелся через улицу домой, волоча ослабевшие ноги и охая:
– Ох, боже мой!.. Боже мой!
Дениза, слышавшая их разговор, последовала за дядей. Г-жа Бодю уже возвратилась с Пепе и поспешила сообщить, что г-жа Гра в любое время возьмет ребенка. Зато Жан исчез, и это беспокоило сестру. Когда он, наконец, возвратился и с увлечением, весь сияющий, принялся рассказывать о бульварах, она взглянула на него так грустно, что он покраснел. Их багаж привезли, спать они будут наверху, под самой крышей.
– Да! Так что же у Венсара? – спохватилась г-жа Бодю.
Суконщик рассказал о неудачных хлопотах; потом прибавил, что племяннице указали одно место, и, с презрением ткнув рукой в направлении «Дамского счастья», буркнул:
– Там!
Вся семья почувствовала себя оскорбленной. По вечерам первая смена садилась за стол в пять часов. Денизу и двух мальчиков посадили вместе с Бодю, Женевьевой и Коломбаном. В маленькой столовой, освещенной газовым рожком, было душно; в спертом воздухе сильно пахло пищей. Обед прошел в молчании. Но за десертом г-жа Бодю, которой не сиделось на месте, пришла из лавки и стала позади племянницы. Тут сдерживаемый с утра поток прорвался, все дали волю своему негодованию и стали всячески поносить чудовище.
– Тебе, конечно, виднее… ты вольна поступать, как хочешь, – начал опять Бодю. – Мы не собираемся учить тебя… Но если бы ты только знала, что это за фирма!
И он вкратце отрывистыми фразами рассказал историю этого пройдохи Октава Муре. Вот кому везет! Мальчишка южанин, наделенный вкрадчивой наглостью авантюриста, попал в Париж и на другой же день завертелся в вихре любовных приключений, эксплуатируя то одну женщину, то другую; однажды он даже попался в прелюбодеянии; вышел такой скандал, что об этом еще до сих пор толкуют. И вдруг – неожиданная и необъяснимая победа над г-жою Эдуэн, в результате чего он стал владельцем «Дамского счастья».
– Бедная Каролина! – прервала мужа г-жа Бодю. – Она была нам немного сродни. Ах, будь она еще жива, все шло бы по-другому! Она не позволила бы разорять нас… И это он убил ее. Да, на своих постройках! Однажды утром она пришла посмотреть на работы и упала в яму. Три дня спустя она умерла. А ведь у нее было превосходное здоровье, и она была так хороша собой!.. Этот дом на ее крови построен!
Бледной, дрожащей рукой г-жа Бодю показала в сторону большого магазина. Дениза слушала, как слушают волшебные сказки, и по телу ее пробегала легкая дрожь. Быть может, страх, который с самого утра примешивался в ее душе к соблазнам «Дамского счастья», порожден был кровью этой женщины, кровью, которую Дениза, казалось, видела теперь на красной штукатурке подвального этажа.
– Можно подумать, что это принесло ему счастье, – добавила г-жа Бодю, не называя Муре.
Суконщик пожал плечами: он презирал эту бабью болтовню. Он снова стал рассказывать историю Муре, объясняя дело, как коммерсант. «Дамское счастье» было основано в 1822 году братьями Делез. По смерти старшего из них его дочь, Каролина, вышла замуж за сына фабриканта полотен, Шарля Эдуэна; позднее, овдовев, она вступила в брак с Муре и принесла ему в качестве приданого половину магазина. Три месяца спустя дядюшка Делез тоже умер; детей у него не было; таким образом, после того, как Каролина погибла при закладке фундамента, Муре остался единственным наследником, единственным владельцем «Счастья». Вот кому везет!
– Это опасный выдумщик, смутьян; дать ему волю, так он взбудоражит весь квартал! – не унимался Бодю. – Я уверен, что Каролина, которая тоже была малость взбалмошна, увлеклась сумасбродными планами этого проходимца… Как бы то ни было, он убедил ее купить дом слева, потом дом справа, а сам, уже после ее смерти, купил еще два других; так магазин все разрастался и разрастался и теперь грозит всех нас поглотить!
Старик обращался к Денизе, но говорил больше для себя, подчиняясь потребности высказаться и пережевывая не дававшую ему покоя историю. Из всей семьи он был самый желчный, самый резкий и непримиримый. Г-жа Бодю сидела неподвижно и уже не прерывала его; Женевьева и Коломбан, опустив глаза, рассеянно подбирали и клали в рот хлебные крошки. В тесной комнатке было так жарко, так душно, что Пепе заснул за столом; у Жана тоже слипались глаза.
– Терпение! – воскликнул Бодю в порыве внезапного гнева. – Эти мошенники еще свихнут себе шею! У Муре сейчас большие затруднения, я знаю. С него станет пустить по ветру все доходы ради безумной страсти к расширению и рекламе. Чтобы нахватать побольше денег, он уговорил своих служащих поместить в дело все их сбережения. Теперь он без гроша, и если не случится чуда, если он не добьется, как рассчитывает, втрое большего сбыта, вот увидите, какой будет крах!.. Ах, я человек не злой, но тогда, честное слово, устрою иллюминацию!
Он жаждал возмездия, словно с разорением «Дамского счастья» должна была восстановиться честь опозоренной торговли. Виданное ли дело? Магазин новинок, где торгуют решительно всем! Что это, ярмарка, что ли? А приказчики там тоже хороши; это какая-то орава шалопаев: суетятся точно на вокзале, обращаются с товарами и покупательницами, как с тюками, уходят от хозяина или сами получают расчет из-за какого-нибудь невпопад сказанного слова. Ни привязанности, ни правил, ни знания дела! И Бодю неожиданно призвал в свидетели Коломбана: уж он-то, Коломбан, пройдя хорошую школу, отлично знает, как медленно, зато верно, постигаются все тонкости и уловки их ремесла. Искусство заключается не в том, чтобы продать много, а в том, чтобы продать дорого. Коломбан мог бы рассказать, как с ним обращаются, как его сделали членом семьи, как ухаживают за ним, случись ему заболеть, как на него стирают и штопают, как отечески за ним присматривают, как его, наконец, любят.
– Еще бы! – поддакивал Коломбан после каждого выкрика хозяина.
– Ты у меня последний, голубчик, – заключил в умилении Бодю. – Таких, как ты, у меня уже не будет… Ты мое единственное утешение, потому что если торговлей называется теперь подобный кавардак, то я в нем ничего не смыслю и предпочитаю отстраниться.
Женевьева, склонив голову, словно под тяжестью густых черных волос, обрамлявших ее бледный лоб, смотрела на улыбающегося приказчика: в ее взгляде было подозрение, желание проверить, не покраснеет ли он от всех этих похвал, не заговорит ли в нем совесть. Но, еще с детства привыкнув к лицемерным приемам торговли по старинке, этот широкоплечий малый с хитрой складочкой в углах губ сохранял полнейшее спокойствие и добродушный вид.
А Бодю расходился все больше и больше; указывая на скопище товаров в магазине напротив, он разоблачал этих дикарей, которые в борьбе за существование истребляют друг друга и доходят даже до подрыва семейных устоев. Он привел в пример своих деревенских соседей Ломмов: мать, отца и сына; все трое служат в «Дамском счастье». Их никогда не бывает дома, у них нет семенного очага, они обедают у себя только по воскресеньям и ведут жизнь трактирных завсегдатаев! Конечно, столовая у Бодю невелика, ей даже немного недостает света и воздуха, но здесь по крайней мере протекают все его дни, здесь он живет, согретый ласковым вниманием близких. Разглагольствуя таким образом, Бодю обводил взором комнатку и содрогался при мысли, – в которой сам не смел себе сознаться, – что может настать день, когда варвары вконец разорят его дело и выселят его из этой норы, где ему так уютно с женой и дочерью.
Несмотря на уверенность, с какой он предрекал неминуемое банкротство «Счастья», его в глубине души охватывал ужас: он отлично сознавал, что ненавистные ему люди постепенно завоевывают, захватывают весь квартал.
– Но это я говорю не затем, чтобы внушить тебе к ним отвращение, – промолвил он, стараясь успокоиться. – Если тебе выгодно поступить туда, я первый скажу: «Поступай».
– Я так и думаю, дядя, – прошептала смущенная Дениза: неистовая речь старика только усилила ее желание попасть в «Дамское счастье».
Он облокотился о стол и уставился на нее пристальным взглядом.
– Но скажи мне, ты ведь немного смыслишь в этом деле, разумно ли, по-твоему, чтобы обычный магазин новинок пускался в продажу всякой всячины? В былые времена, когда торговлю вели честно, под словом «новинки» подразумевались одни лишь ткани. Сейчас же эти господа только и думают, как бы сесть соседям на шею и все слопать. Вот на что жалуется весь квартал: ведь мелкие коммерсанты начинают терпеть ужасные убытки. Проклятый Муре разоряет их… Посмотри: Бедоре с сестрой, торгующие чулками на улице Гайон, уже лишились половины своих покупателей. Мадмуазель Татен, торгующей бельем в пассаже Шуазель, пришлось понизить цены, чтобы устоять против конкуренции… И этот бич, эта зараза распространилась на весь наш квартал, вплоть до улицы Нев-де-Пти-Шан, где находится меховая торговля братьев Ванпуй; они, говорят, тоже не в силах выдержать натиска… Вот о чем только и слышишь вокруг. Аршинники торгуют мехами, не потеха ли это, скажи на милость? И все это выдумки Муре!
– А перчатки? – вставила г-жа Бодю. – Прямо чудовищно! Он вздумал открыть целый отдел перчаток!.. Вчера, когда я проходила по улице Нев-Сент-Огюстен, Кинет стоял на пороге своей лавки такой расстроенный, что у меня не хватило духу спросить его, как идут дела.
– А зонтики? – продолжал Бодю. – Уж дальше идти некуда. Бурра убежден, что Муре просто решил пустить его по миру. Иначе как же согласовать зонты с тканями?.. Но Бурра молодчина, он себя в обиду не даст. На днях мы еще посмеемся!
Бодю перебрал и других коммерсантов, он произвел смотр всему кварталу. Иногда у него вырывались признания: уж если Венсар хочет продать свое дело, то всем, значит, остается только закрыть лавочку, потому что Венсар из тех крыс, которые первыми бегут с корабля, стоит только появиться течи. И тут же Бодю начинал противоречить себе, мечтая об объединении, о соглашении мелких торговцев для противодействия колоссу. Ему хотелось поговорить и о себе, но он сдерживался; руки у него дрожали, рот судорожно подергивался. Наконец, он не утерпел:
– Мне пока что нечего жаловаться. Конечно, убытки он и мне причинил! Но он держит еще только дамские сукна: легкие для платьев, поплотнее – для манто. За мужским же товаром по-прежнему идут ко мне: за охотничьим бархатом, ливреями, не говоря уже о фланели и мольтоне; и тут-то уж я ему не уступаю, у меня выбор куда богаче… Но он явно хочет досадить мне, не зря он расположил отдел сукон напротив моих окошек. Ты ведь видела его витрины? Он нарочно выставляет в них готовые наряды и сукна целыми штуками – как ярмарочный зазывала, приманивающий девок… Право, я сгорел бы от стыда, если бы стал прибегать к подобным средствам! Вот уже сто лет, как «Старый Эльбёф» всем известен, и у его двери никогда не было никаких ловушек. Пока я жив, лавка останется такой же, какой я ее получил, с четырьмя штуками образцов справа и слева, – и только!
Волнение постепенно захватило всю семью. Наконец, Женевьева отважилась прервать наступившую было паузу:
– Наши покупатели нас любят, папа. Не надо терять надежду… Еще сегодня приходили госпожа Дефорж и госпожа де Бов. Я жду и госпожу Марти, ей нужна фланель.
– Я принял вчера заказ от госпожи Бурделе, – вставил Коломбан. – Правда, она говорила, что английский шевиот продается напротив на десять су дешевле и будто бы не уступает нашему.
– И подумать только, что мы знали этот торговый дом, когда он был величиною с носовой платок! – уныло заметила г-жа Бодю. – Поверишь ли, дорогая Дениза, когда Делезы основали фирму, у них была всего-навсего одна витрина на улице Нев-Сент-Огюстен, – нечто вроде стенного шкафа, где едва хватало места для двух-трех штук ситца и коленкора. В лавке невозможно было повернуться, до того она была тесна… А «Старый Эльбёф» в ту пору насчитывал свыше шестидесяти лет и уже был таким, каким ты видишь его сегодня… Ах, все изменилось, и как изменилось-то!
Она покачала головой, в ее медлительной речи звучала вся трагедия ее жизни. Она родилась в «Старом Эльбёфе» и любила в нем все, вплоть до его сырых камней: она жила только им и для него. Некогда она гордилась этим торговым домом, самым солидным в квартале, с самой большой клиентурой; теперь же она бесконечно страдала, видя, как мало-помалу разрастается соперничающее предприятие, которым сначала все пренебрегали, пока оно не окрепло и, наконец, не стало главенствовать и угрожать соседям. Это было для нее вечно открытой раной; она умирала от унижения «Старого Эльбёфа» и, подобно ему, жила только по инерции, сознавая, что агония лавки будет ее собственной агонией и что она умрет в тот самый день, когда лавка закроется.
Наступило молчание. Бодю пальцами выбивал на клеенке барабанную дробь. Он устал и даже досадовал на то, что опять позволил себе отвести душу. Но вся семья продолжала уныло вспоминать и перетряхивать свои невзгоды. Никогда-то им не улыбалось счастье! Дети подросли, родители стали было сколачивать состояние, и вдруг началась конкуренция, а с нею – разорение. К тому же надо было содержать еще дом в Рамбуйе, деревенский дом, куда суконщик вот уже десять лет мечтал удалиться на покой. Это была, по словам Бодю, «покупка по случаю», но старинное каменное строение постоянно требовало ремонта, и он решил сдавать дом внаем; однако арендной платы не хватало на покрытие расходов. На это уходили его последние барыши; такова была единственная слабость этого до щепетильности честного человека, упорно державшегося старинных обычаев.
– Ну, – заключил он внезапно, – надо и другим уступить место… Довольно без толку болтать!
Все семейство словно очнулось от дремы. Газовый рожок шипел, в комнатке было душно и жарко. Все поспешно поднялись, тягостная тишина была нарушена. Только Пепе спал, да так крепко, что его уложили тут же, на кипах мольтона. Беспрестанно зевавший Жан опять стал у входной двери.
– Словом, поступай, как хочешь, – повторил Бодю племяннице. – Мы с тобой просто поговорили о положении вещей, вот и все… В твои дела мы не вмешиваемся.
Он пристально смотрел на нее, ожидая решительного ответа. Но все эти рассказы вызвали в Денизе вместо отвращения только еще больший восторг перед «Дамским счастьем». Девушка казалась по-прежнему спокойной и ласковой, но в глубине ее души таилась упрямая воля нормандки. Она только молвила в ответ:
– Посмотрим, дядя, – и заговорила о том, что ей с детьми нужно пораньше лечь спать, потому что они очень устали.
Однако пробило всего только шесть часов, и она решила побыть еще немного в лавке. Наступил вечер. Дениза заметила, что мостовая потемнела и блестит от мелкого, частого дождя, не прекращавшегося с самого захода солнца. Она удивилась: за какие-нибудь несколько мгновений вся улица покрылась лужами и потекли потоки мутной воды. Пешеходы растаптывали густую липкую грязь, в сумерках сквозь проливной дождь виднелись только смутные очертания зонтиков, которые сталкивались, раздувшись, словно большие темные крылья. Девушка шагнула было в глубь лавки, съежившись от холода, но когда она бросила взгляд на тускло освещенное помещение, еще более мрачное в этот час, сердце ее сжалось. Сюда проникало влажное дыхание улицы, доносились отголоски жизни старинного квартала: казалось, будто вода, струящаяся с зонтов, просачивается до самых прилавков, будто лужи и грязь мостовой проникают в нижний этаж ветхого здания и пропитывают плесенью его стены, и без того уже побелевшие от сырости. Это был словно призрак старого, сырого Парижа. И Дениза дрожала как в лихорадке, она и ужасалась и дивилась, видя этот огромный город таким холодным и некрасивым.
А по другую сторону улицы, в «Дамском счастье», загорались убегающие вглубь ряды газовых рожков. И Дениза сделала шаг вперед, вновь увлеченная и как бы согретая этим пылающим очагом. Машина по инерции все еще работала и продолжала хрипеть и грохотать, выпуская последние пары, но приказчики уже свертывали материи, а кассиры подсчитывали выручку. Сквозь запотевшие стекла все это представало в виде смутного кишения огней, точно некая причудливая фабрика. За дождевой завесой зрелище это казалось далеким, призрачным и похожим на гигантскую топку, где на фоне багрового пламени котлов мелькают черные тени кочегаров. Витрины тонули во мраке: там можно было различить теперь только снег кружев, белизну которых оживлял матовый свет газовых рожков; а в глубине этой часовни мощно вздымались готовые наряды, и чудесное бархатное манто, отделанное серебристой лисицей, казалось силуэтом великолепной безголовой женщины, которая под проливным дождем, в таинственных парижских сумерках, спешит на бал.
Зачарованная, Дениза подошла к самой двери, не замечая, что на платье ее попадают брызги дождя. В этот ночной час «Дамское счастье», сверкавшее, как раскаленный горн, окончательно покорило девушку. В большом городе, почерневшем и притихшем под дождем, в этом неведомом ей Париже оно горело, как маяк, оно казалось ей единственным светочем и средоточием жизни. Она замечталась о будущем, о службе в этом магазине. Ей придется много работать, чтобы вырастить детей, но будет в ее жизни и нечто другое, – она еще не знала, что именно, – что-то еще далекое, но она уже трепетала и от страха перед ним и от желания, чтобы оно поскорее свершилось. Денизе вспомнилась женщина, умершая во время закладки здания. Ей стало страшно: огни показались ей кровавыми, но мгновение спустя белизна кружев успокоила ее, надежда и радостная уверенность завладели ее сердцем; а тем временем дождевая пыль обдавала холодом ее руки и умеряла лихорадочное возбуждение, вызванное переездом в столицу.
– Это Бурра, – сказал чей-то голос за ее спиной.
Наклонившись, она увидела, что Бурра неподвижно стоит на улице, перед витриной, где она утром заметила целое сооружение из зонтов и тростей. Старик стоял в тени, поглощенный созерцанием победоносной выставки «Дамского счастья»; лицо его было скорбно; он даже не замечал дождя, который хлестал его непокрытую голову и струйками сбегал с седых волос.
– Какой дурак, – заметил голос, – ведь он простудится.
Дениза обернулась и увидела, что все семейство Бодю снова стоит за ее спиной. Как и Бурра, которого они считали дураком, они то и дело невольно возвращались к созерцанию этого зрелища, раздиравшего им сердце. Это было какое-то самоистязание. Женевьева сильно побледнела: она убедилась, что Коломбан любуется тенями продавщиц, мелькающими в окнах второго этажа; Бодю старался подавить в себе вновь вспыхнувшую злобу, а глаза его жены наполнились безмолвными слезами.
– Так, значит, завтра ты туда отправишься? – спросил, наконец, суконщик: его мучила неуверенность; он чувствовал, что племянница, как и все другие, покорена.
Она замялась, потом кротко сказала:
– Да, дядя, если только это вас не очень огорчит.