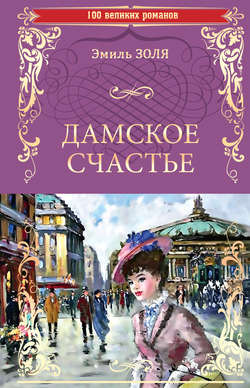Читать книгу Дамское счастье - Эмиль Золя, Еміль Золя - Страница 4
Глава III
ОглавлениеПо субботам, от четырех до шести, г-жа Дефорж устраивала чай с пирожными для друзей. Ее квартира помещалась на четвертом этаже, на углу улиц Риволи и Альже; окна двух гостиных выходили в Тюильрийский сад.
В эту субботу лакей только было открыл перед Муре дверь в большую гостиную, как вдруг последний увидел г-жу Дефорж, проходившую через гостиную поменьше. Заметив его, она остановилась; он вошел с церемонным поклоном. Но как только лакей затворил за собой дверь, Муре с живостью схватил руку молодой женщины и нежно поцеловал ее.
– Осторожнее, у меня гости, – тихо сказала она, указывая на дверь большой гостиной. – Я ходила за этим веером, чтобы показать его.
И она шаловливо ударила Муре по лицу кончиком веера. Это была довольно полная брюнетка с большими ревнивыми глазами. Муре, задержав ее руку в своей, спросил:
– Он придет?
– Конечно, – сказала она, – он обещал.
Речь шла о бароне Хартмане, директоре «Ипотечного кредита». Г-жа Дефорж, дочь члена Государственного совета, была вдовой биржевика; муж оставил ей состояние, которое одни сильно преувеличивали, а другие вовсе отрицали. Еще при жизни мужа она, по слухам, выказывала особую признательность барону Хартману, известному финансисту, советы которого были очень полезны чете Дефорж; после смерти мужа связь Анриетты с бароном, по-видимому, продолжалась, но по-прежнему без лишнего шума – тихо и благоразумно. Г-жа Дефорж никогда не давала повода толкам, и ее принимали повсюду в кругах той высшей буржуазии, к которой она принадлежала по рождению. Теперь страсть банкира, умницы и скептика, перешла в простую отеческую привязанность; г-жа Дефорж, позволяя себе иметь любовников, которых он терпел, покорялась, однако, влечениям сердца с таким тонким чувством меры и такта, проявляла такое знание света, что внешние приличия всегда были строго соблюдены и никто не осмелился бы усомниться вслух в ее порядочности. Когда она встретилась с Муре у общих знакомых, он сначала внушил ей отвращение; но позднее она отдалась ему, увлеченная его стремительной страстью, и по мере того как он ловкими приемами все больше подчинял ее своей власти, имея в виду добиться от нее воздействия на барона, она понемногу все больше и больше проникалась к нему истинной и глубокой любовью. Она обожала его с пылкостью тридцатипятилетней женщины, которая уверяет, будто ей только двадцать девять, и приходила в отчаяние, сознавая, что он моложе ее и что она может его лишиться.
– Он знает, о чем идет речь? – спросил Муре.
– Нет, вы сами ему все объясните, – ответила она, переходя с ним на «вы».
Она смотрела на него и думала, что он, по-видимому, ничего не знает, раз обращается к ней с просьбой повлиять на барона; и, тем не менее, едва ли он считает последнего только ее давним другом. Но Муре по-прежнему держал ее руку, называл милой Анриеттой, и она чувствовала, как тает ее сердце. Она молча потянулась к нему и прижалась губами к его губам; потом шепнула:
– Шш! Меня ждут… Войди после меня.
Из большой гостиной доносились негромкие голоса, приглушенные штофными обоями. Анриетта толкнула дверь, обе створки которой распахнулись настежь, и передала веер одной из четырех дам, сидевших посреди комнаты.
– Вот он, – сказала она, – я уж думала, что горничная так и не найдет его. – И, обернувшись, весело прибавила: – Входите же, господин Муре, – через маленькую гостиную. Это будет не так торжественно.
Муре поклонился дамам; он был с ними знаком. Гостиная, несмотря на высокие потолки, была полна мягкого женского уюта: мебель в ней была обита полупарчой, затканной букетиками, в стиле Людовика XVI, кругом стояли растения в кадках, золоченая бронза. В окна виднелись тюильрийские каштаны, листья которых срывал октябрьский ветер.
– Ах, какие чудесные кружева! – воскликнула г-жа Бурделе, любуясь веером.
Это была блондинка лет тридцати, небольшого роста, с тонким носом и живыми глазами, подруга Анриетты по пансиону; она была замужем за помощником столоначальника министерства финансов. Происходя из старинной буржуазной семьи, она отличалась энергией, добродушием и врожденной практичностью, сама вела хозяйство и воспитывала троих детей.
– И ты заплатила двадцать пять франков за кусок? – спросила она, разглядывая каждую петельку кружев. – Что? Купила, говоришь, в Люке, у местной мастерицы?.. Нет, нет, это совсем недорого… Но тебе пришлось самой заказать оправу?
– Конечно, – ответила г-жа Дефорж. – А это стоило двести франков.
Госпожа Бурделе расхохоталась. Так вот что Анриетта называет удачной покупкой! Двести франков за простую оправу из слоновой кости и вензель! И всё из-за экономии в сто су на куске кружев шантильи! Да такие веера, готовые, можно найти по сто двадцать франков. И она назвала магазин на улице Пуассоньер.
Тем временем веер переходил из рук в руки. Рыжеволосая г-жа Гибаль, высокая и тонкая, еле взглянула на него. Лицо ее выражало полнейшее равнодушие, но серые глаза, несмотря на внешне бесстрастный вид, порою загорались чудовищной жадностью. Ее никогда не видели в сопровождении мужа, известного адвоката, который, по слухам, жил, как и она, независимо, целиком уйдя в свои дела и развлечения.
– Я за всю свою жизнь даже двух вееров не купила… – проговорила она, передавая веер графине де Бов. – Не знаешь, куда девать и те, что получаешь в подарок.
– Вы счастливица, дорогая моя, у вас такой любезный супруг, – с тонкой иронией заметила графиня и, наклонившись к дочери, высокой двадцатилетней девушке, прибавила: – Взгляни на вензель, Бланш. Какая прелестная работа!.. Из-за вензеля, должно быть, и обошлось так дорого.
Госпоже де Бов только что исполнилось сорок лет. Это была величественная женщина с наружностью богини, крупными и правильными чертами лица и большими томными глазами; ее муж, главный инспектор конских заводов, женился на ней из-за ее красоты. Тонкость работы вензеля, видимо, поразила графиню, зародив в ней волнующие желания, от которых потускнел ее взгляд. И неожиданно она спросила:
– А ваше мнение, господин Муре? Дорого двести франков за такую оправу?
Муре, все еще стоявший в окружении этих пяти женщин, с улыбкой наблюдал за ними, заинтересовавшись тем, что так интересовало их. Он взял веер, осмотрел его и уже хотел было ответить, как вдруг вошел лакей и доложил:
– Госпожа Марти.
Вошла худенькая, некрасивая женщина, обезображенная оспой, но одетая с изысканным изяществом. Возраст ее не поддавался определению: ей можно было дать то сорок, то тридцать лет в зависимости от того, какое у нее в данный момент настроение; на самом же деле ей было тридцать пять. На правой руке у нее висела красная кожаная сумка.
– Надеюсь, дорогая, – обратилась она к Анриетте, – вы извините меня за то, что я вторгаюсь к вам с сумкой… Представьте, по дороге сюда я зашла в «Счастье» и по обыкновению потеряла там голову… Мне не хотелось оставлять сумку внизу, у извозчика – еще, пожалуй, украдут. – Тут она заметила Муре и добавила, смеясь: – Ах, сударь, я вовсе не собиралась вас рекламировать, я даже не знала, что вы здесь… Но, право же, у вас сейчас исключительные кружева.
Это отвлекло внимание от веера, и молодой человек положил его на столик. Теперь дамам не терпелось увидеть покупки г-жи Марти. Всем известны были ее безумные траты, ее бессилие перед искушением, ее безупречная порядочность, которая не позволяла ей уступить настояниям поклонников, и в то же время ее беспомощность, ее податливость, лишь только дело касалось тряпок. Она родилась в семье мелкого чиновника, а теперь разоряла мужа, преподавателя младших классов в лицее Бонапарта; к шести тысячам жалованья ему приходилось добавлять еще столько же и бегать по частным урокам, чтобы удовлетворить требованиям беспрестанно растущего домашнего бюджета. Однако г-жа Марти не открывала сумки, крепко прижав ее к коленям; она рассказывала о своей четырнадцатилетней дочери Валентине; девочка была предметом ее кокетства и притом самым разорительным, ибо она наряжала дочь так же, как одевалась сама – по последней моде, которой вообще была не в силах противостоять.
– Знаете, – объясняла она, – этой зимой девушкам шьют платья с отделкой из мелких кружев… И естественно, когда я увидела восхитительные валансьенские кружева…
Наконец она решилась открыть сумку. Дамы уже вытянули шеи, как вдруг в наступившей тишине из передней донесся звонок.
– Это муж, – прошептала г-жа Марти, смутившись. – Он должен зайти за мной по дороге из лицея.
Она проворно закрыла сумку и инстинктивным движением спрятала ее под кресло. Дамы рассмеялись. Г-жа Марти покраснела и снова взяла сумку на колени, говоря, что мужчины все равно ничего не понимают, да им и незачем знать о таких вещах.
– Господин де Бов, господин Валаньоск, – доложил лакей.
Все удивились. Г-жа де Бов совсем не ожидала встретить здесь мужа. Граф де Бов, красивый мужчина с усами и бородой клинышком, отличавшийся военной выправкой и чарующей любезностью, так нравившейся в Тюильри, поцеловал г-же Дефорж руку; он знал ее еще девушкой, в доме ее отца. Затем он отступил в сторону, чтобы другой гость, высокий молодой человек, худосочный и бледный, как и положено аристократу, мог подойти к хозяйке дома. Но едва возобновился разговор, как двое присутствующих одновременно воскликнули:
– Как, это ты, Поль!
– Октав!
Муре и Валаньоск пожимали друг другу руки. Г-жа Дефорж была крайне удивлена. Так, значит, они знакомы? Еще бы, ведь они вместе учились в Плассанском коллеже и, если им до сих пор ни разу не пришлось встретиться у нее, так это чистая случайность.
Все еще держась за руки и перекидываясь шутками, они прошли в маленькую гостиную, а в это время лакей внес серебряный поднос с китайским чайным сервизом и поставил его возле г-жи Дефорж, на мраморный столик с бронзовым ободком. Дамы уселись поближе друг к другу и заговорили громче; началась оживленная беседа. А г-н де Бов, стоя позади, время от времени наклонялся к дамам и вставлял какое-нибудь любезное замечание. Обширная комната, и без того уютная и веселая, еще больше оживилась от шумной болтовни и взрывов смеха.
– Ах, старина Поль, старина Поль! – повторял Муре.
Он сел на кушетку, около Валаньоска. Они были тут одни, вдали от посторонних ушей, в уголке маленькой гостиной, представлявшей собою кокетливый будуар, обтянутый золотистым шелком; отсюда в открытые настежь двери они могли наблюдать за дамами; старые приятели смеялись, оглядывали друг друга, похлопывали по коленке. Вся юность проносилась перед ними: старинный коллеж в Плассане, два его двора, сырые классные, столовая, где было съедено столько трески, дортуар, где подушки летали с постели на постель, как только раздавался храп воспитателя. Поль, отпрыск старинной судейской семьи, принадлежавшей к мелкому дворянству, разоренному и недовольному, был весьма искусен в сочинениях, шел всегда первым, и преподаватель постоянно ставил его в пример остальным, предсказывая ему блестящую будущность. Октав же, веселый толстяк, плелся с другими лентяями в хвосте класса и растрачивал силы на грубые проказы за стенами коллежа. Несмотря на различие натур, их связывала тесная дружба; она длилась много лет – пока они не кончили коллеж и не стали бакалаврами, чего один достиг с блеском, другой же с большим трудом, после двух провалов. Впоследствии жизнь разлучила их, и вот теперь, спустя десять лет, они снова встретились, изменившиеся и постаревшие.
– Ну, кто же ты теперь? – спросил Муре.
– Да никто.
Несмотря на радость встречи, у Валаньоска был все тот же усталый и разочарованный вид. Муре удивился и стал настаивать:
– Но ведь занимаешься же ты чем-нибудь?.. Чем же?
– Ничем, – отвечал тот.
Октав рассмеялся. Ничего – это мало. И фраза за фразой он вытянул из Поля всю историю его жизни, обычную историю тех бедных юношей, которые считают, что по своему происхождению должны принадлежать к людям свободной профессии, и хоронят себя, пребывая в тщеславной посредственности, радуясь уже тому, что не умирают с голоду, несмотря на дипломы, которыми набиты ящики их стола. В соответствии с семейными традициями Поль стал изучать право и долго сидел на шее у матери, вдовы, и без того не знавшей, как пристроить двух дочерей. Наконец, ему стало совестно, и, предоставив трем женщинам кое-как перебиваться крохами их состояния, он поступил мелким чиновником в министерство внутренних дел, где и прозябал, как крот в своей норе.
– Сколько же ты зарабатываешь? – спросил Муре.
– Три тысячи.
– Какие гроши! Ах ты, бедняга, до чего же мне досадно за тебя! Как! Такой способный малый! Ведь ты всех нас за пояс мог заткнуть! И они платят тебе всего три тысячи, хоть ты уже целых пять лет тянешь эту лямку! Нет, это прямо-таки возмутительно!
Муре переменил тему и заговорил о себе.
– Что касается меня, то я с ними распрощался… Ты знаешь, кем я стал?
– Да, – сказал Валаньоск, – мне говорили, что ты пошел по коммерческой части. Ведь это тебе принадлежит большой магазин на площади Гайон, не правда ли?
– Да… Я, старина, стал аршинником!
Муре поднял голову и снова хлопнул приятеля по коленке, повторяя с солидной веселостью человека, который ничуть не стыдится обогатившего его ремесла:
– Аршинником в полном смысле слова!.. Ты ведь помнишь, мне никак не удавалось постичь их тонкостей, хотя в глубине души я отнюдь не считал себя глупее других. Я сдал экзамен на бакалавра, только чтобы не огорчать родных, но, раз уж я его сдал, я вполне мог бы стать адвокатом или врачом, как другие. Однако эти профессии пугали меня: слишком уж многие из тех, кто пошел по этому пути, подыхают с голоду… Вот я и наплевал на диплом – о, без всяких сожалений! – и с головою окунулся в коммерцию.
Валаньоск смущенно улыбался; помолчав немного, он сказал:
– Конечно, для продажи полотна диплом бакалавра тебе не очень-то нужен.
– Право, – весело отвечал Муре, – единственное, что я от диплома требую, это чтобы он не стеснял меня… А знаешь, когда имеешь глупость связать себя по рукам и ногам, выпутаться бывает совсем не легко. Вот и ползешь в жизни черепашьим шагом, в то время как другие, у кого ноги свободны, мчатся во всю прыть.
Но, заметив, что собеседник слегка нахмурился, Муре взял его за руку и продолжал:
– Я не хотел бы тебя огорчать, но признайся, что все твои дипломы не в состоянии удовлетворить ни одной из твоих потребностей. А знаешь, у меня заведующий отделом шелков получит за текущий год больше двенадцати тысяч франков. Конечно, у этого малого прекрасная голова, но все его образование состоит в умении писать да в знании четырех правил арифметики… Обыкновенные продавцы зарабатывают у меня по три-четыре тысячи, то есть больше твоего, а они ведь не тратились на образование и не были выпущены в жизнь с писаной гарантией успеха… Конечно, зарабатывать деньги – это еще не все. Однако, если выбирать между беднягами, которыми переполнены свободные профессии, не обеспечивающие им даже куска хлеба, и практичными юношами, вооруженными для жизни отличным знанием своего ремесла, я – честное слово! – не колеблясь, отдаю предпочтение последним. Такие ребята, по-моему, отлично понимают дух своего времени!
Голос его зазвучал громче: Анриетта, разливавшая чай, повернулась в их сторону. Увидев ее улыбку и заметив, что две другие дамы настороженно прислушиваются, Муре первый же и пошутил над своим красноречием:
– Словом, дружище, в наши дни всякий начинающий аршинник – будущий миллионер.
Валаньоск безвольно откинулся на кушетке. Он устало прикрыл глаза, всем своим видом выказывая презрение. К действительной его вялости теперь примешивалась и доля притворства.
– Ну, жизнь не стоит такого труда, – проговорил он. – Ничего хорошего в ней нет.
Возмущенный Муре с удивлением посмотрел на него; Валаньоск прибавил:
– Сколько ни старайся, все равно ничего не добьешься. Лучше уж просто сидеть сложа руки.
И он заговорил о своем пессимизме, о буднях и невзгодах существования. Одно время он мечтал стать литератором, но знакомство с поэтами разочаровало его. Он пришел к выводу, что все человеческие усилия обречены на неудачу, что жизнь пуста и бессмысленна, а люди в конечном счете безнадежно глупы. Радостей нет, даже дурные поступки не доставляют удовольствия.
– Скажи-ка, а тебе разве весело живется? – в заключение спросил он.
Муре остолбенел от негодования.
– Как это – «весело ли»? – воскликнул он. – Что это ты говоришь? Так вот до чего ты дошел, старина! Конечно, мне весело, даже когда все кругом трещит, потому что тогда я прихожу в неистовство. Я остро чувствую, я не могу спокойно относиться к жизни; быть может, поэтому мне и интересно. – Бросив взгляд в сторону гостиной, он понизил голос. – Сознаюсь, – сказал он, – есть женщины, которые надоели мне до смерти. Но уж если мне взбредет на ум добраться до какой-нибудь, я, черт возьми, держу ее крепко! И, уверяю тебя, не промахнусь и ни с кем делиться не стану… Впрочем, дело не в женщинах; мне на них в конце концов наплевать. Главное, видишь ли, это желать, действовать – словом, созидать… У тебя возникает идея, ты борешься за нее, вколачиваешь ее людям в голову и видишь, как она разрастается и торжествует… Да, старина, вот это меня забавляет!
В его словах звучала жизнерадостность, неутолимая жажда деятельности. Он снова назвал себя сыном своего времени. Поистине надо быть калекой, гнилушкой, надо иметь дырявую голову, чтобы отказываться от работы в наше время, когда предоставляется поле для широчайшей деятельности, когда весь мир устремлен к будущему. И он поднял на смех всех отчаявшихся, пресытившихся, всех нытиков, всех, заболевших от достижений науки, всех, кто на грандиозной современной стройке принимает хнычущий вид поэта или жеманную позу скептика. Какое восхитительное, уместное и разумное занятие – зевать от скуки, когда другие заняты творческим трудом!
– Зевать, глядя на других, – мое единственное удовольствие, – заметил Валаньоск, холодно улыбаясь.
Возбуждение Муре вдруг остыло. Он снова заговорил ласково:
– Ах, старина Поль, ты все тот же, по-прежнему полон парадоксов… Но не для того ведь мы встретились, чтобы ссориться. К счастью, у каждого свой взгляд на вещи. А все-таки нужно будет показать тебе мою машину в действии: ты убедишься, что это вовсе не так глупо… Однако расскажи-ка о себе. Твоя мать и сестры, надеюсь, здоровы? В прошлом году мне говорили, что ты собираешься жениться, что невеста в Плассане.
Уловив порывистое движение Валаньоска, Муре осекся. Валаньоск беспокойно посмотрел в сторону гостиной, и Муре, бросив туда взгляд, заметил, что мадмуазель де Бов не спускает с них глаз. Высокая и крупная, Бланш была похожа на мать, но черты лица ее были грубее и уже заплыли нездоровым жирком. На осторожный вопрос приятеля Поль ответил, что пока еще ничего не решено и, быть может, ничего и не выйдет. Он познакомился с мадмуазель Бланш у г-жи Дефорж, где в прошлую зиму был частым гостем, а теперь появляется крайне редко; поэтому-то он до сих пор и не встречался с Октавом. Валаньоск принят и у де Бовов, где ему особенно по душе глава семейства, старый прожигатель жизни, чиновник, собирающийся выйти в отставку. Впрочем, никаких средств у них нет: г-жа де Бов принесла мужу в приданое только свою красоту Юноны, и семья живет на доход от последней, теперь уже заложенной фермы; жалкий доход этот, к счастью, дополняется девятью тысячами франков, которые граф получает как главный инспектор конских заводов. Он выдает жене очень мало денег, ибо все еще предается сердечным увлечениям на стороне, и графиня с дочерью принуждены иногда сами переделывать свои платья.
– Зачем же тогда жениться? – просто спросил Муре.
– Ах, бог мой, все равно этим должно кончиться, – произнес Валаньоск, утомленно прикрыв глаза. – Кроме того, есть кое-какая надежда, – скоро должна умереть ее тетка.
Между тем Муре не спускал глаз с г-на де Бова, который сидел рядом с г-жою Гибаль; граф проявлял к ней чрезвычайную предупредительность и то и дело вкрадчиво смеялся. Обернувшись к приятелю, Муре так многозначительно подмигнул, что Валаньоск ответил:
– Нет, не эта… По крайней мере пока еще нет… Беда в том, что по роду службы ему приходится разъезжать во все концы Франции, по всем племенным заводам, и, следовательно, у него всегда есть предлог для исчезновения. В прошлом месяце, в то время как его жена думала, что он в Перпиньяне, он пребывал здесь в гостинице на отдаленной улице в обществе некоей учительницы музыки.
Наступило молчание; затем Валаньоск, тоже наблюдавший, как граф увивается за г-жой Гибаль, тихо прибавил:
– Пожалуй, ты прав… тем более что эта милая дама, говорят, отнюдь не отличается строгостью поведения. Я слышал препотешную историю о ней и об одном офицере… Но посмотри, до чего он занятен, как он магнетизирует ее взглядом. Вот она, старая Франция, мой милый! Я обожаю этого человека, и, если женюсь на его дочери, он смело может утверждать, что я это сделал исключительно ради него.
Муре от души расхохотался: все это его очень забавляло. И он продолжал расспрашивать Валаньоска; узнав, что идея поженить его друга и Бланш исходит от г-жи Дефорж, он еще больше развеселился. Милой Анриетте, как и всякой вдовушке, доставляло удовольствие устраивать браки. Сосватав чью-нибудь дочку, она зачастую предоставляла возможность и отцу девушки выбрать себе в ее салоне подругу жизни; и все это делалось так естественно, так мило, что свет никак не мог бы найти тут ничего предосудительного. Муре, любивший ее любовью делового человека, всегда занятого и привыкшего рассчитывать свои ласки, забывал с нею все свои уловки и питал к ней настоящую дружескую симпатию.
В эту минуту она показалась на пороге маленькой гостиной в сопровождении старика лет шестидесяти, появления которого приятели не заметили. Голоса дам временами повышались до крика, им вторило легкое позвякивание ложечек в китайских чашках; порою, среди наступавшей на миг тишины, раздавался звон блюдечка, неловко поставленного на мраморный столик. Внезапно луч заходящего солнца, вырвавшись из-за большой тучи, позолотил в саду верхушки каштанов и, проникнув в окна золотисто-красным снопом, зажег пожаром гобелены и бронзовые украшения мебели.
– Сюда, дорогой барон, – говорила г-жа Дефорж. – Позвольте представить вам господина Октава Муре, ему хочется засвидетельствовать вам свое глубокое восхищение.
Обернувшись к Октаву, она прибавила:
– Барон Хартман.
На губах старика играла тонкая улыбка. Это был невысокий, крепкий мужчина с крупной, как у многих эльзасцев, головой; его полное лицо светилось умом, который отражался даже в мельчайших складках у рта, в легчайшем трепетании век. Целых две недели противился он желанию Анриетты, упорно просившей его об этом свидании, – не потому, чтобы испытывал особенно жгучую ревность, ибо, как умный человек, давно примирился с ролью отца, но потому, что это был уже третий друг, с которым знакомила его Анриетта, и он боялся в конце концов показаться немного смешным. Вот почему он подошел к Октаву со сдержанной улыбкой, как богатый покровитель, который готов быть любезным, но отнюдь не согласен оказаться в дураках.
– Сударь, – воскликнул Муре с чисто провансальским воодушевлением, – последняя операция «Ипотечного кредита» была изумительна! Вы не поверите, как я счастлив и как горд, что могу пожать вам руку.
– Вы очень любезны, сударь, очень любезны! – повторял барон, по-прежнему улыбаясь.
Анриетта глядела на них ясными глазами, без тени смущения. На ней было кружевное платье с короткими рукавами и большим вырезом, обнажавшим изящную шею. Она стояла между ними, откинув назад прелестную головку и переводя взгляд с одного на другого. Она была в восторге, видя их в таком добром согласии.
– Я оставляю вас, господа, побеседуйте, – произнесла она в заключение. И, обращаясь к поднимавшемуся с дивана Полю, прибавила: – Не хотите ли чаю, господин Валаньоск?
– С удовольствием, сударыня.
И они вернулись в гостиную.
Муре сел на кушетку возле барона Хартмана и вновь рассыпался в похвалах операциям «Ипотечного кредита». Затем он перешел к особенно интересовавшему его вопросу: он заговорил о новой улице, которая должна служить продолжением улицы Реомюра и образовать между Биржевой площадью и площадью Оперы новый уголок города под названием улицы 10-го Декабря. Общественная необходимость в ней была официально признана уже полтора года тому назад, недавно был назначен комитет отчуждения; весь квартал, взбудораженный толками о грандиозных сломках, терялся в догадках о времени начала работ и пытался разузнать, какие дома обречены на снос. Уже около трех лет ждал Муре этих изменений, во-первых, потому, что предвидел оживление торговли, а во-вторых, потому, что мечтал о расширении магазина – и о расширении таком грандиозном, что даже не осмеливался признаваться в своих мечтах. Улица 10-го Декабря должна была пересечь улицы Шуазель и Ла Мишодьер, и он уже видел, как «Дамское счастье» захватывает весь квартал между этими улицами и улицей Нев-Сент-Огюстен, и уже представлял себе, как на новой улице будет выситься фасад его дворца, властелина покоренного города. Когда Муре узнал, что «Ипотечный кредит» заключил с правительством договор и принял на себя обязательство по сломке мешающих зданий и застройке улицы 10-го Декабря при условии, что банку будет предоставлена собственность на прилегающие участки земли, – у него возникло горячее желание познакомиться с бароном Хартманом.
– Значит, это верно, – повторял он, прикидываясь простаком, – что вы сдадите правительству уже совершенно готовую улицу со сточными канавами, тротуарами и газовыми фонарями? Следовательно, прилегающие владения явятся достаточной компенсацией ваших расходов? Любопытно, крайне любопытно!
Наконец, Муре подошел к деликатному пункту. Он знал, что «Ипотечный кредит» тайно приобретает дома в том квартале, где находится «Дамское счастье», и не только те, что должны пасть под киркою разрушителей, но и те, которые должны уцелеть. Муре чуял, что Гартман что-то замышляет, беспокоился за судьбу расширений, о которых мечтал, и опасался, как бы не пришлось ему в один прекрасный день столкнуться с могущественным банком, владельцем домов, которые тот, разумеется, уже не выпустит из своих рук. Именно эти опасения и внушили Муре желание поскорее завязать с бароном знакомство, причем связующим звеном должна была быть женщина – это всегда сближает мужчин, любящих поволочиться. Муре мог бы, конечно, повидаться с финансистом в его кабинете и спокойно поговорить там о крупном начинании, участие в котором он намеревался ему предложить. Но он чувствовал себя гораздо смелее у Анриетты: он знал, как трогает и располагает друг к другу обладание одной и той же женщиной. Быть у нее, вдыхать запах любимых ею духов, находиться рядом с нею, видеть улыбку, обращенную к ним обоим, казалось ему залогом успеха.
– Это вы купили старинный особняк Дювилара, смежный с моим владением? – внезапно спросил он.
Барон Хартман на мгновение смешался, затем стал отрицать. Но Муре, глядя ему прямо в лицо, рассмеялся и с этой минуты принял на себя новую роль – роль славного малого, откровенного, ведущего дела начистоту.
– Знаете, барон, раз уж мне выпала нежданная честь встретиться с вами, я намерен открыть вам свою душу… О, я не собираюсь выведывать ваши тайны… Я только признаюсь вам в своих, так как убежден, что отдаю их в самые верные руки. К тому же я чрезвычайно нуждаюсь в ваших советах, но все не осмеливался обратиться к вам.
И он действительно исповедался, рассказал о своих планах, не скрыл даже финансового кризиса, который переживал сейчас среди своих побед. Он рассказал обо всем: о последовательных расширениях, о постоянном обращении прибылей в дело, о суммах, внесенных его служащими, о том, что торговый дом рискует своим существованием при каждом базаре, так как весь капитал сразу ставится на карту. И, однако, он просил вовсе не денег, так как фанатически верил в своих покупательниц. Его честолюбие шло дальше: он предлагал барону вступить в компанию, причем «Ипотечный кредит» в качестве пая должен был внести колоссальный дворец, который Муре уже видел в мечтах; он же, со своей стороны, отдал бы этому делу свой ум и уже созданные им торговые фонды. Доходы можно было бы делить пропорционально вкладам. Осуществление этой затеи казалось ему как нельзя более легким.
– Что вы станете делать со своими участками и домами? – настойчиво спрашивал он. – Вы, несомненно, что-то задумали. Но я совершенно убежден, что ваш замысел не сравнится с моим… Подумайте об этом. Мы выстроим на пустырях торговые ряды, мы снесем или перестроим дома и откроем самые большие в Париже магазины, настоящую ярмарку, которая принесет нам миллионы. – Ах, если бы я мог обойтись без вас!.. – вырвалось у него откровенное признание. – Но теперь всё в ваших руках. Да, кроме того, у меня никогда не будет нужных оборотных средств… Нам непременно следует столковаться, иначе это было бы преступлением.
– Как вы увлекаетесь, сударь, – сдержанно заметил барон. – Какое у вас воображение!
Продолжая улыбаться, он покачал головой, но про себя уже решил не платить откровенностью за откровенность. План «Ипотечного кредита» заключался в том, чтобы построить на улице 10-го Декабря конкурента «Гранд-Отелю» – роскошную гостиницу, которая будет привлекать иностранцев своей близостью к центру. Впрочем, гостиница должна была занять далеко не все освобождающееся пространство, так что барон мог бы согласиться и на предложение Муре и вступить в переговоры относительно остальной, еще очень обширной площади. Но ему уже пришлось финансировать двух друзей Анриетты, и он несколько утомился ролью богатого покровителя. Кроме того, несмотря на всю любовь барона к деятельности и готовность открыть кошелек для всех умных и предприимчивых молодых людей, коммерческий размах Муре не столько пленил, сколько озадачил его. Не явится ли этот гигантский магазин фантастической, неблагоразумной затеей? Не рискует ли Муре разориться, давая волю воображению и переступая все пределы торговли новинками? Словом, барон просто не верил в это дело. И он отказался.
– Конечно, идея сама по себе очень увлекательная, – сказал он. – Только это идея поэта… Где вы найдете покупателей, чтобы наполнить такой собор?
Муре мгновение глядел на него молча, словно остолбенев от его отказа. Возможно ли! Человек с таким нюхом, делец, сразу чуящий деньги, как бы глубоко они ни были зарыты! И, красноречивым жестом показав на дам в гостиной, Муре воскликнул:
– Покупатели? Да вот они!
Солнце меркло; золотисто-красный сноп света превратился в бледный луч, последний привет которого догорал на шелке обоев и на обивке мебели. Сгущающиеся сумерки наполняли просторную комнату теплой, нежащей интимностью. В то время как граф де Бов и Поль де Валаньоск разговаривали у окна, глядя в сад, дамы образовали в середине комнаты тесный кружок, и оттуда доносились взрывы смеха, шушуканье, оживленные вопросы и ответы, в которых сказывалась вся страсть женщины к тратам и тряпкам. Они болтали о туалетах; г-жа де Бов описывала виденное ею бальное платье:
– На лиловато-розовом шелковом чехле – воланы из старинных алансонских кружев шириною в тридцать сантиметров…
– Ох, если б я могла себе это позволить! – перебила ее г-жа Марти. – Бывают же счастливые женщины!
Барон Хартман, как и Муре, разглядывал дам в настежь открытую дверь. Он прислушивался одним ухом к их разговорам, в то время как молодой человек, загоревшись желанием убедить его, все больше раскрывал перед ним свою душу, объясняя новую систему торговли новинками. Эта торговля зиждется теперь на беспрестанном и быстром обращении капитала, что достигается путем возможно большего оборота товаров. Так, за нынешний год его капитал, составлявший всего-навсего пятьсот тысяч франков, обернулся четыре раза и принес такой доход, как если бы равнялся двум миллионам. А удесятерить доход ничего не стоит, так как, по словам Муре, обращение капитала в некоторых отделах со временем можно будет, несомненно, довести до пятнадцати и даже двадцати раз за год.
– Вот и вся механика, барон, понимаете? Дело нехитрое, но надо было это придумать. Мы не нуждаемся в большом оборотном капитале. Единственная наша забота – возможно быстрее сбывать товары, чтобы заменять их другими, а это соответственно увеличивает проценты с капитала. Следовательно, мы можем удовлетворяться самой маленькой прибылью; поскольку наши общие расходы достигают громадной цифры в шестнадцать процентов, а мы никогда не накидываем на товары больше двадцати процентов, наша прибыль в итоге равна четырем процентам; но когда можно будет оперировать большим количеством хороших и постоянно пополняемых товаров, это в конечном счете принесет нам миллионные доходы… Вы следите за моей мыслью, не так ли?.. Дело ясное!
Барон снова покачал головой. Хотя сам он пускался в весьма рискованные предприятия, хотя смелость, проявленную им во время первых опытов внедрения газового освещения, до сих пор еще приводили в пример, он все же не поддавался доводам Муре.
– Отлично понимаю, – возразил барон. – Вы продаете дешево, чтобы продать много, и продаете много, чтобы продать дешево… Вся суть в том, чтобы продавать, но я опять-таки вас спрашиваю: кому вы будете продавать? Каким образом рассчитываете вы поддерживать такую колоссальную торговлю?
Неожиданный шум голосов, донесшийся из гостиной, перебил объяснения Муре. Оказывается, г-жа Гибаль считает, что воланы из старинных алансонских кружев нужно делать только на передничках.
– Но, дорогая моя, – возражала г-жа де Бов, – передничек также весь в кружевах. Получилось на редкость богато.
– Ах, вы подали мне мысль, – перебила г-жа Дефорж, – у меня есть несколько метров алансона… Надо будет еще прикупить для отделки.
Голоса притихли, теперь слышно было только шушуканье. Произносились какие-то цифры; спор подхлестывал желание, дамы уже накупали целые охапки кружев.
– Право же, – сказал, наконец, Муре, получив возможность договорить, – можно продавать все, что угодно, когда умеешь продавать. В этом суть нашей победы.
И он образно, пылко, с присущим провансальцам воодушевлением принялся рассказывать, что представляет собою новая система торговли. Это прежде всего колоссальное, ошеломляющее покупателя изобилие товаров, сосредоточенных в одном месте; благодаря обилию выбора эти товары как бы поддерживают и подпирают друг друга. Заминок не бывает никогда, потому что к любому сезону выпускается соответствующий ассортимент; покупательница, увлеченная то тем, то другим, переходит от прилавка к прилавку, – здесь покупает материю, там нитки, еще дальше манто, словом – одевается с головы до ног, а потом наталкивается на неожиданные находки и уступает потребности приобретения ненужных вещей и красивых безделушек. Затем Муре стал восхвалять преимущества твердо установленных цен. Великий переворот в торговле новинками начался именно с этой находки. Старинная коммерция, мелкая торговля чахнет именно потому, что не может выдержать конкуренции тех товаров, дешевизна которых гарантируется фирменной маркой. Ныне о конкуренции может судить самая широкая публика: достаточно обойти витрины, чтобы узнать все цены. Каждый магазин вынужден снижать цены, удовлетворяясь минимальной прибылью; теперь уже нет места плутовству, теперь уже нельзя разбогатеть, ухитрившись продать какую-нибудь ткань вдвое дороже ее действительной стоимости. Наступило обратное: размеренная цепь операций с определенным процентом надбавок на все товары; залог успеха – в правильной организации торговли, причем последняя преуспевает именно потому, что ведется совершенно открыто. Ну разве не удивительное нововведение? Оно взбудоражило весь рынок, преобразило Париж: ведь оно создано из плоти и крови женщин.
– Женщина у меня в руках, а до прочего мне нет дела! – воскликнул Муре с грубоватой откровенностью, исторгнутой воодушевлением.
Этот возглас, казалось, поколебал барона Хартмана. В его улыбке уже не было прежней иронии, он всматривался в молодого человека, заражаясь мало-помалу его верой, начиная чувствовать к нему симпатию.
– Шш! – прошептал он отечески. – Они могут услышать!
Но дамы говорили теперь все сразу и были так увлечены, что не слушали даже друг друга. Г-жа де Бов все еще описывала виденный ею вечерний туалет: туника из лиловато-розового шелка, а на ней – воланы из алансонских кружев, скрепленные бантами; корсаж с очень низким вырезом, а на плечах опять-таки кружевные банты.
– Вы увидите, – говорила она, – я заказала себе такой корсаж из атласа…
– А мне, – прервала г-жа Бурделе, – захотелось бархата. Его можно купить по случаю.
Госпожа Марти спрашивала:
– А шелк почем? Почем теперь шелк?
Тут все снова заговорили разом. Г-жа Гибаль, Анриетта, Бланш отмеривали, отрезали, кроили полным ходом. Это был какой-то погром материй, настоящее разграбление магазинов; жажда нарядов превращалась в зависть, в мечту; находиться среди тряпок, зарываться в них с головою было для этих дам так же насущно необходимо, как воздух необходим для существования.
Муре бросил взгляд в гостиную и в завершение своих теорий об организации крупной современной торговли шепнул барону Хартману несколько фраз на ухо, словно признаваясь ему в любви, как иногда случается между мужчинами. После всех фактов, которые он уже привел, появилась, венчая их, теория эксплуатации женщины. Все устремлялось к этой цели: беспрестанный оборот капитала, система сосредоточения товаров, дешевизна, привлекающая женщину, цены без запроса, внушающие покупателям доверие. Именно из-за женщины состязаются магазины, именно женщину стараются они поймать в расставленную для нее западню базаров, предварительно вскружив ей голову выставками. Магазины пробуждают в ней жажду новых наслаждений, они представляют собой великие соблазны, которым она неизбежно поддается, приобретая сначала как хорошая хозяйка, затем уступая кокетству и, наконец, вовсе очертя голову, поддавшись искушению. Значительно расширяя продажу, делая роскошь общедоступной, эти магазины превращаются в ужасный стимул расходов, опустошают хозяйства, работают заодно с неистовством моды, все более и более разорительной. И если для них женщина – королева, которую окружают вниманием и раболепством, слабостям которой потакают, то она царит здесь, как та влюбленная королева, которою торговали ее подданные и которая расплачивалась каплей крови за каждую из своих прихотей. У Муре, при всей его лощеной любезности, прорывалась иногда грубость торгаша-еврея, продающего женщину за золото: он воздвигал ей храм, обслуживал ее целым легионом продавцов, создавал новый культ; он думал только о ней и без устали искал и изобретал все новые обольщения; но затем, опустошив ее карманы, измотав ее нервы, он за ее спиной проникался к ней затаенным мужским презрением – как мужчина, которому женщина имела глупость отдаться.
– Обеспечьте себя женщинами, и вы продадите весь мир! – шепнул он барону с задорным смешком.
Теперь барону все стало ясно. Достаточно было нескольких фраз, остальное он угадал. Эта изящная эксплуатация женщины возбуждала его, она оживила в нем былого прожигателя жизни. Он подмигивал с понимающим видом, приходя в восторг от изобретателя новой системы пожирания женщин. Ловко придумано! И все же, как и Бурдонкль, он сказал – сказал то, что подсказывала ему стариковская опытность:
– А знаете, они ведь свое наверстают.
Но Муре презрительно пожал плечами. Все они принадлежат ему, все они его собственность; он же не принадлежит ни одной. Добившись от них богатства и наслаждений, он вышвыривает их на помойку – и пусть подбирают их те, кому они еще могут понадобиться. Это было вполне осознанное презрение, свойственное южанину и дельцу.
– Итак, сударь, – спросил он в заключение, – хотите быть заодно со мной? Считаете ли вы возможным сделку с земельными участками?
Барон был почти побежден, однако колебался взять на себя подобное обязательство. При всем восхищении, которое понемногу овладевало им, он в глубине души не переставал сомневаться. Он уже собирался дать уклончивый ответ, как вдруг дамы стали настойчиво звать к себе Муре, и это выручило барона из затруднения. Сквозь легкий смешок послышались голоса:
– Господин Муре, господин Муре!
А так как Муре, досадуя, что его прерывают, делал вид, будто не слышит, г-жа де Бов поднялась и подошла к двери:
– К вам взывают, господин Муре… Не очень-то любезно с вашей стороны уединяться по углам для деловых разговоров.
Тогда он покорился, притом с такой готовностью и восхищением, что это изумило барона. Они встали и прошли в большую гостиную.
– Сударыни, я всегда к вашим услугам, – сказал Муре улыбаясь.
Он был встречен радостными восклицаниями. Ему пришлось подойти к дамам – они давали ему место в своем кружке. Солнце зашло за деревья сада, день угасал, прозрачные тени мало-помалу наполняли обширную комнату. Это был тот разнеживающий час сумерек, те минуты тихой неги, которые наступают в парижской квартире, когда уличный свет умирает, а слуги еще только начинают зажигать лампы. Господа де Бов и Валаньоск все еще стояли у окна, и их силуэты ложились на ковер расплывчатыми тенями; г-н Марти, скромно вошедший несколько минут тому назад, неподвижно застыл в последних бликах света, проникавшего через другое окно. Всем бросился в глаза его жалкий профиль, узкий, но опрятный сюртук, его лицо, побледневшее от непрерывных занятий с учениками и вконец расстроенное разговором дам о туалетах.
– Что же, состоится в понедельник базар? – спросила г-жа Марти.
– Конечно, сударыня, – отвечал Муре голосом нежным, как флейта, тем актерским голосом, к которому он прибегал, разговаривая с женщинами.
– Знаете, мы все придем, – вмешалась Анриетта. – Говорят, вы готовите чудеса.
– Чудеса? Как сказать… – прошептал Муре со скромным и в то же время самодовольным видом. – Моя единственная цель – заслужить ваше одобрение.
Но они забросали его вопросами. Г-жа Бурделе, г-жа Гибаль, даже Бланш желали знать, что там будет.
– Расскажите же нам поподробнее, – настойчиво повторяла г-жа де Бов. – Мы умираем от любопытства.
Они окружили его, но Анриетта заметила, что он еще не выпил ни одной чашки чая. Тут дамы страшно всполошились, и четверо из них тотчас изъявили готовность за ним ухаживать, при условии, однако, что, выпив чаю, он ответит на все их вопросы. Анриетта наливала, г-жа Марти держала чашку, а г-жа де Бов и г-жа Бурделе оспаривали друг у друга честь положить в нее сахар. Муре не пожелал сесть и принялся медленно пить чай стоя, поэтому дамы приблизились к нему и заключили его в плен тесным кругом своих юбок. Приподняв головы, они смотрели на него блестящими глазами и улыбались ему.
– Что представляет собой ваш шелк «Счастье Парижа», о котором так кричат все газеты? – нетерпеливо спросила г-жа Марти.
– Это замечательный фай, – отвечал он, – плотный, мягкий и очень прочный… Сами увидите, сударыня. И нигде, кроме нас, вы его не найдете, потому что он приобретен нами в исключительную собственность.
– Возможно ли? Хороший шелк по пять франков шестьдесят! – с вожделением воскликнула г-жа Бурделе. – Просто не верится…
С тех пор как стали рекламировать этот шелк, он занял большое место в их жизни. Они говорили о нем, мечтали о нем, мучились желанием и сомнениями. И в том болтливом любопытстве, которым они досаждали молодому человеку, своеобразно проявлялись темпераменты покупательниц: г-жа Марти, увлекаемая неистовой потребностью тратить, покупала в «Дамском счастье» без разбора все, что появлялось на витринах; г-жа Гибаль прогуливалась там часами, никогда ничего не покупая, счастливая и довольная тем, что услаждает свой взор; г-жа де Бов, стесненная в средствах, постоянно томилась непомерными желаниями и дулась на товары, которых не могла унести с собой; г-жа Бурделе, с чутьем умной и практичной мещанки, направлялась прямо на распродажи и в качестве хорошей хозяйки и женщины, не способной поддаваться азарту, пользовалась большими магазинами с такой ловкостью и благоразумием, что и впрямь достигала основательной экономии; наконец, Анриетта, женщина чрезвычайно элегантная, покупала там только некоторые вещи, как-то: перчатки, чулки, трикотаж и простое белье.
– У нас будут и другие ткани, замечательные как по дешевизне, так и по качеству, – продолжал Муре певучим голосом. – Рекомендую вам, например, нашу «Золотистую кожу», это тафта несравненного блеска… У нас большой выбор шелков разнообразнейших расцветок и рисунков, они отобраны нашим закупщиком среди множества образцов. Что касается бархата, вы найдете богатейший подбор различных оттенков… Предупреждаю вас, что этой зимой будет модно сукно. Вы найдете у нас превосходные двусторонние ткани, отличные шевиоты…
Дамы слушали его, затаив дыхание, и еще теснее сомкнули круг; их уста приоткрывались в неопределенной улыбке, а лица, как и все существо, тянулись к искусителю. Глаза у них туманились, легкие мурашки пробегали по спине. А он, несмотря на волнующие ароматы, исходившие от их волос, был по-прежнему невозмутим, как завоеватель. После каждой фразы он отпивал глоток; аромат чая смягчал эти более резкие запахи, в которых было что-то чувственное. Барон Хартман, не переставая наблюдать за Муре, все больше восхищался этим обольстителем, который так владеет собой и так силен, что может играть женщиной, не поддаваясь исходящему от нее опьянению.
– Итак, в моде будут сукна? – переспросила г-жа Марти, обезображенное лицо которой похорошело от воодушевления и кокетства. – Надо будет посмотреть.
Госпожа Бурделе вскинула на Муре свой ясный взгляд и спросила:
– Скажите, распродажа остатков у вас по четвергам? Я подожду до четверга, мне ведь надо одеть целую ораву.
И, повернув изящную белокурую головку к хозяйке дома, она спросила:
– Ты шьешь по-прежнему у Совер?
– Да, – отвечала Анриетта. – Совер берет очень дорого, но что поделаешь: только она во всем Париже и умеет сшить корсаж… Кроме того, что бы ни говорил господин Муре, а у нее материи самых красивых рисунков, таких нигде больше не найдешь. Я не желаю видеть свое платье на плечах каждой встречной.
Муре сначала скромно улыбнулся. Затем он дал понять, что г-жа Совер покупает материи у него; спору нет, некоторые она получает непосредственно от фабрикантов и в таких случаях обеспечивает себе право собственности; но что касается, например, черных шелков, она обычно подстерегает хороший товар в «Дамском счастье» и делает значительные закупки, а затем сбывает материю по удвоенной или утроенной цене.
– Поэтому я не сомневаюсь, что ее доверенные скупят у нас все «Счастье Парижа». И в самом деле, зачем ей платить за этот шелк на фабрике дороже, чем она заплатит у нас!.. Ведь мы, честное слово, продаем его в убыток.
Это был последний удар. Мысль приобрести товар, продающийся в убыток, подхлестнула в дамах всю жадность покупательницы, которая получает особое удовольствие от сознания, что ей удалось обставить торговца. Муре знал, что женщины не в силах устоять перед дешевизной.
– Да мы вообще все продаем за бесценок! – весело воскликнул он, взяв со столика веер г-жи Дефорж. – Вот хотя бы этот веер… Сколько вы, говорите, за него заплатили?
– За кружева двадцать пять франков и за оправу двести, – ответила Анриетта.
– Ну что ж, за такие кружева это недорого. Однако мы продаем их по восемнадцать франков. Что же касается оправы, то это чудовищный грабеж. Я никогда не посмею продать такой веер дороже девяноста франков.
– Что я говорила! – воскликнула г-жа Бурделе.
– Девяносто франков, – прошептала г-жа де Бов. – Надо в самом деле сидеть без гроша, чтобы пропустить такой случай.
Она взяла веер и снова принялась разглядывать его вместе с Бланш; на ее крупном правильном лице, в больших томных глазах появилось выражение сдержанной зависти и отчаяния оттого, что она не может удовлетворить свой каприз. Веер вторично обошел всех дам среди замечаний и возгласов. Между тем господа де Бов и Валаньоск отошли от окна. Первый снова сел позади г-жи Гибаль, обшаривая взглядом ее корсаж и в то же время сохраняя величественный и корректный вид, а молодой человек склонился к Бланш, намереваясь сказать ей что-нибудь приятное.
– Черные кружева в белой оправе – это несколько мрачно. Как вы находите, мадмуазель?
– Я видела однажды перламутровый веер с белыми перьями, – в нем было что-то девически юное… – отвечала она серьезно, и одутловатое лицо ее ничуть не оживилось.
Господин де Бов заметил, вероятно, лихорадочный взгляд, каким жена смотрела на веер, и решил вставить, наконец, свое слово:
– Эти вещицы сейчас же ломаются.
– И не говорите, – согласилась г-жа Гибаль с своей обычной гримасой: эта рыжая красавица всегда играла в равнодушие. – Мне так надоело отдавать их в починку.
Госпожа Марти, крайне возбужденная этим разговором, уже несколько минут лихорадочно вертела на коленях красную кожаную сумку. Ей так и не удалось еще показать свои покупки, а она горела своеобразной чувственной потребностью похвастаться ими. Вдруг, забыв о муже, она открыла сумку и вынула несколько метров узких кружев, намотанных на картон.
– Взгляните на валансьен, который я купила для дочери, – сказала она. – Ширина три сантиметра. Они восхитительны, не правда ли?.. Франк девяносто.
Кружева пошли по рукам. Дамы восторгались. Муре уверял, что продает эти кружева по фабричной цене. Тем временем г-жа Марти закрыла сумку, словно скрывая от взоров вещи, которые нельзя показать. Однако, польщенная успехом кружев, она не устояла и вытащила еще носовой платок.
– А вот еще платок… С брюссельской аппликацией, дорогая… О, это находка! Двадцать франков!
И тут сумка, казалось, превратилась в рог изобилия. Г-жа Марти доставала предмет за предметом, разрумянившись от наслаждения и смущаясь, как раздевающаяся женщина, и это придавало ей особую прелесть. Здесь был галстук из испанских блондов за тридцать франков; она и не хотела его брать, да приказчик поклялся, что это последний и что цена на них будет повышена. Затем вуалетка из шантильи, – немного дорого, пятьдесят франков, но если она сама и не станет ее носить, из нее можно будет сделать что-нибудь для дочери.
– Боже мой! Кружева – это такая прелесть, – твердила она с нервным смешком. – Стоит мне попасть туда, и я, кажется, готова скупить весь магазин.
– А это что? – спросила г-жа де Бов, рассматривая отрез гипюра.
– Это прошивка, – отвечала она. – Здесь двадцать шесть метров. И, понимаете, всего-навсего по франку за метр.
– Но что вы будете с ней делать? – удивилась г-жа Бурделе.
– Право, не знаю… Но у нее такой милый рисунок.
В этот момент она подняла глаза и увидела прямо против себя ошеломленного мужа. Он стал еще бледнее и всем своим существом выражал покорное отчаяние бедняка, который присутствует при расхищении так дорого доставшегося ему жалованья. Каждый новый кусок кружев был для него настоящим бедствием: это низвергались в бездну горькие дни его преподавания, пожиралась его беготня по частным урокам, постоянное напряжение всех сил в аду нищенской семейной обстановки. Под его растерянным взглядом жена почувствовала желание схватить и спрятать и носовой платок, и вуалетку, и галстук; нервно перебирая покупки, она повторяла с деланным смешком:
– Вы добьетесь того, что муж на меня рассердится… Уверяю тебя, мой друг, что я еще была очень благоразумна: там продавалось и крупное кружево за пятьсот франков, – настоящее чудо!
– Почему же вы его не купили? – спокойно спросила г-жа Гибаль. – Ведь господин Марти – любезнейший из мужей.
Преподавателю не оставалось ничего другого, как поклониться и заметить, что его жена совершенно свободна в своих поступках. Но при мысли об опасности, которою угрожало ему крупное кружево, по спине его пробежал озноб. И когда Муре принялся утверждать, что новая система торговли способствует повышению благосостояния средней буржуазии, г-н Марти бросил на него зловещий, гневный взгляд робкого человека, у которого не хватает смелости задушить врага.
А дамы не выпускали кружев из рук. Кружева опьяняли их. Куски разматывались, переходили от одной к другой, еще более сближая их, связывая тонкими нитями. Их колени нежились под чудесной тонкой тканью, в ней замирали их грешные руки. И они все тесней окружали Муре, засыпая его нескончаемыми вопросами. Сумерки сгущались, и, чтобы рассмотреть вязку или показать узор, ему иной раз приходилось настолько наклонять голову, что борода его касалась их причесок. Но, несмотря на мягкое сладострастие сумерек, несмотря на теплый аромат, исходивший от женских плеч, и воодушевление, которое он напускал на себя, он все же оставался властелином над женщинами. Он сам становился женщиной; они чувствовали, как он своим тонким пониманием самых сокровенных тайников их существа проникает им в душу, постепенно овладевает ими, и, обольщенные, покорно отдавались ему; а он, вполне уверившись в своей власти, грубо царил над ними, как деспотический король тряпок.
В сумерках, разлившихся по гостиной, слышался вкрадчивый томный лепет:
– Ах, господин Муре… господин Муре…
Умирающие бледные отсветы неба гасли на бронзовой отделке мебели. Только кружева белели как снег на темных коленях дам; в сумерках трудно было разглядеть группу, окружавшую молодого человека, но по расплывчатым очертаниям можно было принять ее за коленопреклоненных молящихся. На чайнике блестел последний блик, словно тихий и ясный огонек ночника в алькове, где воздух согрет теплом ароматного чая. Но вот вошел лакей с двумя лампами, и наваждение рассеялось. Гостиная пробудилась, светлая и веселая. Г-жа Марти принялась убирать кружева в сумку, графиня де Бов съела еще кусочек кекса, а Анриетта подошла к окну и стала вполголоса разговаривать с бароном.
– Обаятельный человек, – заметил барон.
– Не правда ли? – непроизвольно вырвалось у влюбленной женщины.
Он улыбнулся и отечески снисходительно взглянул на нее. Впервые видел он ее настолько увлеченной. Он был слишком умен, чтобы терзаться этим, и только жалел ее, видя, что она оказалась во власти этого молодого человека, такого ласкового на вид и совершенно холодного в душе. Считая своим долгом предостеречь ее, он шепнул как бы в шутку:
– Берегитесь, дорогая, он всех вас проглотит.
В прекрасных глазах Анриетты сверкнуло пламя ревности. Она, несомненно, догадывалась, что Муре просто воспользовался ею, чтобы познакомиться с бароном. И она поклялась свести его с ума ласками, его, занятого человека, торопливая любовь которого обладала прелестью легкомысленной песенки.
– Ничего! В конечном счете ягненок всегда съест волка, – отвечала она ему в тон.
Барон, еще более заинтересованный, ободряюще кивнул головой. Быть может, она и есть та женщина, которой суждено отомстить за других.
Когда Муре, повторив Валаньоску, что хочет показать ему свою машину в действии, подошел к барону проститься, старик увлек его к окну, обращенному в темные сумерки сада. Он уступил, наконец, обольщению и поверил в Муре, увидев его среди дам. Они с минуту поговорили, понизив голос. Затем банкир сказал:
– Отлично. Обдумаю… Будем считать, что дело решено, если в понедельник оборот у вас окажется столь значительным, как вы уверяете.
Они пожали друг другу руки, и Муре, крайне довольный, уехал; у него бывал плохой аппетит, если он не заходил вечером проверить выручку «Дамского счастья».