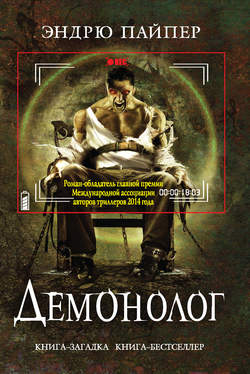Читать книгу Демонолог - Эндрю Пайпер - Страница 7
Часть первая
Несозданная ночь
Глава 5
ОглавлениеПосле ланча я чувствую, что у меня прибавилось сил. В номер является нянька, которую пригласил для нас портье – она будет присматривать за Тэсс те два часа, что я буду отсутствовать. Толстая такая матрона, «зарегистрированная, с лицензией», как уверяет служба отеля. Я сразу же проникаюсь к ней полным доверием. И Тэсс тоже. И они сразу погружаются в курс итальянского языка – еще до того, как я выхожу за дверь.
– Скоро вернусь, – говорю я дочери, которая бросается ко мне, чтобы поцеловать на прощание.
– Arrivederci[20], папочка!
Она закрывает за мной дверь. И я остаюсь в одиночестве. И только спустившись вниз и оказавшись среди других людей, в вестибюле, посреди упорядоченного движения внутрь и наружу, я чувствую себя в состоянии достать из кармана листок с адресом, который мне дала Худая женщина.
«Санта-Кроче, 3627».
Типично венецианский адрес. Ни названия улицы, ни номера дома, ни почтового индекса. Даже самая подробная онлайн-карта способна дать лишь приблизительные контуры двухсотметровой зоны, где это место может находиться. Чтобы найти ту дверь, в которую я должен постучаться, мне придется быть предельно внимательным и не пропустить нужных указателей.
Я сажусь на вапоретто, причаленный к пирсу отеля, и мы направляемся по Канале Гранде до остановки у моста Риальто. Мост сегодня так же забит публикой, как и вчера, когда мы проплывали под ним, и пока я пробираюсь по нему, чтобы добраться до sestiere[21] Санта-Кроче на противоположной стороне канала, мои сомнения по поводу того, что меня ожидает под номером 3627, улетучиваются, и я превращаюсь просто в туриста среди толпы таких же туристов, проходящих мимо лоточников и ларечников, осведомляющихся «сколько это стоит?» на всех языках мира.
Потом я следую по достаточно понятному маршруту, обозначенному на распечатке, которую достаю из кармана. Здесь тоже полно людей, они сверяются с картами, как и я, но по мере моего продвижения дальше их становится все меньше. И вскоре вокруг меня остаются только местные: взрослые, возвращающиеся домой с сумками, полными бакалейных товаров, и дети, пинающие футбольный мяч, бьющие им в древние стены.
Кажется, я уже где-то рядом. Только как узнать точно? Лишь на некоторых дверях имеются номера. И расположены они отнюдь не по порядку, ничего похожего. За номером 3688 следует 3720. Так что я поворачиваю назад, надеясь, что в той стороне номера поменьше, но за 3720-м оказывается 3732-й. Большую часть времени я трачу на то, чтобы затвердить в уме хоть какие-то приметные объекты, за которые можно было бы зацепиться: вот, например, окна второго этажа, из которых свисают цветы, или старики с суровым выражением лиц, пьющие кофе эспрессо за вынесенным на улицу столиком кафе. Однако когда я возвращаюсь назад, как мне кажется, тем же самым путем, оказывается, что кафе исчезло, а вместо торчащих из окна цветов болтается на веревке нижняя рубаха, вывешенная сушиться.
И только когда я разворачиваюсь и направляюсь обратно в сторону Риальто (вернее, туда, где, как я полагаю, он расположен), я нахожу то, что мне нужно.
На деревянной двери золотой краской по трафарету нарисованы цифры, меньше по размеру, чем другие: «3–6–2–7». Должно быть, это старый, изначальный, сохраняемый с тех времен, когда было построено само здание, номер, написанный для низкорослых венецианцев семнадцатого века. Размер цифр вместе с тонким шрифтом производит такое впечатление, что этот адрес уже давно прикладывает все усилия, чтобы его вообще не заметили.
Кнопка дверного звонка сияет и блестит, подобно ночнику, даже посреди белого дня. Я нажимаю на нее дважды. Невозможно понять, раздается при этом внутри какой-то сигнал или нет.
Но через секунду дверь распахивается. Из внутренней тьмы и тени возникает мужчина среднего возраста в сером фланелевом костюме, слишком теплом для здешних дневных температур. Он моргает, уставившись на меня сквозь мутные, захватанные пальцами стекла очков в проволочной оправе – единственного свидетельства неаккуратности в его во всех иных отношениях безупречно-официальном облике.
– Профессор Аллман, – говорит он. И это звучит не как вопрос.
– Раз вам известна моя фамилия, значит, я, видимо, попал туда, куда нужно, – отвечаю я с улыбкой, призванной пригласить его составить мне компанию в юмористическом обсуждении странности нашей встречи. Но в выражении его лица нет ничего хотя бы отдаленно похожего на иную реакцию, чем простое понимание того факта, что я стою у его дверей.
– Вы опоздали, – говорит местный житель на превосходно артикулированном английском, хотя и с акцентом. Он пошире распахивает дверь и делает рукой нетерпеливое, быстрое движение, приглашая меня внутрь.
– Мне не было назначено никакого конкретного времени, насколько я помню.
– Все равно уже поздно, – повторяет человек в сером, и в его голосе звучит какая-то усталая нотка, заставляющая предполагать, что он имеет в виду не время, а нечто иное.
Я вступаю в помещение, которое представляется мне чем-то вроде комнаты ожидания, приемной перед кабинетом врача. Деревянные стулья, приставленные спинками к стене. Кофейный столик с итальянскими новостными журналами, которые, судя по фотографиям террористических актов и кадрам из блокбастеров, изображенным на обложках, вышли из печати несколько лет назад. Если это комната ожидания, здесь никто ничего не ожидает. И здесь нет ничего того, что бывает в подобных местах – ни ресепшиониста, ни его стойки или столика, ни рекламных плакатов. Ничего, что могло бы указать, какие услуги здесь предлагают.
– Я врач, – говорит мужчина в костюме.
– Это ваша приемная?
– Нет, нет. – Он качает головой. – Мне поручили здесь поприсутствовать. Я принимаю в другом месте.
– Где?
Он машет рукой. Отказ или, возможно, неспособность ответить.
– Мы здесь одни? – спрашиваю я.
– В данный момент – да.
– Но здесь бывают и другие? В другое время?
– Да.
– Значит, нам следует дождаться их прихода?
– В этом нет необходимости.
Он идет к одной из трех закрытых дверей. Поворачивает ручку замка.
– Погодите, – говорю я.
Он открывает дверь, притворяясь, что не слышал меня. За дверью видна узкая лестница, ведущая на верхний этаж.
– Погодите же!
Врач оборачивается. На его лице неприкрытое выражение тревоги и беспокойства. Понятно, что ему дано задание – провести меня вверх по лестнице – и у него имеется личная заинтересованность в том, чтобы выполнить порученное дело так быстро, как только возможно.
– Да? – спрашивает он.
– Что там, наверху?
– Не понимаю.
– Вы намерены мне что-то показать, так? Скажите же, что это такое!
Разнообразные ответы, которые он мог бы дать, можно практически прочесть в его глазах. Кажется, это причиняет ему боль.
– Это для вас, – в конце концов говорит он.
Прежде чем я успеваю спросить у этого странного человека что-то еще, он начинает подниматься по лестнице. Его начищенные до блеска кожаные оксфордские ботинки стучат по деревянным ступеням с ненужной силой – то ли для того, чтобы не слышать мои дальнейшие вопросы и комментарии, то ли чтобы подать кому-то сигнал о моем прибытии.
Я следую за ним наверх.
На лестнице тепло и темно, жара усиливается с каждым шагом вверх, оштукатуренные стены скользкие от осевшей на них влаги. Это похоже на проникновение в чью-то огромную глотку. И вместе с этим ощущением возникает звук: подавляемое дыхание кого-то еще – не мое и не врача. Или, еще точнее, это два дыхания, звучащие одновременно и перекрывающие друг друга. Одно из них высокого тона и слабое, как последние вздохи на смертном одре. Другое – басовое содрогание, которое скорее ощущаешь, чем слышишь.
Когда мы добираемся до второго этажа, там совершенно темно. Даже если оглянуться назад, туда, откуда я пришел, не видно ничего, кроме бледного отсвета из комнаты ожидания.
– Доктор?
Мой голос, кажется, слегка оживляет врача, и он включает мощный фонарь, ослепляя меня.
– Le mie scuse[22], – говорит он, опуская луч фонаря.
– А свет здесь что, не горит?
– Электричества нет. Во всем доме.
– Почему?
– Я не спрашивал. Полагаю, он… – Он запинается, подбирая нужное слово. – Не подключен к сети.
Тут я впервые имею возможность рассмотреть лицо незнакомца. Его черты подсвечены снизу опущенным лучом фонаря, так что паническое выражение на нем смотрится совершенно карикатурно.
– Почему вы этим занимаетесь? – спрашиваю я. Один этот вопрос вызывает у него приступ неудовольствия и недоумения.
– Я не могу вам это сказать.
– Кто-то заставляет вас это делать?
– Не бывает действий без выбора, – отвечает мой собеседник, произнося эти слова со слегка модулированным акцентом, словно повторяя чей-то еще ответ на этот же вопрос.
– Здесь безопасно?
Вопрос звучит жалко и поспешно, но настойчиво, что несколько удивляет меня самого, но вовсе не удивляет врача, который на секунду прикрывает глаза, словно спасаясь от какого-то воспоминания, вызывающего у него безнадежные сожаления.
Потом внезапно он резким движением тянется к чему-то, лежащему на столе позади него, и луч фонаря в другой его руке описывает круговое движение, демонстрируя, что мы находимся на лестничной площадке, где имеются три закрытые двери. В этом помещении нет никаких украшений или произведений искусства. Только едва заметный блеск влаги на белых стенах.
Врач снова направляет луч на меня, прямо мне в грудь. И я вижу, что он протягивает мне нечто похожее на новенькую цифровую видеокамеру.
– Это для вас, – говорит он.
– Она мне не нужна.
– Это для вас.
И он роняет камеру мне в руки.
– И что я, как вы полагаете, должен с ней делать?
– Мне не говорили, что вам нужно делать. Велели только передать ее вам.
– Такой договоренности не было.
– Не было никакой договоренности, – говорит венецианец, словно подавляя взрыв грубого смеха. – Что вы с ней будете делать, профессор, – это вам решать.
Врач сдвигается с места. Сначала я решаю, что он намерен сопроводить меня за одну из дверей, которую сейчас откроет, или, может быть, повести меня дальше, на следующий этаж. Но он просто обходит меня – я чувствую кислый телесный запах, когда он проходит рядом, и, как я понимаю, намеревается спускаться по лестнице обратно вниз.
– Что вы намерены делать? – задаю я очередной вопрос.
Он останавливается. Направляет луч света на самую дальнюю дверь.
– Per favore[23], – говорит он.
– Вы подождете меня? Внизу? Вы будете здесь, если мне понадобитесь, да?
– Per favore, – повторяет он. Его лицо так пожелтело, что теперь он очень напоминает человека, который прилагает все усилия, чтобы сдержаться и успеть добежать до ближайшего туалета, прежде чем его вырвет.
«Только на одну минутку!»
Это все, что приходит мне в голову, когда я делаю шаг к указанной двери.
«Только на одну минутку, чтобы проделать все нужные наблюдения и доложить о них этому человеку или кому-то еще, кто ожидает меня внизу, а потом прочь отсюда. Воспользоваться еще одним свободным днем для развлечений, забрать деньги и сбежать. Обещание будет выполнено».
А если по правде? Я открываю дверь и делаю шаг внутрь – вовсе не за те деньги, что заплатила мне Худая женщина, или чтобы выполнить то, что должен по соглашению с ней. Все гораздо проще.
Я хочу увидеть, что там.
Там мужчина, который сидит в кресле.
Кажется, он спит. Его голова склонилась вперед, подбородок касается груди. Мне не разглядеть лица этого человека, но хорошо видны его редеющие, цвета соли с перцем кудри и маленькое розовое пятно на макушке, этот значок мужского среднего возраста. На нем брюки от вечернего костюма, деловая рубашка в полоску, кожаные мокасины. Обручальное кольцо. Его вполне подтянутая, аккуратная фигура все же выдает слегка выпирающим животиком того, кто привык хорошо и вкусно поесть, но кто достаточно мнителен и тщеславен, чтобы бороться с последствиями этого с помощью обязательных физических упражнений. Все в нем при поверхностном взгляде создает представление о человеке с хорошим вкусом, пусть и не склонном к рискованным экспериментам, профессионала, отца семейства. Человека вроде меня самого.
Но затем, когда я приближаюсь к незнакомцу еще на шаг, становятся заметны и другие детали, незаметные секундой ранее.
Он весь в поту, буквально промок насквозь. Рубашка прилипает к спине, под мышками темные полукружья.
Он дышит. Хриплые всхлипы, настолько глубокие, что кажется, будто, выдыхая, он вытягивает воздух откуда-то еще, а вовсе не из собственных легких.
А еще его кресло. Каждая его ножка прикреплена к деревянному полу с помощью мощных строительных болтов. Грубые кожаные ремни вроде тех, что используются в лошадиной упряжи, охватывают грудь мужчины, удерживая его в кресле.
«Похищенный! Заложник! Его насильно похитили и держат здесь ради выкупа!»
Тогда зачем они притащили сюда меня?! Ко мне ведь не приставали ни с какими требованиями, разве что им зачем-то потребовалось мое здесь присутствие…
«Тебя сейчас тоже захватят и посадят здесь. Или сделают что-нибудь похуже. Тебе дали камеру, чтобы ты снимал нечто ужасное. Пытки. Убийство. Что-то такое, что они будут делать с этим мужчиной».
Только зачем им свидетель, если именно в этой роли мне предстоит выступать, приехав сюда аж из Нью-Йорка?
«Они и тебя собираются похитить».
С какой целью? Конечно, не ради денег. У меня их не так много, чтобы стоило ими заинтересоваться. И если они хотят захватить меня, похитить, то зачем им было так долго ждать?
«К северо-северо-западу». Хичкок. «Они схватили не того парня».
Но Худая женщина точно знала, кто я такой. Так же, как и кассир в аэропорту, как портье в отеле «Бауэр» – все они изучали мой паспорт. Та женщина хотела, чтобы здесь оказался именно Дэвид Аллман. И вот я здесь.
Эти дебаты в уме, как я понимаю, происходили с воображаемой О’Брайен. У меня в груди даже возникает боль, когда я понимаю, как мне хочется, чтобы она сейчас оказалась здесь, со мной. У нее точно нашлись бы ответы, которых нет у ее образа, с которым я только что говорил.
Я включаю камеру.
Я не пытаюсь бежать, не пытаюсь вызвать polizia. По какой-то непонятной причине я уверен, что мне сейчас ничто не угрожает, что нет никакой опасности, что меня завлекли сюда вовсе не для того, чтобы привязать к креслу.
Я оказался здесь из-за этого мужчины, сидящего передо мной. Он и есть то самое «дело». Тот самый «процесс», тот самый «феномен».
Я нажимаю на кнопку REC и смотрю в видоискатель камеры, наведя ее на мужчину в кресле. В углу кадра начинает работать счетчик, отщелкивая цифры, отмеряя записанный материал. Автофокус на мгновение закрывает изображение, а потом наводит объектив на резкость, выдав четкую и ясную картинку. А связанный человек все спит.
Я проверяю кнопку Zoom. Даю крупный план, чтобы исключить пол и стены.
Счетчик показывает 1.24.
Теперь еще ближе, чтобы в кадре оставались только верхняя часть туловища и голова.
На счетчике 1.32.
Внезапно его голова дергается прямо вверх, отбрасывая со лба влажные пряди волос. Глаза широко открыты, смотрят пристально и блестят от напряжения. Сколько бы этот человек ни отдыхал, уронив подбородок на грудь, они не закрывались. Он вообще не спал.
Мужчина смотрит прямо в объектив камеры. И я держу ее направленной прямо на него, регистрируя выражение его лица – как оно меняется от тупого к понимающему, узнающему. Не комнату, но меня. На его лице расплывается улыбка, словно он видит старого друга.
Но улыбка становится слишком широкой, его рот растягивается так, что в его уголках обнажаются старые струпья, оставшиеся с того времени, когда он в прошлый раз исполнял такой же трюк. Он обнажает все зубы.
Он оскаливается.
Дергается, стараясь высвободиться из ремней, что удерживают его в кресле. Дергается всем торсом то в одну сторону, то в другую, словно проверяет, насколько прочно кресло прикручено к полу. Болты держатся крепко, но от его усилий начинает содрогаться и скрипеть вся комната, и абажур потолочной лампы раскачивается над моей головой. На случай, если он упадет, я делаю шаг вперед. Подхожу на шаг ближе к нему.
Небольшая пауза, потом мужчина бодает головой воздух, дернувшись прямо в мою сторону. Он напрягает шею и плечи, вытягивает их, насколько позволяют его путы. И даже дальше. Его тело изгибается, судорожно тянется вперед на целых несколько дюймов дальше, чем я мог бы предположить, судя по естественной длине и гибкости его позвоночника.
Я отступаю на шаг, на безопасное расстояние. Записываю на камеру минуту за минутой весь этот его припадок. Его рычание. Брызги белой пены изо рта. Звуки, исходящие изнутри его тела, рычание и шипение.
Он безумен. Буйный безумец в самый опасный момент продолжительного приступа.
Или я просто пытаюсь убедить себя в этом. Но это не срабатывает.
Все, что делает этот человек, слишком намеренное, чтобы это оказалось душевным заболеванием. Приступ только представляется набором диких, непоследовательных и бессмысленных признаков некоего запущенного невротического недуга, но отнюдь не является таковым. То, что мне демонстрируется, – это проявление, раскрытие некоей личности, совершенно чуждой. Оно имеет свой рисунок, свою манеру, свои крещендо и диминуэндо, драматические паузы, и все это исходит от некоего внутреннего сознания. А еще все это предназначено для того, чтобы быть записанным на камеру. Для меня.
Еще более тревожными помимо его явных и недвусмысленных дерганий и сотрясений, женоподобного квохтанья и гогота, болезненных вскриков и закатившихся глаз, так что видны белки, настолько покрасневшие, что кажутся маленькими пятнышками боли, становятся те моменты, когда он внезапно замирает, сидит неподвижно и смотрит на меня. Ни слова, ни судорог. Его личность приходит в «норму» или в то состояние, которое я воспринимаю как остатки его некогда душевно здоровой сущности – и тогда он превращается в мужчину примерно моего возраста, не понимающего, куда он попал, и пытающегося сообразить, кто я такой, как он может изменить ситуацию, как найти дорогу обратно домой. В такие моменты передо мной явно умный, интеллигентный человек.
Но после этого выражение его лица всякий раз резко меняется. Он вспоминает, кто он такой, вспоминает причину и суть обрушившегося на него несчастья, и по его лицу снова проходит целый каскад выражений – изображений? эмоций? воспоминаний? – проходит быстро, мгновенно.
И именно тогда он начинает кричать.
Голос целиком и полностью его собственный. Одинокая нота звучит, поднимаясь из его глотки, а затем рассыпается, превращаясь в нечто похожее на рыдание. Его ужас настолько непосредствен и кристально чист, что лишает его человеческого облика даже больше, чем его самые жуткие и гротескные выверты.
Мужчина смотрит на меня и протягивает ко мне руку.
Это напоминает мне Тэсс, когда ей было два годика и когда она училась плавать во время летнего отпуска, который мы проводили на Лонг-Айленде. Она тогда делала осторожный шажок с мелководья и ощупывала ногой песчаное дно, уходящее вниз, в глубину, и в этот миг ее окатывала набежавшая волна. И всякий раз она выплевывала набравшуюся в рот морскую воду и протягивала руку ко мне, чтобы я ее спас. Это почти смертельное упражнение она повторяла раз по двадцать за один день. И хотя всякий же раз она через четверть секунды оказывалась у меня на руках, ее отчаяние всегда было таким же.
Разница между Тэсс и этим мужчиной в том, что если Тэсс понимала, что ее пугает – вода, глубина, – то он не имеет об этом никакого представления. Это не заболевание. Это чье-то присутствие – возможно, некоего привидения. Чьей-то воли, в тысячи раз более мощной, чем его собственная. Но он не борется с ней. Все эти гримасы и судороги – лишь признание того, что он проклят, и оно обрушивается на него всякий раз снова и снова.
В конце концов человек замирает и весь оседает, погружается в сон, который вовсе не сон.
На счетчике 4.43.
И только теперь у меня действительно начинают дрожать руки. Все предыдущие мгновения камера в них была неподвижна, как будто установленная на штативе, так твердо я ее держал. Теперь же, когда значение всего только что увиденного полностью доходит до меня, кадр начинает дергаться и болтаться, вызывая тошноту, словно камера ожила и действует совершенно самостоятельно, тогда как сам я остаюсь неподвижен.
5.24.
Голос.
Этот звук заставляет мои руки замереть. И мужчина в кресле снова замирает в кадре. Он совсем не двигается. Голос исходит от него – должен исходить от него, – но ничто в его облике не указывает на это.
– Профессор Аллман.
Мне требуется целая секунда, чтобы понять, что голос обращается ко мне. И обращается не на английском, а на латыни.
«Lorem sumus».
«Мы тебя ждали».
Голос мужской, но только потому, что низкого регистра, а отнюдь не по своей природе. По сути дела, хотя он звучит совершенно так же, как человеческий голос, он странно беспол. Это не просто голос, это некое непонятное, свободное, никому не принадлежащее средство общения. А ведь даже самый изощренно разработанный, генерируемый компьютером искусственный голос нетрудно определить как суррогат, заменитель настоящей человеческой речи.
Я жду продолжения. Но слышу только это ужасное хриплое дыхание. Сейчас оно стало громче.
6.12.
– Кто ты?
Это уже мой голос. Звучит тонко и сипло, как будто со старой пластинки на 78 оборотов.
Голова снова поднимается. На сей раз выражение лица незнакомца принадлежит не рычащему сумасшедшему и не его «нормальной» сущности – это что-то новое. Успокоенное, умиротворенное. По его лицу бродит вкрадчивая улыбочка, свойственная священникам или мелким коммивояжерам, таскающимся от одной двери к другой. Но под внешней вкрадчивостью заметна ярость. Ненависть, различимая в чертах лица, но не в выражении глаз.
– У нас нет имен.
Мне следует усомниться в том, что мне говорит этот голос. Потому что то, что произойдет в следующий момент, определит все последующее. Я откуда-то это знаю. Мне сейчас крайне необходимо не дать ему понять, что, как мне представляется, это может быть всем чем угодно, но не симптомами душевной болезни. Это все понарошку. Обычная отговорка, предлагаемая ребенку, читающему сказку про ведьм или великанов. Ничего такого на самом деле не существует. Невозможному нельзя позволить утвердиться в возможном. Можно успешно сопротивляться страху, отвергая его.
– У нас, – начинаю я, прилагая все усилия, чтобы голос не дрожал. – Не хочешь ли ты сказать, что имя вам – Легион, оттого что вас много?
– Нас и впрямь много. Хотя ты встретишься только с одним.
– Разве мы уже не встретились?
– Нет, сейчас нет той тесной близости, как с тем, с которым ты вскоре познакомишься.
– С дьяволом?
– Нет, не с хозяином. А с тем, кто сидит подле него.
– С нетерпением жду этой встречи.
Он – или оно? – ничего на это не отвечает. Воцарившееся молчание подчеркивает никчемность моей лжи.
– Значит, ты можешь предсказать будущее? – продолжаю я. – Это такая же распространенная бредовая иллюзия, как и вера в свою одержимость демонами.
Оно вздыхает. Это очень длинный вдох, словно на мгновение высасывающий из комнаты весь кислород. Он оставляет меня в вакууме. Обездвиженным, лишенным веса и задыхающимся.
– Твои попытки все подвергнуть сомнению неубедительны, профессор, – говорит оно.
– Мои сомнения вполне реальны, – говорю я, хотя тон, которым это произнесено, выдает меня. Ты побеждаешь, говорит этот тон. Ты уже победил.
– Ты должен приготовиться к тому знанию, которое тебя пугает.
– Так почему бы не начать прямо сейчас?
Оно улыбается.
– Скоро ты будешь среди нас, – заверяет оно меня.
При этом часть меня всплывает вверх и отрывается прочь от моего тела. Смотрит вниз на меня самого и видит, что мой рот открывается, чтобы задать вопрос, который уже задан.
– Кто ты?
– Люди дали нам имена, хотя у нас их нет.
– Нет. Ты не хочешь сказать мне, кто вы такие, потому что знание имени врага дает власть над ним.
– Мы не враги.
– Тогда кто же вы?
– Заговорщики.
– Заговорщики? И какова же цель вашего заговора?
Он смеется. Низкий, удовлетворенный рокот, который, как кажется, исходит откуда-то из фундамента здания, из земли под ним.
– Нью-Йорк 1259537. Токио 996314. Торонто 1389257. Франкфурт 540553. Лондон 590643.
Когда оно замолкает, глаза мужчины в кресле закатываются, выставляя наружу покрасневшие, налитые кровью белки. Оно делает невозможно долгий вдох. Задерживает воздух. Выпускает его вместе со словами, в которых чувствуется едкий, режущий привкус горелой плоти.
– В двадцать седьмой день апреля… мир будет отмечен пришествием наших множеств.
Голова падает вперед. Тело мужчины снова неподвижно. Лишь едва заметное дыхание удерживает его по эту сторону от смерти.
8.22.
Три минуты. Вот сколько времени я с ним разговаривал. С ними. Три минуты, которые уже воспринимаются как целый период моей жизни, отрезок времени, подобный отрочеству или отцовству, в каковых терминах в основе своей определяется и меняется представление об индивидуальной личности. Время между 5.24 и 8.22 будет именоваться «Когда я разговаривал с мужчиной в Венеции». И этот период будет отмечен сожалением. Утратой, которую я пока что не могу толком определить и назвать.
Пора уходить.
Если меня затащили сюда, чтобы засвидетельствовать симптомы душевного заболевания этого несчастного, тогда я уже увидел вполне достаточно. И в самом деле, мои сожаления по поводу того, что я вообще оказался в этой комнате, настолько сильны, что я внезапно обнаруживаю, что, шаркая ногами, продвигаюсь спиной вперед обратно к двери, дюйм за дюймом увеличивая дистанцию между собой и спящим мужчиной, стараясь при этом притворяться, что я в силах перекрутить обратно последние четверть часа и стереть их из памяти так же легко, как могу стереть их из камеры, которая записывает мое отступление.
Но никакого забвения не будет. Камера сохранит на своей карте памяти слова мужчины в том же живом виде, в каком их запомнил я.
И тут он делает такое, что тем более будет невозможно стереть.
Он просыпается и поднимает голову. На этот раз медленно.
Это то же самое лицо того же мужчины, но изменившееся таким образом, какой могу заметить один только я. Несколько текучих, мгновенных изменений в чертах его лица, которые, вместе взятые, меняют его внешний вид и идентичность от того, чем он когда-то был, к чему-то совсем другому, к внешнему виду человека, которого я хорошо знаю. Глаза немного ближе друг к другу, нос длиннее, губы тоньше. Это лицо моего отца.
Я пытаюсь кричать. Но не издаю ни звука. Единственный звук в комнате – это голос, с которым говорит этот мужчина. Из его рта исходит голос моего отца. С его обычными яростными обвинениями, с обычной горечью. Голос человека, который уже тридцать лет как мертв.
– Это должен был быть ты, – говорит он.
20
До свидания (ит.).
21
Округ, район города (от sesto – шесть) для городов, которые, как Венеция, состоят из шести районов.
22
Извините меня (ит.).
23
Пожалуйста (ит.).