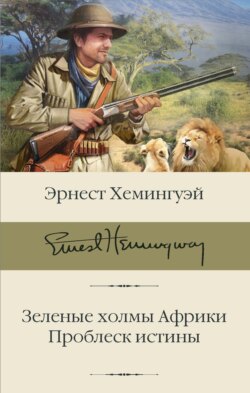Читать книгу Зеленые холмы Африки. Проблеск истины - Эрнест Миллер Хемингуэй, Эрнест Хемингуэй - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Зеленые холмы Африки
Часть первая
Охота и разговоры
Глава первая
ОглавлениеМы сидели вблизи соляного источника, в укрытии, которое охотники из племени вандеробо сварганили из сучьев и веток, и тут впервые затарахтел мотор грузовика. Пока он был вдали, никто не понимал, что это такое. На какое-то время шум стих, и у нас появилась надежда, что мы ослышались или то просто ветер шумел. Но звук стал опять нарастать, и теперь сомнений не было, мотор почти ревел – все ближе и ближе, пока, захлебываясь перебоями в двигателе, с громкими выхлопами, грузовик не проехал прямо за нашим укрытием к дороге. Один из двух охотников – тот, что любил во все вносить драматизм, – театрально поднялся.
– Все провалилось, – сказал он.
Приложив палец к губам, я жестом усадил его.
– Все провалилось, – повторил он и широко развел руками. Мне он никогда не нравился, а сейчас и подавно.
– Подождем немного, – прошептал я.
М’Кола покачал головой. Я глядел на его лысый черный затылок, а когда он слегка повернулся, мне стали видны в уголках его рта редкие, как у китайца, усики.
– Плохо дело, – сказал он. – Hapana m’uzuri[2].
– Давай подождем, – повторил я.
Он снова склонил голову, чтоб не маячить поверх сухих сучьев, и мы сидели в пыльной яме до тех пор, пока не стало так темно, что я уже не мог разглядеть прицел на своем ружье. Антилопы так и не появились. Наш охотник-артист весь издергался. С последними проблесками света он шепнул М’Коле, что в такой тьме уже не постреляешь.
– Да заткнись ты! – одернул его М’Кола. – Бвана[3] стреляет, когда ты уже ни зги не видишь.
Другой охотник, чему-то учившийся, продемонстрировал свою грамотность, нацарапав острой веткой на черной ноге свое имя «Абдулла». Я не выразил восхищения, и М’Кола тоже бесстрастно отнесся к его усилиям. Спустя некоторое время охотник стер написанное.
Бросив последний взгляд на стремительно уходящий свет, я понял, что толку не будет, даже если до предела раздвинуть ветки.
М’Кола молча ждал.
– Не повезло, – сказал я.
– Да, – согласился он на языке суахили. – Идем в лагерь?
– Идем.
Мы поднялись, вылезли из укрытия и пошли к дороге по твердому песку, нащупывая путь меж деревьями и спутавшимися ветками. В миле отсюда, на дороге, нас ждала машина. Когда мы приблизились, шофер Камау включил фары.
Грузовик все испортил. Днем, оставив автомобиль на дороге, мы осторожно пробрались к солонцу. За день до этого прошел дождь, но не настолько сильный, чтобы затопить солонец, который выглядел как клочок земли меж деревьев, весь изрытый и истоптанный по кругу и с ямками в тех местах, где звери вылизывали соль. Среди прочих следов мы различили вытянутые, сердцевидные свежие следы четырех крупных самцов куду, приходивших лизать соль прошлой ночью, и множество таких же свежих следов антилоп поменьше. Приходил также носорог, и, судя по следам и растоптанным кучкам желтоватого помета, он не пропускал ни одной ночи. Укрытие соорудили на расстоянии летящей до солонца стрелы, и, сидя там, среди золы и пыли, откинувшись на край ямы, с поднятыми коленями и втянутой в плечи головой, я увидел сквозь тонкие ветви с сухими листьями, как из кустарника вышел и остановился на краю соляного источника небольшой самец антилопы – серый красавец с могучей шеей, его витые рога спиралью сверкали на солнце. Я прицелился ему в грудь, но потом передумал стрелять, боясь спугнуть крупных куду, которые непременно придут в сумерки. Самец услышал шум грузовика раньше нас и мигом скрылся среди деревьев, и все живое, что двигалось в кустах и на равнине или спускалось с холмов, направляясь к солонцу, тоже замерло при звуках металлического лязга и выхлопов. Они придут позже, в темноте, но тогда будет слишком поздно.
И вот теперь автомобиль ехал по плотной песчаной дороге, выхватывая фарами из мрака глаза припавших к земле ночных птиц, они взлетали в панике от надвигавшейся громады, а в стороне жгли костры переселенцы, которые днем тянулись на запад, спасаясь от голода в их местах – тех, что лежали перед нами. Я сидел, упершись прикладом в ботинок и держа ствол под мышкой левой руки, коленями я сжимал бутыль, из которой наливал в железную кружку виски, передавая ее в темноте через плечо М’Колы, тот подливал туда воды из большой фляги, и я с наслаждением выпивал первую, самую вкусную порцию спиртного за день, глядел на густой темный кустарник, ощущал прохладный ночной ветерок и, вдыхая неповторимые ароматы Африки, чувствовал себя абсолютно счастливым.
Впереди горел большой костер, и, когда мы подъехали ближе и поравнялись с ним, я обратил внимание на стоявший у дороги грузовик. Я попросил Камау остановиться и подать назад, и тут в падающем от костра свете я увидел невысокого, кривоногого мужчину в тирольской шляпе, кожаных шортах и расстегнутой рубашке, он стоял в окружении туземцев у грузовика с открытым капотом.
– Помощь не требуется? – спросил я.
– Только если вы механик, – ответил мужчина. – Не приглянулся я этому грузовику. Как и всем остальным машинам.
– Может, регулировка зажигания отказала. Когда вы проезжали мимо нас, слышалось отчетливое постукивание.
– Думаю, все еще хуже. Стучит просто жутко.
– Попробуйте добраться до нашей стоянки, у нас есть механик.
– А это далеко?
– Миль двадцать.
– Попытаюсь утром. Сейчас, слыша этот адский шум у него внутри, боюсь гнать его дальше. Этот грузовик хочет сдохнуть, потому что я ему не нравлюсь. Я тоже от него не в восторге. Впрочем, если сгину я, ему по барабану.
– Хотите выпить? – Я протянул ему фляжку. – Моя фамилия – Хемингуэй.
– Кандиски, – сказал он и поклонился. – Хемингуэй – я уже слышал эту фамилию. Но где? Где я ее слышал? Ах да. Это dichter[4]. Вы о поэте Хемингуэе что-нибудь знаете?
– Где вы его читали?
– В «Квершнитт».
– Это я, – признался я, польщенный. «Квершнитт» – немецкий журнал, опубликовавший несколько моих довольно непристойных стихов и один большой рассказ задолго до того, как мне удалось пристроить кое-что в Америке.
– Это удивительно, – сказал мужчина в тирольской шляпе. – Скажите, а что вы думаете о Рингельнаце?[5]
– Он замечательный.
– Так. Рингельнац вам нравится. Хорошо. А как вы относитесь к Генриху Манну?
– Плохой писатель.
– Вы уверены?
– Читать его невозможно – вот все, что могу сказать.
– Он просто ни к черту не годится. Вижу, у нас с вами вкусы сходятся. Что вы здесь делаете?
– Охочусь.
– Надеюсь, ваша цель не слоновая кость?
– Нет. Я охочусь на куду.
– Почему вдруг всем понадобилось охотиться на куду? Зачем вам, интеллигентному человеку, поэту, убивать куду?
– Пока я никого не убил, – ответил я. – Хотя выслеживаем их уже десять дней. Если б не ваш грузовик, мы бы одну антилопу сегодня заполучили.
– Да, этот жалкий грузовик. Нет, надо охотиться круглый год. Тогда вы перебьете здесь все, загрустите и, может, раскаетесь. А преследовать какого-то одного зверя – вздор! Зачем вам это?
– Я люблю охоту.
– Ну, если любите, тогда конечно. А скажите, что вы думаете о Рильке?
– Я читал только одну его вещь.
– Какую?
– «Корнета».[6]
– Вам понравилось?
– Да.
– А я такого не выношу. Снобизм это все. Вот Валери – да. Валери я понимаю, хотя у него снобизма тоже хоть отбавляй. Что ж, хорошо, что вы, по крайней мере, слонов не убиваете.
– Я бы убил какого побольше.
– Побольше – это как?
– С клыками фунтов на семьдесят. Ну, пусть немного меньше.
– Вижу, мы с вами не во всем согласны. И все же, какая радость встретить человека из блестящего окружения прежнего «Квершнитта»! Расскажите о Джойсе – какой он? Мне не хватило денег на его книгу. Синклер Льюис – ерунда. Я купил его книги. Нет, не надо, ничего не говорите. Расскажете мне завтра. Ничего, если я разобью лагерь поблизости? Вы здесь с друзьями? А белый охотник у вас есть?
– Я здесь с женой. Мы будем вам рады. Да, с нами один белый охотник.
– А почему вы сейчас без него?
– Он считает, что на куду надо охотиться одному.
– Лучше на них вообще не охотиться. А он кто? Англичанин?
– Да.
– Проходимец?
– Нет. Хороший человек. Вам понравится.
– Ну, вам пора. Я не должен вас задерживать. Может, завтра увидимся. Удивительно, что мы встретились.
– Да, – сказал я. – Завтра надо хорошенько проверить грузовик. Мы можем что-нибудь еще для вас сделать?
– Да нет, спасибо. Спокойной ночи, – сказал он. – Счастливого пути.
– Спокойной ночи, – отозвался я. Мы отъехали, и я видел, как он пошел к костру, делая на ходу знаки туземцам. Я не спросил, зачем ему потребовалось двадцать туземцев, не спросил также, куда он едет. Поразмыслив, я понял, что вообще ничего о нем не узнал. Не люблю задавать вопросы: там, откуда я родом, это считается невежливым. Но здесь мы не видели ни одного белого уже недели две – с тех пор как покинули Бабати и двинулись к югу, и вдруг на богом забытой дороге, где можно встретить – и то случайно – только индийского торговца или переселенцев из голодных районов, я сталкиваюсь с колоритным мужчиной в тирольском костюме, словно сошедшим с карикатуры Бенчли[7], и тут оказывается, что он знает твое имя и величает поэтом, читает «Квершнитт», поклонник Иоахима Рингельнаца, хочет говорить о Рильке – ну, не фантастика?! И словно в довершение этой необыкновенной истории автомобильные фары осветили три конусообразных дымящихся холмика на дороге. Я велел Камау остановиться, и тот, резко затормозив, чуть не въехал в них. Они были в два-три фута вышиной, и, коснувшись одного, я ощутил тепло.
– Тембо, – сказал М’Кола.
Только что перешли дорогу слоны, и на холодном вечернем воздухе от их помета поднимался пар. Прошло немного времени, и мы уже были в лагере.
На следующее утро я встал рано и еще затемно был у другого солонца. Пробираясь сквозь деревья, мы увидели самца куду, при нашем приближении он издал громкий звук, похожий на собачий лай, только более высокий и хриплый, и бесшумно исчез. Некоторое время спустя далеко в кустах послышался треск, но самого зверя мы больше не видели. Незаметно подойти к месту было практически невозможно. Деревья плотно окружали солонец, теперь уже звери были как бы в укрытии, и, чтоб добраться до них, приходилось идти по открытому месту. Единственное, что оставалось, – это подползти в одиночку поближе и на расстоянии двадцати метров отыскать среди переплетенных сучьев просвет, достаточный для выстрела. Правда, оказавшись под защитой деревьев, вы были надежно укрыты, а пришедший к солонцу зверь, напротив, оказывался на открытом месте, откуда до ближайшего укрытия было метров двадцать пять. Мы ждали до одиннадцати, но никто из зверей так и не появился. Тогда, аккуратно притоптав землю вблизи солонца, чтобы в следующий раз увидеть новые следы, мы пустились в обратный путь и шли до дороги две мили. Зная, что их выслеживают, звери приходили сюда только по ночам и оставались до рассвета. Один самец задержался, мы его утром спугнули, что окончательно спутало карты.
Уже десятый день мы выслеживали крупных антилоп, но я до сих пор не видел ни одного достойного экземпляра. Оставалось всего три дня: к нам на север с Родезии шли дожди, и, чтобы не пережидать здесь плохую погоду, до прихода дождей следовало оказаться в Хандени. Мы постановили, что 17 февраля – крайний срок для отъезда. Теперь каждое утро небо, прежде чем очиститься, не менее часа оставалось нависшим и хмурым, и мы ощущали скорое приближение дождей так явственно, словно читали прогноз синоптиков.
Приятно выслеживать нужного зверя, когда у тебя достаточно времени – пусть он умудряется перехитрить тебя, обмануть, и в конце каждого дня ты остаешься с носом, но охота продолжается, и, проигрывая, ты знаешь, что это только начало и удача в конце концов улыбнется тебе и подарит шанс, которого ты так долго ждешь. Плохо, когда ты ограничен во времени, и, если не успеешь сейчас прикончить куду, ты можешь никогда его не убить, а то и не увидеть. Это уже не охота. Положение как у мальчишек, которых посылают на два года в Париж, чтобы они преуспели как писатели или художники, и если за это время они ничего не добьются, то пожалуйте домой – в отцовский бизнес. Настоящий охотник будет ходить с ружьем, выслеживая зверя, пока его носят ноги и пока на земле существуют звери, так же как настоящий художник будет рисовать всю жизнь, если есть краски и холст, а настоящий писатель – писать всю жизнь, были б только карандаши, бумага и чернила или машинка, на которой можно работать, и тема, которая его волнует, – иначе, кроме как дураком, его не назовешь. Но сейчас нас поджимало время года, да и просто время, деньги тоже были на исходе, и то, что могло быть ежедневным удовольствием вне зависимости, приходил ты с трофеем или нет, превращалось в изощренную пытку: необходимость делать что-то наспех, в невозможно короткий срок. Поэтому, поднявшись за два часа до рассвета и вернувшись в полдень ни с чем, зная, что до отъезда остается всего три дня, я занервничал. И тут за столом под обеденным тентом я увидел оживленно болтающего Кандиски в тирольских штанах. Я совсем забыл о нем.
– Привет, привет, – поздоровался он. – Опять ни с чем? Неудача? А где же куду?
– Махнул хвостом и был таков, – сказал я. – Хелло, девчонка.
Жена улыбнулась. Но выглядела она озабоченной. Они оба с рассвета прислушивались, не раздастся ли выстрел. Слушали напряженно все это время – и когда подъехал наш гость, и когда писали письма, и когда читали, и когда Кандиски снова вернулся и стал болтать.
– Так вы его не убили?
– Нет, даже не видел. – По Старику было заметно, что он тоже встревожен и даже слегка нервничает. До моего прихода здесь явно был серьезный разговор.
– Выпейте пива, полковник, – сказал он мне.
– Одного мы спугнули, – стал я рассказывать. – Возможности стрелять не было. Следов там порядочно. Но больше никто не появлялся. Дул слишком сильный ветер. Спросите у проводников.
– Я уже говорил полковнику Филипу, – начал Кандиски, слегка переместив на стуле свой обтянутый кожей зад и закинув одну вспотевшую, волосатую ногу на другую, – что задерживаться вам здесь нельзя. Поймите, грядут дожди. Если польет, на двенадцать миль вокруг будет сплошное месиво. Вы не пройдете.
– Да, он это говорил, – подтвердил Старик. – Кстати, называйте меня просто мистер Филип. Военные звания мы тут используем как прозвища. Если вы сами полковник, прошу не обижаться. – И обращаясь ко мне: – Плюньте на эти солонцы. В другом месте вы скорее подстрелите куду.
– Да, солонец вносит смуту, – согласился я. – Кажется, что там шансов больше – вот-вот и кто-то подвернется.
– Попробуйте поохотиться на холмах.
– Хорошо, попробую.
– Почему вы придаете такое значение убийству одного куду? – спросил Кандиски. – Не относитесь к этому так серьезно. Пустяки. За год вы настреляете их штук двадцать.
– Лучше не говорите такое чиновникам, выдающим лицензии, – сказал Старик.
– Вы меня неправильно поняли, – возразил Кандиски. – Я только говорю, что это возможно. Разумеется, никто такого не захочет.
– Конечно, – согласился Старик. – Если живешь в стране, где водятся куду. На этих просторах живут крупные антилопы, которых и называют куду. Только, когда их ищешь, они почему-то пропадают.
– Как вы понимаете, я никого не убиваю, – сказал Кандиски. – А почему бы вам не поинтересоваться жизнью туземцев?
– Мы интересуемся, – заверила его моя жена.
– Они очень любопытный народ. Послушайте… – И Кандиски углубился в беседу с ней.
– Вот ведь в чем дело, – сказал я Старику. – Когда я брожу по холмам, то уверен, что эти твари внизу, у солонца. Самки сейчас на холмах, но что-то не верится, что самцы тоже там. И следов много вечером на солонце. Видно, что они ходят туда. И, возможно, в самое разное время.
– Может, вы и правы.
– Я не сомневаюсь, что туда ходят все новые самцы. И, возможно, не каждый день. Некоторые, конечно, стали осторожнее: ведь Карл одного убил. Жаль только, что он уложил куду не с первого выстрела, а долго преследовал того чуть ли не по всей округе. Никогда у него не получается как надо. Ну ладно, придут другие куду. Надо только их подстеречь. Не все ведь разобрались, в чем дело. Но Карл, конечно, устроил переполох.
– Он очень эмоциональный, – сказал Старик. – Но парень славный. Помните, как красиво он сразил леопарда? Лучше никто бы не выстрелил. Подождем, скоро куду успокоятся.
– Правильно. На самом деле я на него не сержусь.
– А что, если просидеть в укрытии весь день?
– Когда поднялся чертов ветер и начал кружить, он разнес наш запах повсюду. Какой смысл тогда там сидеть? Вот если бы ветер стих. Абдулла взял сегодня с собой банку с золой.
– Я видел.
– Когда мы подошли к солонцу, было полное затишье. И свет уже пробился – можно стрелять. Абдулла всю дорогу сыпал золу, проверяя, есть ли ветер. Я взял только Абдуллу, остальных оставил на дороге. Мы шли очень тихо, ботинки у меня на каучуковой подошве, и земля там мягкая. Но этот проклятый самец все-таки учуял нас на расстоянии пятидесяти метров.
– Вы разглядели его уши?
– Разглядел ли уши? Да если б я их разглядел, его бы уж давно освежевали.
– Вот твари! – сказал Старик. – Терпеть не могу охоту у солонцов. Эти куду не так уж умны. Просто вы охотитесь на них там, где они настороже. Их всегда там бьют – с тех пор как солонцы существуют.
– Это мне по душе, – признался я. – Мог бы ходить туда хоть месяц. Мне нравится охота в засаде. Сидишь – не потеешь. Только ловишь мух и скармливаешь муравьиным львам. Неплохо. Вот только время теряешь.
– Вот именно. Время.
– Это вы обязательно должны увидеть, – говорил между тем Кандиски моей жене. – Большие барабаны нгомы, пляски туземцев на праздниках. Это подлинное национальное искусство.
– Послушайте, – сказал я Старику. – Тот вчерашний солонец мне кажется самым надежным, только вот чертова дорога проходит рядом.
– Охотники говорят, что туда ходят небольшие куду. Да и место далекое. Восемьдесят миль туда и обратно.
– Знаю. Но я там видел следы четырех крупных самцов. И если бы не грохот грузовика… Может, засесть там сегодня ночью? Проведу там ночь и утро, и если все зря – больше туда ни ногой. К солонцу ходит и большой носорог. Следы огромные.
– Что ж, – отозвался Старик. – Пристрелите заодно и носорога. – Старик ненавидел ненужные убийства, эффектные убийства, убийства ради убийства; он признавал право убивать зверя, только когда страсть охотника сильнее его отвращения к смерти или когда тот хочет стать первым в своем мастерстве. А предложение убить носорога он сделал из желания доставить мне удовольствие.
– Убью, если только он того стоит, – обещал я.
– Ладно, убейте подлеца, – сделал мне подарок Старик.
– Эх, Старик, – только и сказал я.
– Убейте, – повторил Старик. – Встреча один на один доставит вам удовольствие. А рог продадите, если он вам не нужен. По лицензии вам можно убить еще одного.
– Ага, – влез в разговор Кандиски. – Продумали план кампании? Придумали, как лучше обмануть бедных животных?
– Вот именно, – сказал я. – Что с вашим грузовиком?
– Ему конец, – ответил австриец. – И я даже этому рад. Слишком много всего мы с ним перевидали, он уже стал символом. Грузовик – все, что осталось от моей шамбы. Теперь нет ничего, и так намного проще.
– А что значит «шамба»? – спросила моя жена. – Я уже несколько месяцев слышу это слово, но стесняюсь спросить. Вроде все его знают.
– Это плантация, – объяснил Кандиски. – От нее остался только этот грузовик. На нем я перевожу работников на шамбу одного индийца, очень богатого, который выращивает мексиканскую агаву[8]. Я у него управляющий. Он извлекает хорошую прибыль из этой плантации.
– Как и из всего остального, – уточнил Старик.
– Да. Там, где мы проиграем, где нас ждет голод, он сумеет нажиться. Этот индиец умный человек. И ценит меня. Я представляю для него европейскую организацию и сейчас возвращаюсь после набора местных рабочих. Это требует времени, но внушает уважение. Я три месяца не видел свою семью. Но теперь дело сделано. Я мог бы управиться за неделю, но тогда впечатление было бы уже не то.
– А где ваша жена? – спросила его моя жена.
– Она вместе с дочерью ждет меня дома, в помещении управляющего.
– Жена вас очень любит?
– Наверное, иначе давно ушла бы от меня.
– А сколько лет вашей дочери?
– Тринадцать исполнилось.
– Наверное, замечательно иметь дочь.
– Вы даже не представляете, как замечательно. Все равно что иметь вторую жену. Моя жена знает все мои мысли, слова, убеждения, все, что я могу или не могу сделать, все, на что я способен. Я тоже все знаю о своей жене. Но теперь появился кто-то, кого ты толком не знаешь и кто не знает тебя. Такая вот любовь с закрытыми глазами, и это удивительно для обоих. Появился кто-то чудесный – она твоя и одновременно чужая, что делает наши разговоры… как бы это сказать? Похоже на то, что употребляете вы оба… все будто приправлено томатным кетчупом «Хайнз».
– Звучит неплохо, – сказал я.
– У нас есть книги, – продолжал Кандиски. – Книжные новинки мне теперь не по карману, но мы всегда можем поговорить. Обмениваемся интересными мыслями – у нас всегда содержательные беседы. Мы обсуждаем все на свете. Абсолютно все. Интеллектуальная жизнь у нас на высоте. Раньше, когда у нас была шамба, мы выписывали «Квершнитт». Это давало нам чувство причастности к блестящей группе необыкновенных людей. Тех, кого хотелось бы повидать, будь это возможно. Вы ведь знаете этих людей? И даже, наверное, с ними знакомы.
– С некоторыми действительно встречался, – ответил я. – С кем-то в Париже, с кем-то в Берлине.
Мне не хотелось разрушать иллюзии этого человека, поэтому я не стал рассказывать в деталях об этих «блестящих» людях.
– Они потрясающие, – солгал я.
– Как я вам завидую, что вы с ними знакомы, – восхитился Кандиски. – А кто, на ваш взгляд, сейчас лучший американский писатель?
– Мой муж, – с готовностью ответила жена.
– Понимаю, в вас говорит семейная солидарность. А кто в самом деле? Уж конечно, не Эптон Синклер и не Синклер Льюис. Кто ваш Томас Манн? Кто ваш Валери?
– У нас нет великих писателей, – ответил я. – Что-то происходит с нашими писателями, когда они достигают определенного возраста. Я мог бы попробовать это объяснить, но разговор получится долгий и вам наскучит.
– Объясните, пожалуйста, – взмолился Кандиски. – Я обожаю такие разговоры. Они самое лучшее, что есть в жизни. Игры ума. Это тебе не куду убить.
– Я еще даже не начал говорить, – сказал я.
– А я уже весь в нетерпении. Хлебните пива, это развяжет вам язык.
– Он у меня и так развязан, – возразил я. – Куда уж больше. А вот вы совсем не пьете.
– Я вообще не пью. Плохо для мозгов. В этом нет необходимости. Но рассказывайте же! Пожалуйста!
– Ну, в Америке были замечательные писатели, – сказал я. – Например, Эдгар По. Замечательный писатель, блестящий мастер композиции, но его рассказы мертвы. Были у нас и мастера риторики, они могли кое-что рассказать о живых, настоящих вещах, извлекая их из биографий людей, путешествий, ловли китов, к примеру, но все это тонет в риторике, как сливы в пудинге. Иногда встречаются куски прозы, свободные от риторики, и тогда это здорово. Такое есть у Мелвилла. Однако поклонники восхваляют его именно за риторику, а она у него не главное. А еще ищут мистику, которой просто нет.
– Понимаю вас, – сказал Кандиски. – Но риторика создается работой интеллекта, его способностью творить. Риторика – синие искры от динамо-машины.
– Бывает и так. А иногда синие искры существуют, а в чем работа динамо-машины?
– Ясно. Продолжайте.
– Забыл, на чем остановился.
– Ну уж нет. Перестаньте валять дурака.
– Вы когда-нибудь вставали до рассвета и…
– Да каждый день, – сказал Кандиски. – Продолжайте.
– Хорошо. Были еще другие, которые писали как колонисты, сосланные в Новый Свет из Англии, хотя та не была им родиной. Прекрасные люди с узкой, сухой и благородной мудростью унитариан[9], литераторы, квакеры, но не без чувства юмора.
– И кто это?
– Эмерсон, Готорн, Уиттьер и другие. Эти наши ранние классики не знали, что новая классика не обязательно похожа на ту, что ей предшествовала. Она может использовать все лучшее, что сделано раньше, помимо классиков. Все так и поступают. Некоторые писатели рождаются только для того, чтобы помочь другому написать одну-единственную фразу. Но нельзя заимствовать приемы или быть похожим на предыдущего классициста. Это табу. Все эти писатели, о которых я вам рассказываю, были джентльменами или стремились ими казаться. В высшей степени респектабельные люди. Они не употребляли слов, которыми люди обычно пользуются в каждодневной речи, тех слов, что постоянно живут в языке. Казалось, эти люди лишены плоти. Но интеллект у них был, с этим не поспоришь. Первостепенный, сухой, очищенный от примесей интеллект. Все это довольно скучно, но вы ведь сами просили меня об этом.
– Продолжайте.
– В то время жил один писатель, который, похоже, был по-настоящему хорош. Его фамилия Торо. Боюсь, не смогу много о нем рассказать: я еще не удосужился его прочесть. Но это неважно: я могу читать натуралистов, только если их произведения скрупулезно точны и не грешат литературщиной. Натуралисты должны работать в одиночку, а сопоставлять их открытия должны другие. И писателям нужно работать в одиночку. Общаться им можно только после того, как работа закончена, – и то не часто. Иначе они станут такими же, как их коллеги в Нью-Йорке, – точь-в-точь червяки для наживки, набившиеся в бутылку: там они крадут друг у друга идеи, получают питание от общения и бутылки. Иногда бутылка – это изобразительное искусство, иногда – экономика, а то и религиозная экономика. Тот, кто угодил в бутылку, навсегда остается в ней. Вне бутылки такие люди чувствуют себя одинокими. А они не хотят быть одинокими. Им страшно остаться наедине со своими убеждениями, и ни одна женщина не полюбит их настолько, чтобы в ней удалось утопить это одиночество, или вместе слиться с ним, или пережить вдвоем то, что сделает все остальное не важным.
– Ну а как же Торо?
– Вам нужно его прочесть. Может, и я прочту – только со временем. Со временем я смогу делать все, что захочу.
– Выпей еще пива, Папа.
– Пожалуй.
– Ну а кто все-таки хорошие писатели?
– Хорошие писатели – это Генри Джеймс, Стивен Крейн и Марк Твен. Порядок перечисления тут не важен. Они все замечательные. У хорошего писателя нет порядкового номера.
– Марк Твен – юморист. А остальных я не знаю.
– Вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена – «Приключения Гекльберри Финна». Если придется ее читать, остановитесь на том месте, где у мальчишек крадут негра Джима. Это и есть настоящий конец. Все остальное – выдумка. Но лучше книги у нас нет. Из нее вышла вся американская литература. До нее ничего похожего не было. Да и после – тоже.
– Ну а те, остальные?
– У Крейна есть два замечательных рассказа: «Шлюпка» и «Голубой отель». Последний – лучше.
– А что с ним было потом?
– Умер. Ничего удивительного – он умирал с самого рождения.
– А остальные двое?
– Они дожили до преклонного возраста, но с годами мудрее не стали. Трудно понять, к чему они по-настоящему стремились. Ведь мы, американцы, творим с нашими писателями черт-те что.
– Не понимаю вас.
– Мы разрушаем их самыми разными способами. Во-первых, воздействуем экономически. Писатели начинают зарабатывать реальные деньги. Поначалу это связано с везением, хотя хорошие книги всегда в результате приносят доход. С деньгами наши писатели начинают жить на широкую ногу, и вот тут они оказываются в ловушке. Теперь им приходится писать, чтобы поддерживать определенный уровень жизни, содержать жен и все в таком роде. И тут вылезает халтура. Это происходит не специально – просто писатель теперь пишет второпях. Пишет, когда нечего сказать, когда на дне колодца – ни капли. Ведь в нем говорит честолюбие. Раз предав себя, он старается оправдаться и увязает еще глубже, выдавая новую порцию халтуры. А бывает еще так: писатели начинают читать критику. И если ты веришь, когда тебя называют великим, то веришь и тогда, когда говорят, что ты исписался, и все это кончается потерей веры в себя. У нас есть сейчас два хороших писателя, которые ничего не пишут, изверившись в себе из-за критиков. Продолжай они работать, что-то из написанного было бы у них хорошо, что-то – не очень, что-то – совсем плохо, но то, что хорошо, осталось бы в литературе. Однако, начитавшись критических статей, они решили, что из-под их пера должны выходить только шедевры. Не хуже тех, которые, по уверениям критиков, они создавали раньше. Конечно, и те книги не были шедеврами, но это были достойные книги. А теперь они вообще не могут писать. Критика обрекла их на творческое бесплодие.
– А кто эти писатели?
– Их имена вам ничего не скажут. Кроме того, вдруг за последнее время они что-то написали, опять испугались и обессилели.
– Что же все-таки происходит с американскими писателями? Объясните точнее.
– О прошлом мне рассказывать трудно, тогда меня еще и на свете не было, а сейчас случается разное. В определенном возрасте писатели-мужчины превращаются в Матушек Хаббард[10], а писатели-женщины становятся Жаннами д’Арк, но без ее победного духа. Эти люди претендуют на роль духовных вождей. И неважно, кто их последователи. Если таковых не находится, их придумывают, и тем, кого избрали на эту роль, бессмысленно протестовать, иначе их назовут предателями. А, черт возьми! Чего только не случается с нашими писателями. И это еще не все. Есть такие, которые надеются своими сочинениями спасти душу. Ищут легкого пути. Кого-то губят первые деньги, кого-то – первая похвала, кого-то – первая разгромная рецензия, кого-то страх, что перестала идти работа, а ничего другого он делать не умеет. Бывает, что с испугу они вступают в разные организации, надеясь, что там позаботятся о них. Некоторые просто не знают, чего хотят. Генри Джеймс хотел разбогатеть, но и ему это, конечно, не удалось.
– А вам?
– Меня интересуют другие вещи. Жизнь у меня сложилась неплохо, но если я не пишу, то не получаю радости от всего остального.
– А что вам нужно?
– Писать настолько хорошо, насколько могу, и постоянно продолжать учиться. И еще жить полной жизнью, той, которая приносит мне радость.
– Вроде охоты на куду?
– Да, охоты на куду и много чего другого.
– А чего – другого?
– Много всего – разного.
– А вы знаете, что вам нужно?
– Да.
– И вам действительно доставляет удовольствие ваше теперешнее бессмысленное занятие – охота на куду?
– Не меньше, чем посещение Прадо.
– Вам это кажется равноценным?
– Мне нужно и то и другое. И еще много чего.
– Естественно. Так и должно быть. Но неужели это занятие что-то дает вам?
– Несомненно.
– И вы знаете, что вам нужно?
– Конечно. И всегда получаю это.
– Такие удовольствия требуют денег.
– Я их всегда могу заработать, а еще мне везет.
– Тогда вы счастливчик.
– Пока не думаю о других людях.
– Выходит, вы думаете о других?
– Да, думаю.
– Но ничего для них не делаете?
– Абсолютно ничего.
– Совсем ничего?
– Ну, может чуть-чуть.
– А как вы думаете, стоит вам писать – по большому счету?
– Да.
– Вы в этом уверены?
– На все сто.
– Такая уверенность радует.
– Еще как! – сказал я. – Это одна бесспорная радость в нашем писательском труде.
– Ваша беседа становится чрезмерно серьезной, – вмешалась жена.
– Но тема действительно серьезная.
– Вот видите, к каким-то вещам он относится серьезно, – сказал Кандиски. – Я чувствовал, что ему не только куду интересны.
– Сейчас каждый готов отрицать важность этого вопроса, избегают даже разговоров на эту тему, а если кто-то все же пытается что-то делать, уверяют, что он ничего не добьется. А все потому, что добиться чего-то стоящего здесь очень трудно. Тут должны сойтись несколько факторов.
– Вы это о чем?
– О том, как можно писать. О том, насколько значительной может быть проза, если пишешь серьезно и тебе везет. Тут можно достичь и четвертого и пятого измерений.
– Вы действительно в это верите?
– Я это знаю.
– А если писателю такое удастся?
– Тогда ничего больше не имеет значения. Ничего важнее этого писатель сделать не может. Конечно, можно и провалиться. Но шанс на успех есть.
– Вы, наверное, говорите о поэзии.
– Нет. То, о чем я говорю, сложнее поэзии. Такой прозы еще нет. Но написать ее можно – без ухищрений и вранья. Без всего того, что со временем портится.
– А почему никто ее не написал?
– Тут много причин. Во-первых, нужно обладать талантом, большим талантом. Таким, как у Киплинга. Еще самодисциплиной, как у Флобера. Потом четким представлением о том, чего ты хочешь добиться, и совестью абсолютной, как эталон метра в Париже, чтобы не впасть в фальшь. Писатель должен быть также умным и бескорыстным и иметь достаточно сил, чтобы выжить. Попробуйте найти все в одном человеке, который к тому же смог бы противостоять всем влияниям, которым подвергается писатель. Самое трудное: ведь времени так мало – это выжить и довести работу до конца. Хотелось бы иметь у нас такого писателя и прочесть написанное им. Ну как? Не поговорить ли нам о чем-нибудь другом?
– Мне интересно вас слушать. Конечно, я не со всем согласен.
– Естественно.
– А буравчик[11] вам не поможет? – спросил Старик.
– Нет, назовите мне сначала те конкретные вещи, которые губят писателя.
Я устал от этого разговора, который уже превращался в интервью. Ладно, пусть будет интервью, и покончим с этим поскорее. Попытка втиснуть перед ланчем тысячу неуловимых вещей в одно предложение была самоубийственной.
– Политика, женщины, спиртное, деньги, честолюбие. А также отсутствие политики, женщин, спиртного, денег и честолюбия, – ответил я глубокомысленно.
– А он проясняет обстановку, – сказал Старик. – Только вот спиртное. С ним непонятно. Пьянство всегда казалось мне глупым занятием. Я считаю это слабостью.
– Глоток спиртного – хорошее завершение дня. Тут есть свои преимущества. Неужели вам никогда не хотелось изменить привычки?
– Так выпьем, – сказал Старик. – М’Венди!
Старик только по ошибке мог выпить перед завтраком, и я понял, что он хочет прийти мне на помощь.
– Давайте все выпьем по буравчику, – сказал я.
– Я никогда не пью, – отказался Кандиски. – Лучше пойду к грузовичку, вытащу свежее масло и принесу его к завтраку. Дивное масло из Кандоа, несоленое. Пальчики оближешь. А вечером мой повар приготовит нам десерт по-венски. Он у него прекрасно получается.
Когда он отошел, жена сказала мне: «Ты что-то сегодня предался глубокомыслию. И что ты там говорил о женщинах?
– О каких женщинах?
– Ты о них говорил.
– Да черт с ними! – сказал я. – Это те женщины, с которыми связываешься в пьяном виде.
– Ах вот, значит, как ты пьяный проводишь время.
– Да я не о себе.
– Я вот ни с кем не связываюсь, когда напиваюсь.
– Потише, потише, – сказал Старик. – Никто из нас никогда не напивался до чертиков. Однако наш гость отчаянный болтун.
– Однако он и слова не мог вставить, когда заговорил бвана М’Кумба.
– У меня случился словесный понос, – признался я.
– А как быть с грузовиком? Можно его вытянуть, не погубив наш?
– Думаю, да, – сказал Старик. – Когда наш вернется из Хандени.
За завтраком под зеленым обеденным тентом, в тени большого дерева, овеваемые ветерком, когда мы наслаждались свежим маслом, котлетами из мяса газели Гранта, картофельным пюре, зеленой кукурузой и консервированными фруктами на десерт, Кандиски рассказал нам, почему здесь много переселенцев из Восточной Индии.
– Видите ли, во время войны сюда перебросили индийские войска, чтобы избежать на родине еще одного мятежа. Ага-хану[12] обещали, что после войны индийцам разрешат тут свободно селиться и вести дела. Нарушить обещание нельзя, и теперь индийцы практически вытеснили отсюда европейцев. Они живут здесь чуть ли не впроголодь, а все деньги отсылают в Индию. Накопят деньжат и возвращаются на родину, а вместо них приезжают бедные родственники и продолжают эксплуатировать эту страну.
Старик молчал. Он никогда не позволял себе спорить с гостем.
– Это все происки Ага-хана, – сказал Кандиски. – Вы американец. Вам не понятны эти ходы.
– Вы воевали под командованием фон Леттова[13]? – спросил его Старик.
– С самого начала кампании и до конца, – ответил Кандиски.
– Настоящий храбрец, – сказал Старик. – Он вызывает у меня восхищение.
– Вы тоже воевали?
– Да.
– А у меня он не вызывает восхищения, – сказал Кандиски. – Да, генерал сражался как лев. Когда был нужен хинин, он приказывал добыть его у противника. Подобный приказ он отдавал, когда мы испытывали нужду в провианте и снаряжении. Но в мирное время все мы перестали для него существовать. После войны я оказался в Германии. Поехал навести справки о возмещении убытков. «Вы австриец, – сказали мне. – Обращайтесь к австрийским властям». Тогда я отправился в Австрию. «А зачем вы вообще воевали? – спросили меня. – Мы не несем ответственности за ваши действия. А вдруг вам захочется повоевать в Китае. Это ваше личное дело. Мы ничем не можем вам помочь». «Но я действовал из патриотических побуждений, – глупо оправдывался я. – И потому сражался где мог, ведь я австриец, и у меня есть представление о долге». «Все это прекрасно, – сказали мне. – Но мы не можем оплачивать ваши благородные чувства». Меня посылали из одного кабинета в другой, но я так ничего и не добился. И все же я люблю эту африканскую страну. Я все здесь потерял, но приобрел больше, чем кто-либо в Европе. Мне здесь все интересно – и туземцы, и их язык. Я уже исписал несколько блокнотов. И, кроме того, в действительности я здесь король. И это приятно. Утром, проснувшись, я протягиваю ногу, и бой сразу же натягивает на нее носок. Потом протягиваю вторую ногу, и повторяется то же самое. Я вылезаю из-под москитной сетки, и мне тут же подают штаны. Что может быть лучше?
– Да. Замечательно.
– Когда вы приедете в следующий раз, мы поедем с вами изучать жизнь туземцев. Но никаких убийств, разве только для пропитания. А сейчас я покажу вам один местный танец и спою песню. – Пригнувшись к земле, поднимая и опуская локти, с согнутыми коленями, он стал кружить вокруг стола, что-то напевая. Зрелище было любопытное.
– Это один танец из тысячи, – сказал он. – А теперь мне пора идти. Вам надо поспать.
– Это не к спеху. Останьтесь.
– Нет. Вам действительно стоит отдохнуть. Да и мне тоже. Я захвачу масло, положу его на холодок.
– Увидимся за ужином, – напутствовал его Старик.
– А сейчас спите. До встречи.
Когда он ушел, Старик сказал:
– Что-то не верится тому, что он тут наплел про Ага-хана.
– Похоже на правду.
– Конечно, он обижен, – прибавил Старик. – На его месте каждый был бы обижен. Фон Леттов был сущий дьявол.
– Он очень неглуп, – сказала моя жена. – И так хорошо говорит о туземцах. А вот американские женщины ему не нравятся.
– Мне тоже, – подтвердил Старик. – Он хороший человек. А вам и в самом деле надо вздремнуть. Ведь выезжать надо около половины четвертого.
– Велите меня разбудить.
Моло приподнял задник палатки, подпер его колышками, чтобы было больше свежего воздуха, и я улегся с книгой. Легкий, прохладный ветерок ворвался внутрь нагретого брезентом пространства.
Я проснулся перед самым отъездом. Небо затянули дождевые тучи, было очень душно. В ящик из-под виски нам положили консервированные фрукты, пятифунтовый кусок жареной говядины, хлеб, чай, небольшой чайник, несколько банок сгущенного молока и четыре бутылки пива в придачу. Кроме того, нам дали брезентовый мешок с водой и подстилку, которую можно было использовать как тент. М’Кола положил в машину автомат.
– Не торопитесь возвращаться, – сказал Старик. – Мы будем ждать сколько надо.
– Идет.
– Этого парня мы отправим на грузовике в Хандени. А его люди пойдут впереди пешком.
– А грузовик не подведет? Не берите в расчет, что он мой знакомый.
– Надо помочь ему отсюда выбраться. Грузовик доставят к вечеру.
– А Мемсаиб еще спит? – спросил я. – Может быть, она захочет прогуляться и пострелять цесарок?
– Я проснулась, – послышался голос жены. – Не думай о нас. Надеюсь, сегодня вам повезет.
– Не посылайте за нами людей до послезавтра, – сказал я. – Если дела пойдут хорошо, мы задержимся.
– Удачи!
– Счастливо оставаться, дорогая. До встречи, мистер Дж. Ф.
2
Ничего хорошего (суахили).
3
Господин (суахили).
4
Писатель (нем.).
5
Иоахим Рингельнац (1883–1934) – немецкий писатель, поэт-сатирик, артист и художник.
6
«Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» (1906) – прозаическое произведение Райнера Марии Рильке (1875–1926) – одного из самых влиятельных поэтов-модернистов ХХ в. Родился в Праге, писал по-немецки.
7
Роберт Бенчли (1889–1945) – американский журналист и карикатурист, был известен своим едким юмором.
8
Из листьев мексиканской агавы вырабатывают сизаль – натуральное грубое волокно.
9
Унитарианство – движение в протестантизме, отвергающее догмат о Пресвятой Троице.
10
Персонаж английских детских стишков, суетливая, нелепая старушка; авторство стихов приписывается Саре Кэтрин Мартин (1768–1826).
11
Коктейль из джина и сока лайма.
12
Ага-хан (1877–1957) – основатель и первый президент индийской Мусульманской лиги. Всю жизнь боролся за независимость Индии, отстаивал также национальные интересы Пакистана.
13
Пауль Эмиль фон Леттов-Форбек (1870–1964) – германский генерал-майор, командовал германскими войсками во время Африканской кампании в Первой мировой войне.