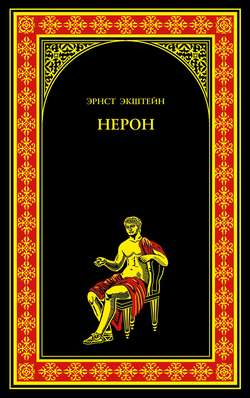Читать книгу Нерон - Эрнст Экштейн - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Глава I
ОглавлениеТри солдата римской городской префектуры вели по Кипрской улице пленника. Молодому человеку двадцати трех лет был вынесен смертный приговор: рука палача должна была обезглавить его, а затем закопать на выгоне, где погребали преступников.
Прохожие, встречавшие конвоиров и их жертву, останавливались и смотрели им вслед. Бледное, но, однако, решительное лицо несчастного возбуждало участие к нему даже в легкомысленных римлянах. Казалось, внезапное сострадание овладело этим народом, на глазах которых каждый год тысячи гладиаторов истекали кровью и умирали на арене цирка и который считал лучшей на свете музыкой предсмертные хрипы жертв. Женщины особенно сокрушались о красивом Артемидоре. Правильные, словно высеченные из мрамора черты лица, темные, мечтательные глаза с черными ресницами, благородный лоб и роскошные волосы – все в нем напоминало величавого Нехо, жреца бога Пта, очаровывавшего знатных римлянок как своим прорицательским искусством, так и своей привлекательной наружностью.
Артемидор был также уроженец Востока. Он родился в далеком Дамаске, был куплен в Иерусалиме сенатором Флавием Сцевином и вместе с ним прибыл в семихолмный город. Скоро получив свободу, он служил своему бывшему господину казначеем, чтецом и библиотекарем и сделался уже почти его доверенным во всем, когда внезапно неожиданный переворот разрушил мирное течение его жизни и бросил его во власть ищеек.
Чем ближе становилась плаха, к которой солдаты вели юношу, тем медленнее и тяжелее двигался он, и начальник конвоя должен был не раз обращаться к нему со строгими упреками.
Был чудный октябрьский день. Рим казался плавающим в жидком золоте. Красная листва винограда, с видневшимися из-под нее темными гроздьями, одевала стены садов или вилась вокруг развесистых вязов. Улицы дышали весельем и свежестью. Мужчины, приободрясь, расправляли плечи, а женские лица сияли особенной красотой и привлекательностью.
Так по крайней мере казалось бедному осужденному, который скоро должен был расстаться с этим прекрасным миром.
Куда девалось его равнодушие к смерти, еще так недавно наполнявшее его сердце, подобно предвкушению лучшего, недоступного человеку бытия?
Взглянув на колеблющиеся от ветерка пурпурные лозы, он вспомнил красивую девушку, стыдливо зардевшуюся, когда однажды он украшал ее таким венком в блаженном уединении тенистого парка, принадлежавшего его господину.
– Хлорис! Хлорис! – со страстной мукой вздохнул он.
Какое несчастье, что образ возлюбленной предстал перед ним как раз в то мгновение, когда он нуждался в непреодолимой силе духа и презрении к жизни, чтобы показать, с какой радостью и светлой надеждой последователь Сына назарянского плотника идет по стопам своего Спасителя.
Как ни старался он забыть о прошлом, оно вставало перед ним во всем блеске минувшего счастья.
Он увидал Хлорис лишь несколько недель тому назад в доме Кая Кальпурния Пизо, где она играла на девятиструнной гитаре и пела радостную любовную песнь Алкея. Это было ее первое появление в полной опасных соблазнов столице и в то же время ее первый триумф. Все рукоплескали ее мастерской игре и чудному голосу.
Находившийся в свите своего господина, Флавия Сцевина, Артемидор был очарован и с этого мига мысль о ее любви не покидала его.
Но рядом с этой мыслью, у него возникла другая, более возвышенная: спасение ее души! После незабвенного мгновения, когда он впервые поцеловал ее уста, в нем возгорелось страстное желание спасти погибавшую. В глазах верующего юноши она должна была погибнуть, если ему не удастся просветить ее небесной истиной, открытой Иисусом Христом.
И Артемидор с таким же рвением старался овладеть ее душой, с каким он раньше добивался ее сердца.
К сожалению, его усилия были напрасны.
Хлорис знала жизнь только с ее лучшей стороны. Мир представлялся ей душистым увеселительным садом, предназначенным исключительно для счастья и наслаждений. Верная своей природе, гречанка пугалась всего сурового и мрачного; учение Христа, требовавшее воздержания, отречения от земных благ, было недоступно ей, проникнутой лучезарным культом древнегреческих богов. Прекрасная певица пожимала плечами, улыбалась, наконец, объявила Артемидору, что он ей надоел и, после долгого неприятного спора, на все его доводы решительно произнесла с насмешкой: «Никогда!»
После этого «никогда», он в гневе оставил возлюбленную. Гнев его был направлен не на нее, – ведь она неповинна в том, что злой дух так опутал ее безрассудное сердце, – но на коварство старых богов, сохранивших еще такую власть даже над самыми чистыми и благороднейшими из смертных, несмотря на пришествие Спасителя.
Вот что было причиной его осуждения на позорную смерть: обвинение в хуле на государственную религию…
Но, быть может, постигшее его несчастье было наказанием, ниспосланным на него единым истинным Богом? Быть может, Он хотел уничтожить его за упорство в любви к насмешливой Хлорис?
Все эти мысли беспорядочно толпились в его мозгу и, задыхаясь, он боролся с охватившими его чувствами. Он попытался молиться.
– Блаженны гибнущие за учение Христа, – дрожащими губами прошептал он и замолк.
Солнечные лучи золотым потоком заливали дорогу, в лицо ему пахнул благоуханный ветерок и, громче всяких спасительных истин, в замиравшем от страха сердце его раздался вопль:
– Горе твоей цветущей юности!
Сияющая вокруг него теплом и жизнью природа еще сильнее обостряла сознание грядущей участью.
«Умереть так, вдали от нее!.. – беспрерывно проносилось в его пылающей голове. – Вдали от нее, вдали от нее!..
Да, неумолимое Божество осудило его на величайшую из земных мук – глубокое отчаяние. Если бы он мог взглянуть в последнюю минуту в глаза возлюбленной, какое это было бы утешение! Но умереть так, – значило умереть еще заживо!
«Вдали от нее! – звучало кругом него. – Вдали от нее!» Колени его подкосились и в глазах потемнело.
– Не шатайся! – сказал начальник конвоя. – Если уж ты должен умереть, то умри как мужчина!
Артемидор взял себя в руки. Слабость его прошла. Он перевел дух и спокойно и твердо пошел дальше.
Конвой свернул влево, по юго-восточному направлению от Кипрской улицы, и здесь их окружила такая густая толпа мужчин и женщин, по большей части бедно одетых, что стражники вынуждены были остановиться на несколько минут.
– Артемидор! – со всех сторон раздались голоса. – Будь тверд, Артемидор! Прощай, Артемидор! Не забывай твоих друзей! Молись за нас перед престолом Всевышнего!
Иные хватали связанные руки юноши и целовали их, другие торжественно затягивали жалобные гимны, в которых имя Иисус произносилось с особенным чувством.
Сквозь толпу протеснился высокий и худой пятидесятилетний человек, широкое, блестящее золотое кольцо которого выдавало его принадлежность к благородному сословию.
– Позволишь ли ты мне, – обратился он к старшему конвойному, – прежде чем свершится судьба, еще раз обнять осужденного?
Солдат нахмурился. Такое множество сочувствующих Артемидору, очевидно, внушило ему некоторое сомнение, и он не осмеливался грубо отказать этому мрачному человеку с величаво и грозно закинутой за плечо тогой.
– Поторопись! – нерешительно отвечал он. – Хоть я сотворен не из камня и железа, но если префект узнает об этом, мне будет худо.
– Никодим! – прошептал Артемидор, в то время как друг целовал его в лоб. – Какая страшная участь!
– Мужайся, сын мой! Будь тверд до конца! Твой поступок, может быть, безрассуден и опрометчив, но он тем не менее благороден. Счастливая юность не знает, что спокойная рассудительность ведет к цели гораздо вернее, нежели гнев и увлечение!
– Ты прав, – отвечал Артемидор. – Вы все смотрели в будущее с такими радостными надеждами, что, быть может, мне, как одному из младших, не подобало это… Но Хлорис, заслуживающая ненависти, возлюбленная Хлорис всему виной с ее ужасным неверием. Я почти лишился рассудка. Все мои убеждения были тщетны! И когда, возвращаясь от нее, я увидал в атриуме отвратительных идолов с их насмешливыми улыбками…
– Молчи! Ты бездумно раздражал римское общество. Здесь никого не оскорбляют за веру. Мы можем и будем тихо и осторожно следовать по пути, ясному для последователей Евангелия. Только без бурь, без насилия! И ты, дорогой Артемидор, был бы участником с таким трудом составленного мной союза. Я не могу утешиться, теряя тебя.
Юноша выпрямился.
– Как? Ты сожалеешь обо мне? Но разве это не высшая божественная милость – победоносно умереть за учение Назарянина?
– Твой пример не пройдет бесследно, Артемидор, – успокоительно прошептал Никодим. – Но ты мог бы жить, жить…
Слова Никодима были прерваны внезапным смятением среди народа.
– Император! – раздались тысячи голосов, и все взоры обратились по направлению Porta Querquetulanа, откуда медленно приближались роскошные носилки с пурпуровым балдахином. Их несли на шестах из позолоченного кедрового дерева шестеро рослых, белокурых сигамбров в ярко-красных одеждах.
Широкие занавеси были отдернуты. На подушках восседала гордая, величественная женщина – Агриппина, мать императора, а возле нее юноша поразительной красоты, с большими, мечтательными глазами и полным, выразительным ртом.
Начальник конвоя вздрогнул, увидев его. Он знал, как неприятны были императору напоминания о всем том, что шло вразрез с его спокойным, ясным характером и в особенности, как его волновали суды и их жестокие последствия.
«Фаракс, ты попался! – сказал себе солдат. – Если префект узнает об этом, твоей спине придется испробовать лозы центуриона! Конечно, это только случайность, но слуга префекта расплачивается и за капризы судьбы…»
– Император! – вскричал Никодим. – Он пройдет в двух шагах от тебя! Проси помилования, Артемидор!
Толпа раздвинулась. Никодим схватил за руку молодую блондинку, с глубоким состраданием смотревшую на осужденного. Девушка вопросительно взглянула на него. В уме Никодима, должно быть, пронеслась блестящая мысль, потому что лицо его озарилось неожиданной радостью, а почти торжествующее выражение губ, казалось, говорило: «Это удастся!»
Наклонившись к девушке, он быстро прошептал:
– Актэ, ты видишь! Само небо указывает нам путь! Если ты еще сомневалась в том, что план мой приятен Господу Иисусу Христу, то эта чудесная встреча должна убедить тебя. Слушай, чего я требую от тебя! По моему знаку ты выйдешь вперед, бросишься императору в ноги и спасешь отважного Артемидора!
– Я сделаю это! – отвечала Актэ. – Молись, чтобы цезарь внял мне!
– Надеюсь на это, – прошептал Никодим. – Только говори так же горячо и искренно, как ты чувствуешь! Ведь тебе жаль цветущей юности, которую безжалостно погубит топор палача?
Актэ молча вздохнула, пристально и робко смотрела она в пеструю толпу.
«Как она прекрасна и молода! – подумал взволнованный Никодим. – Другой такой нет в целом Риме… Это должно удаться, непременно должно!»
– Да здравствует император! – раздавалось все ближе и ближе. К этим крикам теперь присоединились звучные голоса конвойных, римлян и большей части назарян. – Честь и слава императору! Да здравствует Клавдий Нерон, отрада человечества!
Император сделал знак своим сигамбрам, и носилки остановились. После бури приветственных криков, на которые Нерон отвечал приветливым движением руки, наступило полное безмолвие.
– Вот несчастный! – обратился он к Агриппине. – Позволишь ли, дорогая мать, спросить у солдат, какое его преступление?
– Делай, как желаешь, – отвечала императрица. – Властителю мира несомненно подобает вникать даже в мелочи, встречающиеся на его пуги.
– Мелочи? – усмехнулся Нерон, смотря в глаза матери. – Человек в цепях; на его лице отразились страдание и отчаяние… Нет, дорогая мать, ты говоришь так не от сердца! Неужели достоинство императора требует такого же невнимания к несчастью его подданных, какое можно оказать участи вот этой розы, падающей из твоих прекрасных волос?
И изящным жестом он поправил цветок, выскользнувший из-под блестящей диадемы, которая удерживала огненно-красное покрывало Агриппины.
– Кого ведете вы и в чем провинился он? – благосклонно продолжал Нерон, обращаясь к начальнику конвоя.
– Повелитель, – ответил солдат, – это отпущенник Флавия Сцевина.
– Как? Нашего друга, вечно юного сенатора?
– Его самого.
Нерон пристально посмотрел на юношу, стоявшего с опущенными глазами.
– В самом деле, я узнаю его… Это Артемидор, который однажды в парке развертывал перед нами рукописи Энния… Флавий Сцевин так расхваливал тебя, твои качества и ум. А теперь я не понимаю!
– Повелитель, – снова заговорил солдат, – он осужден законом. Один из рабов застал его поносящим домашних богов и затем свергнувшим их с цоколей.
– Артемидор, – обратился Нерон к юноше, – правда это?
Осужденный поднял свое прекрасное, бледное лицо с лучезарным взором.
– Да, повелитель, – твердо отвечал он.
– Знал ли ты, – со спокойной строгостью продолжал император, – что оскорбление домашней святыни наказуется смертью?
– Смертью, в смысле закона – да!
– Что же побудило тебя презреть этот закон?
– Любовь к истине.
– Каким образом?
– Ваши лары и пенаты ложные божества, я же верую в истинного Бога, о котором учил Иисус Христос.
– Ты назарянин?
– Да, повелитель!
– Это было известно твоему высокому покровителю Флавию Сцевину?
– Да, повелитель!
– Он преследовал тебя за это?
– Нет, повелитель.
– Так веруй во что ты хочешь и предоставь другим веровать, во что они хотят. Согласен ты со справедливостью этого требования?
– Иисус Христос завещал нам распространять спасительное Учение и бороться против ложных богов.
– Пусть так! Борись – но только духом! Можно ли убеждать поднятыми кулаками? И разве брань – философский аргумент? Поистине, ты заслужил твое наказание, Артемидор…
Лицо старшего конвойного выразило огорчение. Он был почти уверен, что Клавдий Нерон своей императорской властью отменит исполнение приговора. В этом случае, лоза центуриона, естественно, должна была спокойно оставаться в шкафу. Вместо этого, против всякого ожидания, цезарь одобрял и находил заслуженной казнь, казавшуюся варварской и устарелой даже самому Фараксу и его товарищам! Дело принимало неприятный оборот.
Между тем, повинуясь знаку Никодима, из толпы стремительно выбежала Актэ и упала на колени перед носилками императора. С невыразимой грацией подняв цветущее личико к властителю мира, она воскликнула, вложив в свою мольбу все чары женского обаяния:
– Помилования, повелитель! Помилования моему брату!
Молодой император с изумлением и удовольствием смотрел на стройную фигуру девушки, устремившей на него страстно молящий взгляд. Сама императрица-мать не могла подавить мимолетного сочувствия к ней, и на суровом, гордом лице ее мелькнула мягкая улыбка.
– Я так и думал, – сказал тронутый император. – Тот, у кого есть такая прелестная сестра, может поступать дурно вследствие необдуманности или заблуждения, но не может быть дурным человеком.
Он забылся на несколько мгновений, наслаждаясь ее красотой, а потом, схватив руку Агриппины, заговорил с пафосом театрального актера:
– Третьего дня был день твоего рождения! Я обыскал всех ювелиров среди двух миллионов населения этого города, чтобы создать нечто, достойное тебя! Но нашел одну лишь эту жалкую диадему. Драгоценная сама по себе, она все-таки давит твою божественную голову подобно обручу из коринфского металла. Теперь судьба посылает мне высший дар! Во славу твоего дорогого имени, возлюбленная мать, я пользуюсь своим правом освобождения и прощения.
Он приказал конвойным подвести осужденного к носилкам, между тем как Актэ удалилась, бросив на императора горящий, полный признательности взгляд.
– Ты слышал, – произнес Нерон, – я дарую тебе помилование! Отведите его обратно в дом Флавия Сцевина и передайте о происшедшем моему превосходному другу! Скажите, что я прошу его посадить преступника в заключение на восемь дней. Тебе же, юноша, советую быть благоразумнее и осторожнее! Повторяю: если римские боги кажутся тебе призраками, то поклоняйся Изиде или Гору, или кому знаешь, но обуздай твой невоздержный язык и не оскорбляй чувств квиритов!
Губы юноши дрогнули, будто, несмотря на милость императора, он все-таки хотел возражать ему, но сдержавшись, он скрестил на груди руки и едва слышно произнес:
– Благодарю, повелитель.
Солдаты префекта с обрадованным Фараксом во главе, тотчас сняли с него цепи. С этой минуты с ним начали обращаться вежливо и почтительно, и Фаракс поздравил его крепким рукопожатием.
В доме Флавия Сцевина освобожденный встретил восторженный прием: весть о милости к нему императора еще раньше долетела сюда. Сцевин лично принял его в остиуме. Раб же, с такой поспешностью донесший о неосторожном поступке Артемидора, уже за несколько дней перед тем был подарен кому-то впавшим в глубокое огорчение сенатором.