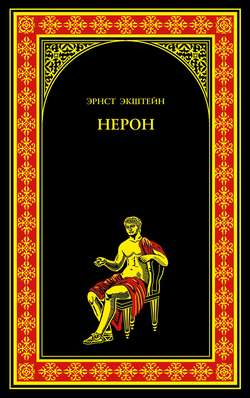Читать книгу Нерон - Эрнст Экштейн - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая
Глава IV
ОглавлениеПоспешно протиснувшись сквозь толпу, Актэ вышла из палатки, незамеченная Никодимом. Ее влекло непреодолимое стремление остаться в одиночестве под впечатлением удивительной встречи.
При мысли о том, как ее господин будет расспрашивать ее, как начнет со всех сторон истолковывать каждое слово, сказанное императором, ею овладевал несказанный страх. Ей казалось, что чужая, бесчувственная рука будет рыться в ее драгоценнейших сокровищах. Прежде чем это случится, она хотела хоть короткое время быть их единственной обладательницей, хотела без помехи насладиться только что пережитым и собраться с мыслями.
Почти полчаса ходила она по отдаленным окраинам Марсова поля, с сомнением поглядывая на перстень, надетый на ее палец. Все это казалось ей сном.
На ее руке перстень с императорской печатью, данный ей самим всемогущим цезарем! Не походило ли это на сказку древних пелазгов? В те далекие времена, облеченные эфирным светом Уранионы спускались к дщерям человеческим и приносили небесные громовые стрелы к ногам пастушек Эты. Но здесь, в этой действительности шумного Рима, где повсюду раздавалось вовсе не сказочное бряцанье преторианского оружия, здесь, на берегу Тибра, где все дышало такой новой, полнокровной жизнью – это было непостижимо!
Взор ее устремился в сторону Вечного города…
Несмотря на прозрачность октябрьского дня, южный горизонт подернут был красноватой дымкой. Вдали виднелись залитые солнцем храмы Капитолия; справа от него высились башни Палатинума, резиденция цветущего юноши, властителя всего этого необозримого моря построек, всей Италии, всего мира, – властителя, так горячо, любовно, безгранично доверчиво говорившего с ней, рожденной рабыней!..
Она вздохнула.
– Если бы он был одним из этих жалких рабов, таскающих камни для строительства! – печально думала она. – Я отдала бы все, что имею, за его выкуп; я работала бы целые годы, если бы имущества моего было мало для этого, а потом…
Она закрыла глаза.
Тихий голос внезапно произнес ее имя.
Перед ней стоял человек лет около сорока, в одежде вельможи, с видимым усилием старавшийся придать ласковое и приветливое выражение своим сверкающим серым глазам.
– Актэ, – сказал он, – ты бродишь одна, подобно тоскующей Деметре. Смеет ли новый друг предложить тебе свое сопровождение?
– Господин, я не знаю тебя.
– Этому легко помочь. Мое имя, полагаю, окажется тебе менее чуждым, чем мое лицо. Я Паллас, доверенный императрицы.
– Паллас! – вскричала она с испугом, точно совесть ее была не совсем чиста. – Имя это всем известно и… страшно.
– Оно должно быть страшно только тем, кто не оказывает моей повелительнице должного почтения, не признает мудрости ее действий, противится ее славным целям, или каким-нибудь иным способом грешит против божественной императрицы. Я возвысился милостью Агриппины; благодаря ей я достиг своего настоящего положения, но признательность и верность я все-таки считаю высшими добродетелями!
В глубокой задумчивости смотревшая на перстень императора, Актэ внезапно откинула со лба свои чудные волосы и почти смело спросила:
– Откуда знаешь ты меня и что нужно тебе?
– Я видел тебя недавно, когда цезарь помиловал отпущенника Флавия Сцевина. Я был во главе императорской свиты.
– Да? Я не заметила тебя.
– Это не очень лестно. Но ты была так поглощена своими мыслями, что я прощаю твою невнимательность. Быть может, мне понравилось именно твое увлечение. Ты показалась мне олицетворением сладкого спокойствия посреди вечно мятущейся столицы. Короче: ты очаровала меня…
– К чему говоришь ты мне это?
– Странный вопрос! К чему амфоре говорят о жажде? Я люблю тебя, Актэ, и молю богов, чтобы они расположили ко мне твое сердце.
– Мольбы твои напрасны, – отвечала девушка. – Я не могу любить. На такой вздор у меня нет ни склонности, ни уменья.
– Ты называешь вздором блаженнейшую и единственную отраду жизни? Актэ, Актэ, что говоришь ты? Ты не можешь любить с твоими мечтательно-страстными глазами и прелестными устами, созданными для сладких поцелуев? Обманывай кого-нибудь поглупее меня!
– Я не могу любить, – печально повторила она. – А если бы и могла, то неужели ты думаешь, что я согласилась бы опозорить себя?
– Опозорить? Разве любовь Палласа позорна?
– Для тысячи других, наверное, нет. Поверь, несмотря на мою молодость, я знаю свет и его порочность. Я знаю, как думают римляне о девушках-отпущенницах, знаю, что имя это почти равнозначно разврату и легкомыслию… Многие, очень многие почли бы себя счастливыми разделить свой грех с тобой; ты могуществен и богат, и на возлюбленной Палласа должен отразиться блеск правящего миром добра. Я же презираю подобное возвышение, которое в действительности есть только позор, презираю потому, что прежде всего отвращение к таким поступкам лежит у меня в крови, а к тому же Иисус Христос Назарянин, которому я предана всем сердцем, завещал нам добродетель и чистоту мыслей в жизни.
Паллас помолчал.
– Ты не сказала мне ничего нового, Актэ, – медленно произнес он наконец. – Можно было сразу догадаться, что девушка, просящая помилования назарянину, сама назарянка. Никодим подтвердил мне это. Мне известно также твое отношение к нему; его я знал, встречаясь с ним иногда у Сенеки… Итак, твое гордое возражение меня нисколько не удивляет, но в то же время и не убеждает.
– Почему?
– Потому что ты отвергаешь то, чего не испытала, Актэ! Я вижу тебя в третий раз. Третьего дня, в доме Никодима, я имел полную возможность наблюдать за тобой… Невидимый тобой, я стоял в таблинуме с седоволосым чудаком. Подобно молодой лани двигалась ты по каменным плитам; ты говорила с рабами и для каждого находила приветливое слово; ты поливала осенние розы, кормила голубей зерном и хлебными крошками; один луч присущего твоей душе света ты уделила даже на долю старой больной собаки, лежавшей у бассейна и при виде тебя завилявшей хвостом. Тогда я решился при первом же случае сказать тебе, как я завидую животному, находящемуся в блаженной близости от тебя; сказать тебе… Но что с тобой?
– Ничего, ничего! – с трудом произнесла Актэ. – Пустая мысль… воспоминание… – Она закрыла глаза рукой. Теперь, когда она поняла, что Паллас говорил ей об истинной, настоящей любви, вдруг с поразительной ясностью и живостью перед ней возник образ цезаря в ту минуту, когда он в первый раз восхищался ее красотой; и вместе с этим образом в душе ее поднялась такая сладко-мучительная боль, что она едва удержалась на ногах. Она скоро оправилась, и Паллас с возрастающим жаром продолжал:
– Надеюсь, не мои слова испугали тебя? Или я слишком увлекся? Но в моем возрасте уже не тратят на ухаживанье недели и месяцы. Говорю прямо: Паллас, доверенный императрицы, страшный Паллас, как ты сама назвала его, – хочет иметь тебя своей женой. Слышишь, Актэ? Законной женой, а не любовницей! Что ты ответишь ему?
– Что я благодарю его, – опустив глаза, прошептала она, – и прошу простить меня, если я все-таки отвечу – нет.
– Ты говоришь в лихорадочном жару!
– Нисколько, господин! Именно ясность моих мыслей и придает мне мужество отказаться от этой чести. Такая девушка, как я, не подходит знатному вельможе…
Он покачал головой и положил правую руку на плечо Актэ, устремив сверкающий взор на ее дрожавшую от волнения стройную фигуру.
– Должен ли я сказать тебе, что ты несомненно подходишь мне? Должен ли я унизиться перед тобой? Разве тебе не известно, что я сам рожден несвободным? Антония, мать императора Клавдия, много лет тому назад подарила мне свободу и собственными усилиями я занял положение, которому теперь завидует весь Рим: поверенного божественной Агриппины.
– Да, я знаю, – возразила девушка. – Тем не менее нас разделяет бездна. Какую жалкую роль стала бы я играть в блестящем обществе Палатинума? При одной этой мысли у меня кружится голова.
– Ты не можешь бояться сравнения ни с кем.
– Нет, нет, мне страшно подумать об этом. И к тому же, господин, ведь я уже сказала тебе, что у меня есть душа и нет сердца. Я тебя не люблю, а сделаться твоей женой без любви – значило бы обмануть тебя.
Паллас нахмурился. Он не ожидал такого прямого отказа, и гордость его была уязвлена.
– Девушка, – сказал он, помолчав, – ты поступаешь, как безумная. Я держал в моих объятиях дочерей сенаторов, не особенно церемонясь, а ты отказываешься разделить мою жизнь и положение как моя законная жена? Твое ребяческое упорство так же безумно, как моя неслыханная решимость жениться на тебе. Но я не могу изменить этого: ты очаровала меня с первого взгляда и теперь, когда вместо того, чтобы отдаться мне со слезами благодарности, ты отвергаешь меня, я еще яснее чувствую, что не в силах отказаться от тебя. Подумай, Актэ! Поверенный императрицы ведь не первый встречный, и тот, кто не умеет схватить свое счастье, когда оно само дается в руки и, быть может, всю жизнь будет оплакивать это легкомысленно пропущенное мгновение. Итак, пока прощай! На большой дороге меня ждет моя свита.
И многозначительно склонив голову, он исчез за миртовой изгородью. Между тем уже вечерело. Час ужина давно миновал. Массы оживленно двигавшихся по широким аллеям носилок и пешеходов исчезли, и наступившая тишина, заменившая этот шум, ощущалась еще явственнее при горячем, красно-золотистом вечернем освещении.
Акта незаметно дошла до Элийского моста; пройдя по выложенному мрамором боковому настилу, она достигла средины моста и остановилась, опершись о перила. Отсюда, с вершины главной арки, ежегодно бросались в воду сотни людей, которым наскучила жизнь, потерявшая для них всякий смысл или изнемогших в непрерывной борьбе с судьбой… Внизу со страшно-заманчивым рокотом шумели и пенились желтоватые волны, вздымались и падали, подобно мерному дыханию живого существа. Одна за другой вырывались они из-под квадратных опор моста и, постепенно успокаиваясь, катились дальше, сливаясь наконец в однообразной глади широкой реки.
– Как это утешает! – прошептала Актэ, подпирая лоб ладонью. – Волны приходят и уходят, и даже самые бурные из них все-таки сглаживаются и мирно текут в море!
Долго в раздумье смотрела она на одно место, где около устоев выше всего взлетали пенистые, крутящиеся струи, пока наконец ей почудилось, что она и мост бесшумно и гладко поплыли назад. Это было невыразимо сладкое, дремотное ощущение, так же благодатно освежившее ее потрясенную недавними событиями душу, как глубокий сон освежает утомленное тело. Солнце уже зашло, когда Актэ вспомнила о своих обязанностях и направилась домой.
Повернув в юго-восточном направлении, минут через сорок она достигла Vicus Longus, «Длинной улицы», отделявшей виминальский холм от квиринальского.
На едва приметном косогоре первого из этих холмов возвышались красивые постройки дома Люция Никодима, который нисходя в четвертом поколении от лакедемонян, по своим нравам и обычаям был чистокровным римлянином.
Актэ боялась, что пылкий патрон встретит ее укорами за продолжительное отсутствие, так как еще недавно, верный священной суровости назарян, Никодим выговаривал ей за то, что она в сумерки стояла со служанкой в остиуме. К тому же нетерпеливое ожидание могло также раздражить его.
Но вместо этого при виде ее Никодим просиял. Он дожидался ее в атриуме и, встретив на пороге, провел мимо таблинума в перистиль. В столовой горели масляные лампы. Уже часа два тому назад окончился обед семьи, состоявшей из хозяина дома, его жены, дочери и семи бывших рабов и рабынь, освобожденных своим господином: учение Спасителя так резко противоречило идее рабства, что даже человек такого устойчивого характера, как Никодим, не осмеливался защищать учрежденного государством невольничества. К тому же все домочадцы были обращены и крещены им самим и уже поэтому он не мог оставить на них цепи, духовно разбитые таинством.
– Ты должна быть голодна, – с почти нежной заботливостью сказал он. – Вот идет Лесбия с блюдами. Она оставила для тебя горячее кушанье, Актэ. Ешь, пей, а потом рассказывай.
Актэ опустилась на край застольной софы, на которой Никодим всегда возлежал за обедом.
– Ешь, ешь! – ласково повторял он. – Ты, наверное, совсем измождена. И руки твои холодны, как лед. Вот чудесное везувианское вино… Я нарочно для тебя достал его из погреба… Оно оживит тебя, Актэ. У тебя такой утомленный вид.
– Действительно, я утомлена, – сказала она, поспешно поднося кубок к губам. – Прости, что я не тотчас вернулась с тобой из палатки египтянина…
– Напротив, – усмехнулся Никодим, – я благодарен тебе за то, что ты усердно и решительно принялась за предстоящее тебе святое дело. Я видел, как цезарь относился к тебе. Если ты будешь благоразумна, то Никодим и вместе с ним Божественный Галилеянин победят раньше, чем наступит второе полнолуние.
Все еще с трудом владевшая собой, Актэ печально покачала головой.
– Нет, господин! – глухо произнесла она. – Не сердись на меня, ради Господа Иисуса, но это невозможно…
– Что невозможно?
– Чтобы я… Чтобы я обратила императора Нерона.
– Ты уже обратила его, если только умело воспользуешься тем, что судьба дает тебе в руки. Он был олицетворением доброты и милости…
– Именно поэтому. Он даже пожал мне руки и предложил быть его дорогой сестрой…
– Что такое?
– Да, это были его собственные слова. Он также приглашал меня в Палатинский дворец и то, что я ему говорила, кажется ему точным отголоском его задушевных мыслей…
– Но ведь это поразительное торжество, Актэ! Это значит покорение Рима, водружение креста Господня на стенах Капитолия…
– Это конец наших радостных надежд, – прошептала Актэ. – Господин, я должна рассеять твое последнее сомнение: я не увижу больше императора!
– Ты помешалась, девушка?
– Слава Богу, нет! Давно уже я не находила в душе моей такой ясности, как теперь. Я буду откровенна и прямодушна, так как я многим обязана тебе. Ты не должен думать, что Актэ из одного лишь упрямства разрушает то, что ты задумал так умно и так благородно. Я… я…
Она запнулась. Лицо ее вспыхнуло жгучим румянцем стыда, между тем как Никодим смотрел на нее бледный и с раскрытым ртом.
– Я чувствую, – сказала она наконец, – что не могу выполнить назначенной мне тобой роли, не потеряв себя. Вы все утверждаете, что я умею убеждать лучше, чем наши красноречивейшие пресвитеры… Не знаю, ошибаетесь вы или нет, но мне ясно одно, что цезарь смотрел на меня иными глазами, чем кто-либо из всех обращенных мной в христианство…
– Ну что же следует из этого?
– Просто то, что он… Что он полюбил бы меня…
– Тем лучше!
– Нет, не лучше, потому что и я полюбила бы его. Да я его уже люблю, господин!
– Скоро же это сладилось! – злобно засмеялся тощий Никодим. – Но к чему мне твои глупые признания? Люби его сколько угодно, но исполняй свой долг распространения нашей божественной веры!
– На это у меня не хватает силы.
– Презренная! – вскричал Никодим. – Не завещал ли нам Христос отречься от всего мирского ради вечного спасения? Не повелевает ли Он умерщвлять нашу плоть и обуздывать греховные побуждения, отвращающие нас от стези праведности и добродетели?
– К этому-то я и стремлюсь, – возразила Актэ. – Если бы я хотела повиноваться моим желаниям, то теперь же пошла бы к нему… Быть с ним, в его объятиях, на его груди, полной таких возвышенных, прекрасных и благородных чувств, – вот к чему влечет меня моя греховная, попирающая всякие обязанности, воля. Но, так как последовав этому влечению, я погрузилась бы в бездну позора и унижения, то решение мое непоколебимо. Никакая земная сила не заставит меня вновь увидеться с человеком, близость которого грозит мне погибелью.
– Но если он сам прикажет тебе прийти?
– Скорее я умру, чем послушаюсь его. Цезарь властен над многим, но он не может помешать умереть тому, у кого на это хватит мужества.
Никодим сидел ошеломленный. Потом, внезапно протянув дрожавшие руки, он с рыданием воскликнул:
– Актэ! Во имя Спасителя, пролившего за нас Свою кровь, не упорствуй! Не разрушай идеи, величайшей со времени смерти Христа! Не разбивай будущности назарянства и его дивной, божественной, спасительной деятельности!
– Мир не может спастись грехом!
– Актэ! Могилой твоей матери, умершей в блаженном веровании в милость Господню…
– Могилой моей матери! – воскликнула тронутая девушка. – Твое упоминание об этой святой превращает мою твердость в непоколебимость!
– Так ты не хочешь? Несмотря на мои просьбы и на мои слезы?
– Нет, тысячу раз нет!
Лицо Никодима исказилось. С губ его готово было сорваться ужасное проклятье… Тонкие пальцы его сжимались, как когти хищной птицы, в груди клокотало, покрасневшие глаза метали полные демонической ненависти взгляды.
Но он мгновенно овладел собой и, еще дрожа, налил в чашу вино и выпил его сразу, как человек, умирающий от жажды.
– Ты не хочешь, – беззвучно сказал он, – но цезарь хочет… и Никодим также… пусть же мелкий камешек попробует задержать низвергающийся в долину великий обвал. Ты знаешь меня. Ступай спать, бедная дурочка! Завтра, быть может, к тебе вернется рассудок!
Он вышел из триклиниума; шаги его звучно отдались в колоннаде; дверь тихо скрипнула, и все замолкло.
Удрученная Актэ осталась одна в наполненной ароматом вина столовой. Угрозы ее господина с убийственной ясностью звучали в ее мозгу. Да, она его знала. Несмотря на всю его доброту и справедливость, он был способен на всякое насилие, если встречал противодействие тому, что он считал целесообразным и необходимым. Она сидела и думала. Все тяжелее и тяжелее давило ее предчувствие близкой беды.
Вдруг ей почудилось, что из глубины тускло освещенной столовой какой-то голос говорил ей: «Беги, беги, или ты погибла!»
Безумный страх овладел ею. Цезарь хочет… Никодим хочет… Но она не хочет и потому должна бежать… Одно только бегство могло спасти ее от греха, от борьбы с собственной слабостью и от злобы Никодима.
Тихо, как преступница, прокралась она в свою спальню. Дрожа всем телом и торопясь, точно спасение ее зависело от каждой тающей минуты, начала она собирать самые необходимые вещи. Золотую цепь, наследие матери, она надела на шею как талисман, накинула на себя плотную верхнюю одежду, затушила лампу и выскользнула из дома.
На утро испуганные домашние тщетно повсюду искали и звали Актэ. Постель ее оказалась несмятой; На двери была приколота полоска пергамента с короткой надписью: «Прощайте все!» Ни по малейшему следу невозможно было угадать, куда скрылась девушка. Никодим, терзаемый сомнением и угрызениями совести, молчал о происшествиях последних дней, и ничего не подозревавшая семья его терялась в догадках, отыскивая причины этого неожиданного бегства. Потеря общей любимицы была для всех большим горем. Ее невинная веселость радовала и веселила домочадцев Никодима; блестящие белокурые волосы ее как бы озаряли весь дом небесным сиянием; ее цветущая наружность, голос, звонкое пение – все это оставило за собой пустоту и сокрушение, подобное сокрушению внезапно ослепшего человека, для которого навеки угасло солнце… Никодим утешал горько плакавшую жену, говоря что-то сквозь зубы о «девичьих капризах», «экзальтации» и о том, что «она скоро возьмется за ум», а затем отправился в префектуру заявить о происшествии. Оказалось, что в отделении префектуры, куда он обратился с этой целью, по случаю оказался и Фаракс, начальник конвоя, который неделю тому назад вел на казнь осужденного Артемидора.
Они узнали друг друга. Услыхав в чем дело, Фаракс воспламенился. Он провел Никодима прямо к префекту и, говоря о милости, лично оказанной молодой девушке Клавдием Нероном, многозначительно заметил, что цезарь, наверное, огорчится, если беглянку постигнет какая-нибудь неприятность.
Префект протянул руку Никодиму.
– Мои военные и гражданские когорты обучены недурно, – сказал он. – Мы разыщем девочку, будь в этом уверен! Впрочем, я готов поставить на заклад моего лучшего скакуна, что раньше чем мы начнем серьезно выслеживать ее, она вернется сама!
Однако она сама не вернулась и когортам префекта также не удалось выследить ее.
Две недели разыскивали Актэ, прибегнув даже к помощи настоящих охотников за рабами, но все напрасно.
Нерон, снедаемый тайной тоской, как бы из участия к безутешному Никодиму назначил значительную награду за розыск девушки и приказал своим преторианцам оказывать всевозможную помощь городским когортам. Но наконец и он должен был примириться с мыслью, что прелестная, очаровательная Актэ, наполнившая его сердце такой божественной музыкой, исчезла навеки и бесследно.