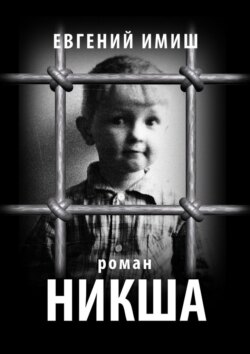Читать книгу Никша. Роман - Евгений Имиш - Страница 5
Глава IV
ОглавлениеСпустя много лет, уже на воле, я как-то натолкнулся в воспоминаниях Павла Флоренского на описание наждачного колеса и точильщика ножей. Увиденные глазами маленького мальчика и изображённые языком восторженного инока. Фонтан искр, бешено вращающийся камень, силуэт человека – бога, склонившегося над ним: «колесо Иезикиля», «огненные вихри Анаксимандра», «ноуменальный огонь» – картинка, которая невольно напомнила мне «механичку». Точно такими глазами я смотрел на механический цех, проходя сквозь него каждый день. Без метафизики, конечно, но с не меньшим ужасом и восторгом. Оглушительный скрежет, наполняющий пространство, звон металла, дым, искры и стружка, находящаяся повсюду, – огромные снопы разноцветного кучерявого железа или чёрно-фиолетовые осколки, рассыпанные на масленом полу. Всё это пугало и притягивало. Но главное – люди. Мне казалось, они не прозябают. Точат себе железо, окутанные дымом и пламенем, молчаливые, выносливые, и бесконечно далёкие от тюрьмы. Там и правда забывалось, что сидишь. Разговоры всё о станках, о поломках, резцы, пластины – работа тяжёлая, и во всей бригаде ни одного блатного, лишь работяги, в подавляющем большинстве своём и на воле фрезеровщики и токари.
И ещё. Помимо прочего, эта работа мне представлялась неплохой тренировкой. В цеху изготавливали флянцы и корпуса. Это такие штуки, использующиеся в трубопроводе. Флянцы, я знаю точно, мы потом из них делали блины для штанги, весили каждый около четырёх килограмм, а корпуса, детали, похожие на огромные катушки для ниток, были разными по размеру: самые маленькие – двадцать пятые, потом шли сороковые и пятидесятые. Последние, считай, два флянца плюс фигурная трубчатая ось, – где-то килограмм десять-двенадцать каждый. Поднял, зажал в патрон, обточил, сбросил, поднял, зажал в патрон, обточил, сбросил – целый день. Руки должны были превратиться в железные клешни. Я загорелся. Исполненный производственного рвения, романтизма и желания иметь возможность задушить обидчика одной рукой, я объявил Быковскому о своём решении стать токарем. Быковский обалдел. Будь я тогда попрозорливей, вполне мог бы увидеть впечатление от глупости, которую совершаю, в его изумлённых глазах. Добровольно туда никто не шёл, и Быковский, еле сдерживая смешок, пафосно меня нахваливал: «Молодец, ничего не скажешь, все бы у меня так»
С первого дня началась производственная комедия.
Бригадир подвёл меня к станку, за которым делали корпуса. Станок ревел, за ним стоял человек в защитных очках, жилистый мужичок наглого вида, и по-пижонски держал ногой «штурвал» задней бабки. Бригадир стал перекрикивать станок: «Ученика возьмёшь?» Мужичок неожиданно раздражённо заорал: «Да мне это надо! Мне сегодня ещё, – он кивнул на кучу сваленных рядом начатых корпусов: „задел“, приготовленный с прошлой смены. – Ты мне пластины дашь?»
(каждую смену бригадир разносил пластины – маленькие квадратные таблетки из победита. Ими собственно и делали большую часть операций. Они постоянно горели, ломались и считались большим дефицитом).
– Да ладно, ты ему только покажи, а я потом его поставлю на другой станок. Да дам, дам, – бригадир доверительно поморщился и замотал головой, показывая, что они обо всём договорятся. Мужичок показал мне, что и как крутить, и я мгновенно врубился.
– Ну вот, быстро въехал, вот и обдирай, скобы в бардачке, мы скоро придём, – мужичок, обращаясь к бригадиру, внезапно расцвёл в иждивенческой улыбочке: «А рукавички, а чифирнуть, а с конфеткой». И они ушли куда-то наверх, смеясь и обхаживая друг друга. Я остался наедине с этой гигантской «швейной машинкой».
Изо всех сил я зажал корпус в патрон, притянул заднюю бабку и, ногой налегая на «штурвал», прижал её к корпусу, поставил резцедержатель на небольшой размер в глубину, чтобы пластина не сгорела и не врезалась в металл, и – раз, снял с окружности один слой, раз – второй слой, третий. Я только переставлял размер, водил передней бабкой и радовался тому, что всё так просто. Через какое-то время я спохватился и полез за скобой. В бардачке их было несколько, и, взяв первую попавшуюся, я стал мерить. Скоба оказалась намного меньше уже ободранной мною окружности. Я поразился, сколько металла впустую превращается в стружку, и понял, что надо бы побыстрей, а то один конец корпуса придётся обрабатывать полсмены. Приналёг. Я уже освоился и машинально быстро менял размер и водил бабкой. Ржавая катушка вращалась в патроне зыбким коричневым облаком, только ободранная поверхность блестела серебряной полосой. Наконец скоба прошла и, как полагается, застряла на полном радиусе. Как раз пришли мои учителя, но почему-то по плечу меня никто не похлопал. Мужичок настолько был удивлён увиденным, что даже засомневался в том, что всё правильно понял. Он с ошалелым выражением приблизился к станку, заглянул в бардачок и внимательно осмотрел обработанный корпус: «Я чё-то не понял, ты чё сделал-то?» – он посмотрел на меня с жалостью и махнул бригадиру: «Глянь, я такое первый раз вижу» – покусывая сигарету, он выглядел озадаченным и серьёзным, но вдруг резко принялся хохотать, запрокинув голову. Бригадир ухмыльнулся, но как-то невесело. Он всмотрелся в меня и спросил: «Ты что, не видишь, это же пятидесятый корпус».
Тут у меня всё как-то прояснилось, очарование, как говорится, спало, и я отчётливо увидел нелепую и уродливую конструкцию, только что вышедшую из-под моего резца. Из патрона торчал большой пятидесятый корпус, соответственно, с толстой полой пятидесятой осью, и вся эта ржавая пятидесятая деталь неожиданно заканчивалась маленьким блестящим колёсиком под двадцать пятую скобу. Её-то я и нащупал в бардачке.
Таким образом, на корпусах я проработал один день.
Меня поставили на флянцы.
***
Вот будь я нормальным человеком, встал бы себе за один из почти тридцати станков, учился бы себе потихоньку, и никто не обратил бы на меня внимания. Но история с пятидесятым корпусом разошлась. Мне улыбались и ждали продолжения. Я не заставил себя ждать и уже «выступил» на флянцах.
Когда обрабатывается лицевая сторона, так называемое «зеркало», флянец вставляется в патрон плашмя. Он толщиной от силы сантиметра-полтора-два, то есть поверхность для кулачков, для зажима остаётся очень маленькая. Работать стараешься всё быстрей и быстрей, и вероятность того, что ты криво вставишь или неплотно зажмёшь, всё увеличивается и увеличивается, а на случай, если деталь вырвет из патрона, сзади и спереди стоят защитные железные щиты.
Но ведь сверху их нет. Меня вообще нужно было замуровать в железо. У меня этот самый случай произошёл дня через два. Флянец вырвало, но как-то по-особенному, на излёте, и он полетел навесом вперёд, высоко над защитным листом. А впереди работал Афганец, здоровый парень, чья макушка маячила передо мной каждую смену, выглядывая из-за этого бесполезного защитного щита. Четыре килограмма ржавой трубопроводной перемычки попали ему куда-то в область шеи…
– Да я-то тут при чём, ну вырвало так.
– Зажимать надо нормально.
– Да я вроде зажимал.
***
Примерно через неделю.
Флянцы обдирали не по одному, как корпуса, а сразу по несколько штук. Их надевали на специальную болванку и вставляли её в патрон. Передняя бабка при этом велась не вручную, а ставилась на автомат. Как-то зарядил я всё это дело, поставил на автомат и стою рядом, курю. Жёлтым, дымящимся ручейком бежит стружка, пластина сама гонит волну ржавчины. Я задумался.
Вдруг раздаётся скрежет, свист, стук, искры во все стороны. Не глядя на станок, я бегу прочь. Афганец, кстати, тоже.
Мы выбегаем на проход и с расстояния смотрим, что случилось. Я прозевал. Резцедержатель заехал в крутящийся патрон. Болванка в одну сторону, все резцы – в другую, стальная ручка резцедержателя намотана на него, подшипники, на которых он крутится, – вдребезги.
Все в цеху смотрят на меня со своих рабочих мест. Бригадир выбежал на балкон.
***
– Так это смотря куда попадёт, попадёт в голову, всё.
– Ну, это если рожу подставить, конечно.
– Ты вон Афганца спроси, как оно, а, Афганец?
Афганец застенчиво улыбается и потирает шею. Смотрит на меня и шутливо грозит пальцем: «Ты смотри, ручку-то доворачивай, а то точно с тобой тут копыта откинешь». Все смеются, а я, так же как Афганец, застенчиво ухмыляюсь.
– Нет, а чё, в натуре, может чердак снести, вон Аникей рассказывал, на этом же станке, – кивают в мою сторону, – парнишка работал, у него вырвало как-то, и в голову, так он выскочил на проход и на четвереньках до самой инструменталки скакал, как собака, там только затих, в шоке, прикинь.
Кто-то допил последний глоток чифиря, и все незатейливые члены моей бригады разошлись по своим местам.
Дня через три у меня снова вырвало флянец. На этот раз на расточке. После обработки «зеркала» (флянец, между прочим, становится ещё тоньше и зажим ещё ненадёжней) так же вставляют флянец плашмя и, заводя резцедержатель до предела, растачивают центральное отверстие. Эта операция делается на самых высоких оборотах, а самые высокие обороты на тех раздолбанных послевоенных станках, как сейчас помню, – семьсот семьдесят семь, Три красные семёрки на шкале переключения. Я нажал кнопку, станок заревел, патрон потерял свои очертания, и, не успел я направить резец, как блестящее пятно флянца исчезло из вида. Что-то под рукой щёлкнуло, и сзади раздался удар по листу железа. Задний защитный щит от удара упал на следующий станок, за которым работал Гаврила.
(Второй такой долговязый тип, наверное, на всей зоне. Если у Устина было два десять, то Гаврила казался даже выше за счёт своей большой головы).
Он выключил станок, поставил щит на место и подошёл посмотреть, что случилось. Флянец, пролетая у меня под рукой, срезал болт, держащий ручку передней бабки, срезал, словно это была кремовая розочка. Мы разглядывали и поглаживали утоплённый в металл остаток болта, серьёзно, с немым любопытством, как мальчишки – стреляную гильзу.
***
Мы с Петрухой возвращаемся с обеда. Вся рабочка завалена снегом, и от раскрытых дверей столовой веером протоптаны тропинки по цехам. Теперь, в сравнении со мной, Петруха выглядит свеженьким и чистеньким. Старая синяя роба, вся припорошенная голубой металлической крошкой, смотрится хорошо потёртой джинсой. На «игрушке» всегда тепло, и Петруха выскочил поесть в одном лепне и тапочках. Я же как из люка вылез. Чумазый, в телогрейке, роба так пропитана маслом, что лоснится и поблёскивает, как кожа.
Мы идём этой подтаившей тропинкой, как ходили зимой из столовой каждый день. И в этот раз, как и всегда, Петруха спросит: «Ну что ты такой кисляк смандячил?» А я буду жаловаться и ныть. Мол, выбиваюсь из сил, работаю в две смены, а эти чёртовы «железки» не даются. Ни черта не получается, даже норму, и ту через день делаю. А ведь честно хочу научиться, сосредотачиваюсь, как могу, у меня, мол, даже брошюрка имеется о токарном деле.
Петруха втягивает голову в плечи от холода и смеётся надо мной: «Может, тебе на гальванику пойти?» (работа ещё похлеще). Он издевается. Но без злости и напряжения. Видно, что ему спокойно и уютно рядом с моим мальчишеским сумасбродством.
Подходим к механичке. Там собралась куча народу, ворота распахнуты, и из них валит густой дым. Что-то горит. Обрадованный тем, что произошло нечто чрезвычайное, а значит, работа побоку, спрашиваю, что случилось.
– Да вот он, – заговорили все и принялись разглядывать меня, как только что разглядывали дым. – Иди к начальнику, он тебя ищет везде.
Вхожу в цех и вижу, как мой станок, словно паровоз, прибывающий на перрон, выдаёт из всех своих щелей и белые, и серые, и совсем уже катастрофически чёрные струйки дыма. В клубах этого дыма горланят и суматошатся «встречающие»: электрик, бригадир, начальник цеха. Все набрасываются на меня. Начальник, кстати, старший брат отрядника, тоже Быковский, тоже Алексеич, ведёт меня к себе в кабинет.
– Ты уже всех здесь достал, хватит, весь ремонт спишу на тебя.
– Да я-то тут при чём?
– Ты где был? Почему станок не выключил?
– Я выключил.
– Как же, выключил. Так, пиши объяснительную: ушёл с рабочего места и не выключил станок.
– Алексеич, да выключил я его, у нас обед был, откуда я знаю, что там произошло, с собой я этот станок буду носить?
– Резцы, аварии, брак гонишь, ты уже вот здесь у меня, всё, весь ремонт на тебя спишу…
Выхожу.
Петруха меня встречает до невозможности весёлый и довольный.
– Ну что?
– Да ну его, написал ему «самовозгорание». Как я забыл его выключить!
Петруха не переставал смотреть на меня насмешливо. Вся эта моя история с «механичкой» его здорово веселила. Особенно брошюрка о токарном деле.
***
Буквально на следующий день после пожара мы с Гаврилой разыграли немую сценку.
Голливуд, фирма «Кистоун», в ролях: Китон (это который «комик без улыбки) – конечно же Гаврила, он всегда был необыкновенно мрачен, и я – Чаплин, потому что такой же токарь, как Чаплин часовщик, боксёр и так далее.
Когда я в начале смены подошёл к своему станку, Гаврила уже работал. Его станок привычно тарахтел за моей спиной. Я зарядил опостылевшие флянцы, насадил пластину и тоже принялся работать. Через несколько минут после того, как я включил станок, откуда-то сзади повалил дым.
Это у Гаврилы что-то случилось со станком. Он выключил его и пошёл за электриком. Пока его не было, меня позвали чифирить. Постоял, поболтал, попил чаю, потом пошёл набрал из бочки ведро масла и притащил его к своему станку. Гаврила уже работал, не обращая на меня внимания. Я залил масло в чёрную дыру на поддоне и снова включил станок. Через несколько минут откуда-то сзади повалил дым.
У Гаврилы опять загорелся станок. Он, по-прежнему, не обращая на меня внимания, убежал за электриком. Я работал. Работал, работал, Гаврила с электриком что-то там копались, копались. Мне нужно было заточить резец, и я снова ушёл.
Наждак так и остался для меня «колесом Иезекиля» и «огненным вихрем Анаксимандра». То есть я так и не научился затачивать резцы и каждую смену ходил и просил кого-нибудь помочь. Таким образом, меня не было довольно долго, и, когда я вернулся, Гаврила спокойно точил свой флянец, видимо, разобравшись с поломкой. Я включил станок, и через несколько минут откуда-то сзади повалил дым.
Тут уже, отправляясь за электриком, Гаврила как-то задумчиво на меня посмотрел. Снова они копались, копались, а я работал и работал. Скоро привезли флянец, и я ушёл его набирать. Приволок целую кучу флянца, ссыпал его возле станка и краем глаза заметил, что Гаврила опять один, работает, но теперь как-то странно на меня смотрит.
Я включил станок, и через несколько минут откуда-то сзади повалил дым.
Получалось, что Гаврилин станок загорался ровно через несколько минут после моего появления. Теперь уже мы вдвоём пошли за электриком.
Мы пошли за ним, как за священнослужителем для изгнания нечистой силы.
***
Аникей из восьмого отряда был моим сменщиком, вторым человеком, работающим на этом станке. Вид он имел настоящего урки и напоминал мне Спицу. Все мы ходили лысыми. Он был как-то по особенному подчёркнуто лыс: низкий лоб, острые, торчащие уши, скулы, впалые щёки и неизменная круглосуточная улыбка, злобная и сверкающая золотыми зубами (этот тюремный смех, я думаю атавизм..У обезьян, например, то, что мы называем улыбкой, является проявлением агрессии и демонстрацией зубов). Он сидел уже больше десяти лет, его все знали, уважали, и ему многое сходило с рук.
Я часто видел, как бригада механички восьмого отряда выходит на работу: впереди кучкой прилежные работяги, сзади Аникей. Востроухий. Изогнул, как стервятник, шею, оскалился на все стороны и балагурит со встречными ментами. У вахты, перед распахнутыми воротами на рабочку, стоят два лейтенантика из ОТК. Совсем молодые, неловкие ребята. «Здорово, девчонки!» – кричит им Аникей, и они действительно, как две девочки, тушуются.
Водолаза он замучил до дрожи в коленках. Был у них в восьмом такой бригадир механички, пучеглазый, маленький человечек с патологической зависимостью от администрации. Практически штатный, официальный стукач, чьё рвение воспринималось уже просто психическим заболеванием как с той, так и с этой стороны. Говорят, опера гнали его с вахты, устав от мелочных и нескончаемых доносов.
Водолаза Аникей гонял пинками, рычал на него: «Ща ебубу», и Водолаз взвизгивал, и красная пучеглазость его наполнялась слезами. Однажды, где-то на складе в цеху, Аникей снял с него штаны «Ща ебубу»: «Кому сегодня стучал? Кого сегодня сдавал?». Водолаз орал как резаный но, оставаясь верным идее и преданным любимой администрации, тайны не выдал.
Естественно, всё это несерьёзно, ради прикола и Водолаз, зареванный и дрожащий, приносил своему мучителю пластины, рукавички, звал его чифирить, называя ласково по имени и подобострастно расспрашивая о пустяках.
Единственное, что не вязалось с образом Аникея, так это то, что он жил мужиком, работал на механичке, считался хорошим токарем и выдавал каждый день по полторы нормы. Но так было (рассказывали, что раньше он был блатным, мне об этом ничего не известно).
Многие годы он холил и лелеял свой станок. За несколько недель я превратил его в чёрт знает что. Я чувствовал себя рохлей и почти вандалом. Всю зиму жил в страхе перед разговором с Аникеем. Мне говорили: «Аникей хочет с тобой побазарить», «Аникей спустится к тебе в отряд», я сам, после очередного взрыва, думал: «Ну всё. Аникей меня убьёт», но ничего не происходило. В тот период я, дай Бог, раза два с ним поздоровался. Теперь я думаю, что вопреки своей рабочей репутации и, наверное, благодаря блатному прошлому Аникей был даже рад иметь такого сменщика, как я.
Иногда на станке я находил от него записки: «Убери станок», «Залей масло», «Почисти патрон». Последняя прекрасно запомнилась.
Я снял патрон, разобрал его и принялся чистить и мыть кулачки. Но, когда я его собрал, не без чужой помощи, конечно, он вдруг оказался сломанным. Неотцентрованным, каким-то покарёженным, кулачки не сходились, как полагается, слесаря, мне помогавшие лишь разводили руками и предлагали забрать его в ремонт дня на два. Так и вышло. И сейчас, мне кажется, Аникей знал об этом заранее. Заподозрил что-то в патроне или сам его долбанул и написал мне записку, зная, что после того, как разберу его я, никто не удивится, что патрон оказался непригодным.
***
Вот такая картинка.
По единственной протоптанной борозде в снегу я пробегаю сектор, откусывая на ходу горбушку хлеба. Вхожу в здание. В коротком коридорчике слева – большая дверь петушатника, на метлахской плитке жёлто-чёрная грязь и слякоть от нанесённого снега, а впереди умывальник с ржавыми кранами над облупленным жёлобом. Громко топаю, стряхиваю снег, вызывая брызги слякоти и эхо в умывальнике. Забегаю в него и ныряю в маленький проём, ведущий в туалет. Там такой же жёлоб, только ниже и без кранов, а напротив «подиум» из красной плитки с рядом пробоин, изманных говном и заваленных ворохом бумаг. Над жёлобом стоит несколько человек, я пристраиваюсь и отливаю, запрокинув голову, шумно дыша носом, с кляпом из горбушки хлеба во рту.
В то время я читал «Римскую историю» Момзена. Мне нравилось про пунические войны, переход Ганнибала через Перенеи, но в голове оставались одни фразы: «Народная масса была безнравственна и привыкла продавать свои голоса» или «Все слоны погибли от сырости и холода».
На днях Петруха рассказал, что, вернувшись из армии, переспал со своей первой любовью. До этого, мол, мучился, любил, а тут вдруг полегчало.
Через час надо будет выходить на работу. Может, хоть на этот раз удастся ничего не сломать и выполнить норму.
Заполненный этой всячиной, я застегнул штаны, закрыл дверь и уже было выбежал из умывальника, как услышал позади чей-то возглас. Я очнулся и понял, что влип.
Из умывальника выходил Комар, блатной восьмого отряда. Маленький и щупленький, как ребёнок. На нём мешком сидела роба, и на детской ручонке болтались огромные чётки. Лицо искривилось азартной ухмылкой: «Эй, биздюк, ну-ка подойти сюда, – он повнимательней рассмотрел то, что его заинтересовало: – А ну пошли, вот тебе раз, вот писдюки забурели»
Я уже всё понял и внутренне стал похож на тот подиум из красной плитки, только что мной виденный. Испугался страшно.
Комар завёл меня в каптёрку: «Чё это у тебя в руке, ты чё, вот так сышь и хаваешь одновременно, вот так балду подержал и поел, может, мою подержишь, тебе же, я смотрю, всё равно, ты по ходу привык так, что тюха в руке, что балда чья-нибудь, всё в рот тянешь, да?» – и так дальше. Комар наворачивал, наворачивал, пристально вглядываясь в меня и пытаясь понять, сколько я проглочу и насколько перспективен, как жертва. Тут надо было, как говорили, «откусываться», и я что-то такое промямлил, но Комар знал своё дело: «Кто гонит? Ты чё, писдюк, совсем берегов не видишь?» – и я получаю удар в челюсть.
Передо мной стоял маленький человечек, удар его был похож на женскую пощёчину, а я струсил, стерпел, рассудив (с перепугу, конечно), что если ввязаться в драку, то разборок не миновать, и я с этим хлебом, естественно, окажусь крайним. А так, может, и пронесёт.
И пронесло. Комар, к моему удивлению, вдруг заосторожничал, сбавил обороты и постепенно переходил к более мягким назидательным интонациям. Словно сам испугался. То ли собственной прыти, то ли моего вида (ха, ха, хотелось бы думать).
Комар исчез. Как будто и не было. Монте-Кристо, выдернутый из тёплого каземата и высеченный прилюдно, сидел в каптёрке и держал в руке кусок хлеба.
Весь день я точил флянец, как автомат, с остекленевшим взглядом. Всё думал. С одной стороны, я желал себе разных неприятностей в наказание за трусость, с другой – прикидывал, какими они могут быть и как их избежать. К вечеру Петруха, укутавшись в телогрейку, спустился с «игрушки». На фоне гари и ржавчины механички, он чистеньким, голубым пятном возник у моего станка и закивал на выход. Обычно в конце смены мы прогуливались на улице, ходили взад-вперёд вдоль длинной стены, отделяющей рабочку от жилой секции. Я рассказал всё, и Петруха остановился. Вся ирония с него сошла, и он испуганно на меня посмотрел: «Ну ты и скосячил!». Вновь заходил. Молчал довольно долго. Я попытался его развеселить: «Да ладно, Петруха, ничего не будет» – вышло почти что трагически.
Так прошёл вечер и весь следующий день. И только тогда Петруха подытожил: «Считай, что повезло, имели бы что-нибудь, давно подтянули»
***
К двенадцати часам ночи все станки замолкали, и народ бродил по проходу в ожидании «съёма» («Съём» – вывод с работы. Топчешься перед закрытыми дверями в душ, потом перед закрытыми дверями из душа – целое дело.) Мы с Гаврилой и ещё несколько человек, разбросанных по цеху, всегда оставались в ночь. Я, понятно, ничего не успевая за смену, а Гаврила расправляясь со временем, которым нас наказали. Прервав работу, пересменок мы проводили на «завалинке» за куревом, чифиром и болтовнёй.
Выглядел, надо сказать, Гаврила чудовищно. Наверное, всегда так, но тогда особенно. При своём росте он был неестественно худым и производил впечатление неживого человекообразного механизма. Нельзя было сказать, что он ходит или садится, скорее, передвигается, складывается, двигает коленными, бедренными и прочими суставами. Никак не бёдрами и ногами. Эти самые суставы торчали отовсюду под материей, натянутой на остов, и были такими огромными, что я невольно пялился на них, как на оживающие камни. Таким же огромным было и Гаврилино лицо. Большие надбровные дуги над глубоко посаженными глазами! Морщины на лбу и носогубные складки как грубые сварочные швы. И можно было сколько угодно смеяться, улыбаться, корчить рожицы в это лицо, оно неизменно сохраняло своё похоронное выражение. Я что-нибудь ляпну, реплику смешную подам, Гаврила печально подождёт, пока я сам же отсмеюсь, и продолжит рассказ. Не проймёшь ничем.
А рассказывал он мне, помню, о том, каким был болезненным в детстве. Диатезы, рахит, дистрофия, постоянные воспаления лёгких – кошмарный сон, а не детство, светлой надеждой в котором неожиданно явилась одна книга. Некий Амстронг: «Уринотерапия». Тут Гаврила нависал и начинал говорить почти шёпотом.
Как видно из моего предыдущего рассказа, мы в этом смысле находились не в трудовом, а в санитарно-исправительном учреждении, поэтому Гаврила местами замолкал, пропускал момент самолечения и продолжал уже о том, как начинал помогать другим. Успешно. Стал известным в среде. Прекрасным примером и учителем для несведущих. Как-то его порекомендовали одной женщине, чьё уже августовское цветение омрачала кожная болезнь. Гаврила пришёл, сказал, что надо пить, и женщина взвилась от возмущения. Я даже помню, как это передал Гаврила: «Знаете, что, молодой человек, я, слава Богу, в своём уме и не в том возрасте, чтобы заниматься такими глупостями».
Но Гаврила не ушёл. Он понял, что без него пациентка не станет лечиться. И предложил своё наблюдение. Я уж не знаю, каким (должно быть, как и мне, поведал историю своего детства), но каким-то образом он остался у неё на правах лечащего врача. Банки с мочой заполонили квартиру женщины августовского цветения. По всем правилам Амстронга и под руководством Гаврилы она их отстаивала до аммиачного осадка и выпивала, от чего стала покрываться прыщами и язвами. Был момент истерии, отчаяния, но лечение, по настоянию Гаврилы, не прерывалось. Постепенно язвы исчезли. Вместе с ними исчезло и исходное заболевание.
Мы вынимали из-под задниц рукавички, на которых сидели, и расходились точить флянец. Наши станки скрежетом расправлялись с тишиной механички. Даже для эха не оставалось места.
***
Если в цех входила комиссия, обыкновенно в разгар рабочего дня – будь то менты из Управления, производственники с кировского завода или начальник ОТК Березенко, как-то вскользь мной упомянутый – степенную эту пузатую компанию непременно сопровождал зек. И это всегда был один человек. Он шёл чуть впереди, заискивающе что-то говорил, жестикулировал и взрывался неадекватным хохотом на вельможные шуточки.
Кто-то должен был ходить на заготовки для рабочих смен, так как все шныри работали только на «жилой». И эта обязанность лежала на этом человеке. Очень серьёзно, с выражением крайней занятости, он семенил мелкими шажками сквозь цех, возвращался через полчаса, орал в громыхающее пространство, и его мясистое лицо тряслось от напряжения.
Заменять при необходимости бригадира или кладовщика, решать мелкие проблемы с начальником цеха, принимать детали, переставлять с места на место станки – всё приходилось делать ему. Целый день он мельтешил по цеху. Отовсюду были слышны его крики и смех. Но главное – эти фразочки, как правило, восторженные или истеричные, которые всех так веселили.
– Дюму (именно «У») не превзошёл никто! – как-то услышал я с противоположного конца столовой. Крик, затем всеобщее ржание, и я увидел этого человека, бегущего между рядов, с красным лицом от только что перенесённого катарсиса.
Человека звали Рома Глотов.
Он был из восьмого отряда, кем-то числился на механичке, и им затыкали бреши повседневного уклада все, кому не лень. Менты использовали его на заготовках, заменах, посылках, зеки что-то через него доставали, и при этом никто серьёзно его не воспринимал. Я не знаю, не замечал ли он этого, не знал или не хотел знать. Но в шквале насмешек, упрёков, будучи всегда и всем должен, Рома, и это, пожалуй, одна из отличительных его черт, чувствовал себя превосходно. Восстанавливался молниеносно. Естественно, при такой жизни многие обещания он не выполнял, и порой на него наезжали, обкладывали матом, а могли и приложиться, так сказать, закулисно, по-свойски. Но это не действовало. Только что выглядевший потерянным и всклокоченным, Рома через несколько минут разражался очередным патетическим восклицанием из другого места. И, конечно же, оттуда доносился гогот окружающих.
Смеялись главным образом над его манерой. Он говорил, как экзальтированная поклонница, почитательница. Взбалмошная, восторженная и готовая умереть за своих кумиров. За Элизабет Тейлор, например. Это была женщина мечты Ромы Глотова.
Как-то раз в восьмом отряде из его проходняка раздался звериный вопль. «Кто, что, как они могли!!!» – Рома тряс перед нами газетным листом. Пунцовый, трясущийся, он негодовал, но даже при этом выдерживал какой-то неестественный девчоночий пафос: – «Они завернули в неё рыбу!!! Рыбу!!! В Элизабет Тейлор!!! Рыбу!!! Быдло! Это уму непостижимо! Она богиня!» – он разглаживал заляпанную статью про Элизабет.
Ещё он был напичкан цитатами из советского кино. Целые куски знал просто наизусть. «Двенадцать мгновений весны», «Три мушкетёра», «Собака на сене». Боярский, Терехова вызывали в нём трепет. Стоило лишь произнести: «Эй, вы, грешники Ваала! Киньте мученицу львам…» – и Рома, как верная подружка, расплывался, пристраивался и мечтательно предавался воспоминаниям: как она это говорила, с какими интонациями, каким придыханием. В эти моменты он казался настоящей женщиной, восторженной, трогательной.
Под стать ему были и пристрастия к театральным эффектам: уйти незамеченным, возникнуть внезапно, сказать глубокомысленно. Он подбегал к моему станку и говорил: «Тот, кто не был в тюрьме, не может называть себя человеком», – вот так ни с того ни с сего говорил, потом поднимал палец и со значением называл автора: «Махатма Ганди» – и убегал. С уверенностью можно было сказать, что он это поймал на лету. Только что. Где-то между механичкой и столовой.
В одном из углов цеха, сразу справа от ворот, угол, в котором я провёл уйму времени и который вспоминаю, как иной вспоминает свою школьную парту, были приварены брусья и турник и свалены разные железки, негодные детали. Мы занимались там с Пепсом почти каждый день, чем притягивали любопытствующих. Особенно, когда Пепс позволял себя избивать, оттачивая приёмы защиты. Захаживал туда и Рома. Он что-то потешно показывал, пружиня и подпрыгивая на своих «окорочках»
(Несмотря на девичью организацию, сложен был Рома, как ломовой извозчик. Щекастое лицо с заячьими зубами, сразу бросающиеся в глаза огромные ноги. Он занимался велосипедным спортом, и бедренные мышцы у него были неимоверно развиты. Ходил коленями наружу, подпрыгивая и переваливаясь с боку на бок)
…а иногда принимал выражение шаолиньского мастера и пытался что-то подкорректировать у Пепса. Пепс криво улыбался и со спокойным умилением ждал, когда он уйдёт.
Показательно, что Пепс, обычно чуткий к таким вещам и раздражающийся на всякие понты, воспринимал Рому как ребёнка. Бывало, правда, шугал. Шутя. Рома взвизгивал и убегал, исторгая из своего мясистого тела цветастые фразы.
Всё же большей частью Рома восхищался. Он был склонен к восхищению и во всём мог увидеть нечто незаурядное, необыкновенное и достойное его всплесков. Мы были не исключение. На каждом углу он называл Пепса «великим бойцом», меня, не долго думая, отчислил к «философам тюрьмы», а уже разговаривая с нами, наделял не менее высокопарными эпитетами других своих приятелей. В общем, всем и про всех знакомых он мог говорить с такой же интонацией и воодушевлением, как и про Дюм (У), Ганди и прочих.
***
По-моему, я какое-то время и не догадывался, что Еврей, тихий интеллигентный уборщик с механички, – подельник Ромы. Так, чтобы подельники сидели вместе, встречалось не часто, а эти двое ещё и держались абсолютно независимо и были такими разными, что мысль о том, что сдержанный, рафинированный эрудит Еврей и шумный выскочка Рома Глотов – друзья детства, мне не пришла бы в голову. Но Рома кое-что рассказывал о нём. Немного. Восхищаясь тем, как рано у его друга пробудилось политическое сознание, он вспоминал его выходки. Выходил в трусах, например, на улицу и выкрикивал антисоветские лозунги. В окно выбрасывал сковородки, тоже выкрикивая что-то против режима. Вспоминал, как они достали оружие, что-то пытались ограбить, их обложили в подвале, и с этим были связаны бравурные голливудские реплики, которые казались теперь смешными.
Романтичным был эпизод, где они переговариваются у следователя. Каждый самоотверженно хочет взять вину на себя. Убеждают, кричат друг на друга, благородно не соглашаются друг с другом, и в итоге, рассорившись в пух и прах, идут по делу вдвоём.
Это проливало какой-то свет на их дружбу. Хотя представить, что Еврей мог быть таким, было непросто. Мне он виделся рассудочным, осторожным и замкнутым. Найдя лазейку, он устроился на спокойную нетяжёлую работу. Убирал себе стружку на механичке, избавленный от производственно-исправительной суеты. Прогуливался по цеху один, заправив штанины брюк в носки, и курил сломанные сигареты через мундштук. Все эти еврейские прибамбахи, видимо, и сбивали с толку. Субтильный, вежливый, с тихим голосом, скорбным выражением и еврейскими глазами, нижнее мешковатое веко которых придавало им некую двусмысленность. Это такое веко, в котором спрятаны мистические знания, списки масонских лож и экономические расчёты.
О его прижимистости ходили легенды. Он разламывал сигареты напополам, и часть этих кусочков брал с собой на работу. Когда ему об этом говорили, он стыдливо улыбался, пытался раскрыть полностью глаза и преподнести это как нечто совершенно нормальное и обыденное. По его расчётам (по тем самым расчётам нижнего века) выходило, что он здорово на этой процедуре выигрывает.
Ещё он страдал геммороем, совершенно этого не скрывал (я бы даже сказал, что гемморой придавал Еврею, двадцатитрёх-четырёхлетнему парню, недостающей солидности), поэтому был вынужден беспокоиться о наличии туалетной бумаги и, естественно, над ней трясся. В разное время и с разными людьми разделяя хозяйство, он очень негодовал, если кто-то неэкономно расходовал его рулончик. С этой бумагой связана одна историческая фраза, которую потом повторяли практически как народную мудрость. Когда очередной семейник Еврея полез в его тумбочку за туалетной бумагой, Еврей его спросил: «Ты же уже ходил сегодня?» На что тот ответил: «Ну и что? Я ещё хочу». Еврей не выдержал и раздражённо, глядя, как разматывают его рулон, произнёс:
– Срать два раза в день – глупо!
Еврей крутился с кладовщиком, (кладовщика я плохо помню) и больше никого к себе не подпускал. Несколько раз я пытался с ним подружиться, но мы буквально перекинулись двумя-тремя словами, и на этом всё. Сейчас, через столько лет, оглядываясь, мне кажется, что Еврей, тяготившийся окружением, что-то предчувствовал. Как будто ждал появления кого-то, знал, что придёт такой человек, и делал на него ставку.