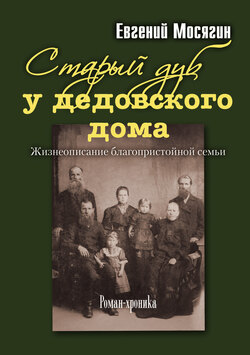Читать книгу Старый дуб у дедовского дома. Жизнеописание благопристойной семьи - Евгений Мосягин - Страница 5
Глава 1
Прикосновение к прошлому
Тихий вечер на Шеломовской улице летом 1930 года
ОглавлениеУлицы с таким названием давно уже нет. Но она была, такая улица, в нашем городе, и жизнью многих поколений отмечена добрая память о ней.
У Шеломовской улицы теперь другое название. После Октябрьской революции, когда разрушали, так называемый, старый мир, городские власти Новозыбкова в порядке своего участия в этом мероприятии, сокрушали божьи храмы, расхищали имущество состоятельных горожан, и заменяли старинные, исторически сложившиеся названия улиц нашего города на новые, отвечающие духу времени. Убожество фантазии переустроителей мира или жесткие требования идеологических установок правительства привели к тому, что в нашем городе, как и во всех без исключения городах Советской России, все главные улица стали называться совершенно одинаково. Куда бы ни заехал советский человек на своей родине, он всюду будет иметь возможность прогуляться по Коммунистическим, Советским, Комсомольским, Первомайским улицам или по улицам Ленина, по площадям Сталина, а также по Красным, Октябрьским и прочим городским территориям, имеющим названия, утверждающие поклонение великому «учению».
Удивительно, но отцы города оставили Шеломовской улице ее прежнее старорежимное название. Это произошло, видимо, потому, что не очень понятное название улицы не содержало в себе явных противоречий с марксистско-ленинской теорией.
Вроде бы пронесло! Но оказалось, что нет, не пронесло. Прошли годы и, после первого полета советского человека в космос, городские власти из чувства патриотизма и демонстрации своей сопричастности к великому событию не нашли ничего лучшего, как по этому поводу переименовать одну из улиц города. И перестала наша улица быть единственной во всем подлунном мире Шеломовской и превратилась в одну из многочисленных в стране улиц, получивших высокое имя космонавта Гагарина. Более чем двухсотлетнее название кануло в вечность. И пусть оно было не таким уж примечательным и ничего особенного не означало, и, скорее всего, произошло оно от названия деревни Шеломы, куда вела по ней дорога из города, но это – история. Много ли славы прибавилось памяти знаменитого человека от того, что скромная наша улица стала носить его широко известное имя?
С приобретением нового названия наша улица нисколько не изменилась, она осталась прежней, со своим давным-давно установившимся жизненным ритмом, с теми же домами и стежками, с теми же калитками и светом в вечерних окнах, с теми же деревьями, раскинувшими свои зеленые кроны над невысокими крышами деревянных домов. Здесь следует добавить, что в последнее десятилетие прошлого века улица наша стала перестраиваться, но это никак не связано с ее давним переименованием.
В пору моего раннего детства Шеломовская улица сохраняла свою старинную благопристойность и имела все признаки обычной улицы уездного русского города. Стежки вдоль домов, тележная колея на проезжей части, на газонах деревья, зеленая мурава, в окнах домов герани. Она небольшая, наша улица, – всего около сотни домов. В ее застройке нет ничего такого, что выделяло бы ее из числа других городских улиц. Начинается она от центра города и выходит в поля на его западной окраине.
В Новозыбкове два озера: Карна и Зыбкое. Карна расположена в другой части города, а Зыбкое с нашего края. Озеро это своим существованием обязано не только одной природе, рукотворность его можно заметить, не обладая даже зорким глазом. В стародавние времена низину речки Зыбкой раскопали, придали ей правильную форму, перекрыли плотиной с каменным мостом и установили на мосту подъемные заслоны, регулирующие уровень воды в образовавшейся озерной котловине. Потом укрепили берега и обсадили деревьями. Озеро получилось очень красивым и стало естественной частью города. Оно как бы прерывает монотонный ритм деревянных улиц и дает человеку возможность переключиться на восприятие иных впечатлений, чем те, которые возникали бы от бесконечно чередующихся домов, заборов, калиток с воротами и окон с геранями.
Радением умных и добрых людей создавался наш город! И как же хорошо, что эти люди не только прямую пользу и практичность имели в виду, решая городскую застройку Новозыбкова. Не последнее место в их заботах занимало понятие о красоте.
На моей памяти озеро Зыбкое было довольно запущенным, зарастающим тиной, водорослями и великолепной светло-зеленой ряской. Вдоль озера со стороны набережной долгие годы сохранялось от старых времен множество могучих раскидистых ракит, сплошными зелеными стенами стоящих над тихой водой. В том месте, где в озеро впадает питающая его речушка Зыбкая, имеется добротный деревянный мост. За мостом направо расположен Сенной базар, давно утративший свое назначение, налево вдоль озера деревянные мостки ведут к рынку и центральной площади города.
Шеломовская улица начинается от озера. В самом ее начале расположен городской парк. Его высокая, деревянная, сквозная, штакетного типа, ограда с нависающими над ней желтыми акациями на целый квартал тянется по нашей улице. Посередине ограды расположены главный вход в парк и касса. Судя по возрасту деревьев, новозыбковский парк может быть ровесником города. Это означает, что с самого начала устройства будущего города его жители на долгие годы вперед решали свою жизнь и жизнь своих потомков с полным пониманием того, что не хлебом единым может быть жив человек. Разве может быть город без городского сада? Наши предки решили, что нет, и кто-то из них, добрый и умный, предложил в нарождающемся городе разбить городской сад. Благодаря этому наша Шеломовская улица известна всему городу. Других официальных достопримечательностей на нашей улице нет.
От парка до нашего дома и дальше до городской окраины, до зеленых огородов и полей Пригородного хозяйства улица наша застроена хорошими деревянными домами со скамеечками у калиток и со ставнями на окнах. Единственной прорехой на нашей улице были огороженные проволочными заборами огороды Анны Савельевны, соседки Василия Николаевича и Брумихи, что жила напротив нас рядом с Масаровыми. Улица наша всегда была чистой – ни рваных газет, ни битых бутылок, ни прочей какой-нибудь дряни не было ни на стежках вдоль домов, ни на проезжей части.
Я побывал за свою жизнь во многих городах России и за рубежом, восхищался не раз архитектурой и планировкой дворцовых ансамблей и усадебных комплексов, парадных площадей и бульваров, видел средневековые улицы и современные проспекты и все это оставляло во мне уважительное удивление гением и трудом человеческим. Но нигде и никогда я не забывал нашей Шеломовской улицы, обыкновенной улицы, где началась моя жизнь и прошло мое детство. Это обычное для каждого человека состояние. В воображении постоянно живут малозначащие, по сути, но немеркнущие воспоминания. Это как сон наяву.
Я помню какой-то летний вечер: в небе еще двигались тяжелые сырые тучи, небо было низкое и все под ним пропиталось влагой. Но ветер затих и дождь прошел. Деревья без малейшего трепета, с отяжелевшими от воды кронами замерли над отсыревшими крышами домов. Тяжелые капли падали с веток в набрякшую водой траву. Клонилась сирень над мокрым забором, и поблизости было чье-то открытое окно. Над высоким кирпичным цоколем окно было на высоте человеческого роста. И в этом окне, как будто, виднелось женское лицо, красивое и, кажется, грустное. Было прохладно, сыро и тихо. Вдали, в конце нашей улицы, светилась яркая, необыкновенно чистая горячая полоска заката между серо-фиолетовыми тучами и темной землей. Дома стояли без света в окнах, от этого они выглядели необыкновенно уютно и казались чуть-чуть таинственными. Прохлада, зелень, сырость и какая-то пронзительная добрая печаль. И я в этом вечере, в этой тишине и печали, то ли босиком, то ли приодетый и обутый, но очень маленький и как будто не один.
Какое же это было счастье! Я был крохотной каплей в том огромном сумеречном вечере после дождя, мне было хорошо и покойно. Да был ли когда такой вечер, видел ли я все это? Может, все это мне придумалось в тоске по детству, по моей прошлой жизни.
А вот еще одно воспоминание, очень странное и относящееся к первым восприятиям мною окружающего мира. Я до сего времени не знаю, что со мной было. Но вот какая история. Была очень прохладная весна. Часто шли дожди, все уже было зеленым: и трава, и деревья. На другой стороне улицы от нас, у дома Симы Соркиной рос большой каштан, а дальше до кирпичного дома Шевелевых стояла шеренга высоких пирамидальных тополей. По вечерам под этими тополями появлялся одинокий мужчина высокого роста, одетый в темный костюм. Держался он совершенно непринужденно и медленно прохаживался под строгими тополями; он шел от дома Шевелевых, доходил до каштана у дома Симы Соркиной и поворачивал обратно. И, конечно же, ничего в этом не было необычного, гуляет мужчина по улице, ну и пожалуйста – пусть себе гуляет, дышит свежим воздухом. Но вот что интересно, мужчина, прогуливаясь, свистел. Замечательно свистел! Чисто, звучно, как будто играл на невидимом музыкальном инструменте, отлично владея которым, он насвистывал очень красивые и никогда неслыханные на нашей улице мелодии.
Я помню прохладу и сырость, помню, что от обилия зеленой травы и зеленых деревьев вся улица была освещена сумеречно-зеленоватым светом, и на улице никого не было, соседи сидели по домам, и только странный незнакомый мужчина ходил под высокими тополями и что-то насвистывал.
Вообще-то, свист у нас считался занятием греховным, говорили: свистеть, значит беса тешить. Но я не помню отношения взрослых к этому неизвестному солисту. Очевидно, он был человек неместный, гостил у кого-то или стоял на квартире.
Мне же все это казалось абсолютно правильным и естественным. Я так и понимал, что улица наша единственно правильная улица среди всех прочих улиц, и что на такой хорошей улице обязательно по вечерам должен ходить под тополями высокий мужчина в строгом костюме и насвистывать красивые мелодии. Может, это было одно из самых ранних впечатлений моего детства?
Многие окраинные улицы служили жителям окрестных деревень въездом в город. По Шеломовской улице ездили в город из Нового Места, Шеломов, Святска. Но когда с нашей стороны обосновался Пригородный совхоз, и для того, чтобы попасть из нашей улицы на Новоместский шлях, надо было проезжать по хозяйственным дворам совхоза, ездить в эти деревни по нашей улице стало несподручно, и весь гужевой транспорт на въезд и выезд из города двинулся по Красной улице. У нас стало совсем тихо. Колея посреди улицы подзаросла травой, пыли не было. Редкая телега, проезжающая по нашей улице, имела определенный адрес, направляясь к кому-то из наших соседей.
Было еще одно обстоятельство, способствующее тому, что мужики соседних деревень не любили ездить по нашей улице. Подальше от дома Дюбичей, ближе к окраинным домам посередине улицы с незапамятных времен образовалась огромная лужа. Объехать эту лужу никак было невозможно – мешали с одной стороны деревья, а с другой убедительной глубины канава. Лужа никогда не пересыхала, а после дождей представляла немалую опасность для проезжих, особенно для тех, кто преодолевал ее в первый раз. Я помню, как однажды в нее опрокинулся цыганский воз. Телегу вытащили и поставили на сухое место, а бедные цыганки ходили в грязной и холодной воде, собирая вывалившиеся из телеги вещи. Другие подводы стояли поодаль, мужчины о чем-то быстро и возбужденно говорили. Меня удивляло, что цыганские женщины ходили по воде, не подбирая своих длинных цветастых юбок, и юбки выше колен были мокрые и грязные. Я думал – где же они просушатся? Когда было собрано все, что можно было собрать, цыгане повернули лошадей и поехали обратно в поле, чтобы через Пригородное попасть на дорогу, ведущую на Красную улицу, и по ней въехать в город.
Лужа эта окаянная в конце нашей улицы просуществовала довольно долго. Чего только в нее не сыпали – она не сдавалась. Окончательно ее победили перед самой войной.
Я теперь понимаю, что тишина и внешнее благополучие нашей улицы держались лишь на том, что Пригородный совхоз в конце двадцатых, да и в начале тридцатых годов не имел большого количества тракторов и автомашин. А если и имел один-два ЧТЗ к середине 1930-х годов, то эти трактора были на таком учете и под таким контролем, что в неоправданные хозяйственной необходимостью рейсы не назначались, а работали в поле, как и полагается сельскохозяйственным машинам. Не возили на тракторе пару бидонов молока и не гоняли за каждой поллитровкой, как это начали делать в послевоенные годы.
В 1985 году я приезжал в Новозыбков. Господи! Что стало с нашей улицей? Патриархальная тележная колея превратилась во множество глубоких и безобразных рытвин, вспоровших весь зеленый покров улицы не только на ее проезжей части, но и вблизи домов. Улица стала практически не проезжей для иного транспорта, кроме могучих колесных и гусеничных тракторов. В борозды, во множестве вспоровшие улицу, домохозяйки начали выбрасывать всяческий хозяйственный хлам и мусор, ненужный во дворах, превращая в свалку нашу некогда милую и благопристойную Шеломовскую, а теперь улицу Гагарина. И что ведь огорчительно: никого не волновало и не беспокоило это безобразие, сотворенное с городской улицей. Тракторные борозды во время дождей заполнялись водой, а в сухую погоду вывернутая из глубины глина окаменевала и, превращаясь в маленькие Гималаи, представляла собой нешуточное препятствие для передвижения по ней и пеших, и конных аборигенов. Жителей улицы Гагарина это все совершенно не беспокоило. Захлопнули за собой калитку, а на улице хоть трава не расти. Она и не росла.
Что ж, другие люди начали жить на нашей улице… Но об этом речь впереди, а сейчас надо вернуться а далекие-далекие времена моего раннего детства.
Маленьких нас одних на улицу не выпускали, и мы большей частью время проводили во дворе. Но бывали случаи, когда мама, управившись с домашними делами, ближе к вечеру выходила на улицу посидеть на лавочке, ожидая возвращения нашего отца с работы. Это были хорошие вечера. Солнце уходило ближе к Пригородному хозяйству и стояло где-то над домом Дороховых уже не так высоко как днем. Наша сторона улицы солнечная и тень от нашего колодца сдвигалась в сторону наших ворот. Редкие прохожие, все больше соседи, возвращались с работы. Вот прошел странный человек Иванов, всегда одетый в сероватую толстовку с поясом, в сандалиях, в светлом картузе, в очках и с вечным портфелем под мышкой. Наверно у портфеля не было ручки, потому что все мое детство я видел Иванова с этим портфелем, зажатым под рукой. Замкнутый, сосредоточенный, он вышагивает длинными ногами мимо нашего дома и мама уважительно здоровается с ним.
Из-за угла Канатной улицы показалась группа женщин, конвоируемая милиционером. Эти женщины – заключенные новозыбковской тюрьмы; они всегда вызывали у меня страх и жалость. Новозыбковская тюрьма расположена за городским садом на углу Красной улицы и Красной площади, напротив Соборной Михайловский церкви. Женщин ведут в тюрьму после дневной работы в саду и огородах, принадлежащих тюрьме. Целый квартал Канатной улицы между Богородицкой и Кладбищенскими улицами, рядом с православным кладбищем, занимают эти огороды. Усталые молчаливые женщины, выйдя из-за угла, пошли по нашей Шеломовской улице в сторону тюрьмы в сопровождении конвоя. То, что их вели по проезжей части улицы, а не по стежке, где ходят обычные люди, с недоброй определенностью отдаляло этих женщин от обычной человеческой жизни.
Мимо нас прошел Дюбич, высокий строгий мужчина с бородкой в белой рубахе и светлых парусиновых туфлях. Дотронувшись рукой до кепки, он раскланялся с мамой. Дюбичи живут ближе к концу нашей улицы, у них большой под железной крышей дом. Около их дома колодец, который так и называют – у Дюбичей. Но вот что странно, в большом доме Дюбичей проживают только три человека: этот мужчина, что поздоровался с мамой, и две женщины, жена и свояченица Дюбича. Женщины одинаково немолодые, одинаково сухощавые, с одинаковыми невеселыми озабоченными лицами, постоянно отмеченными безысходной печалью и обреченностью. Они никогда ни с кем не разговаривали, на улице появлялись редко, ходили только на базар и в церковь. Одевались почему-то только в черные платья и платки. Детей у них не было, знакомых и родственников – тоже. С соседями они не общались. Жили скрытно и, вроде бы, обеспеченно, калитка у них всегда была на запоре.
Напротив Дюбичей, у Дороховых, снимал квартиру портной Лейба. Он тоже возвращается домой в черном не новом костюме, в кепке и в очках. Немолодой тихий мужчина, он идет по другой стороне улицы так, словно старается быть не замеченным на открытом пространстве, как будто извиняясь за свое появление на людях. Над ним подшучивали, но необидно и незлобно. Однажды на Пасху мой старший брат Леня послал меня к проходящему мимо нас Лейбе и подучил меня сказать ему: «Христос Воскрес». Это было в голодный год и Пасха была бедная. Я подбежал к Лейбе и сказал ему праздничное христианское приветствие: «Христос Воскрес!». Лейба остановился и, ничуть не удивляясь, наклонился ко мне и ответил: «Воистину Воскрес», – потом покопался в карманах и подарил мне десять копеек.
Наша улица никогда не была многолюдной и почти каждый человек, проходивший мимо нас, был знаком нашим родителям. К тому же у нашего дома был колодец, у которого случались встречи с соседями. Вода в нашем колодце для питья не годилась, ею пользовались для поливки огородов, чтобы поить скотину и для прочих хозяйственных нужд.
Гремя ведрами, к колодцу подошла Анна Савельевна или Рябая, как ее обычно называли на улице. Она жила через дом от нас в маленькой хатке со своим тишайшим мужем – сапожником. Анна Савельевна была замечательной огородницей, грядки у нее были всегда в отличном состоянии. Она набрала воды, смотала веревку, сказала маме, что у нее огурцы пустоцветом пошли на грядке за сараем, после чего, вихляя задней частью своего давно нестираного сарафана, понесла ведра с водой к своей колючей ограде.
Из-за угла Канатной улицы показалась подвода. Это Нигрей вернулся домой из своей гужконторы. Он живет наискосок от нас через дорогу. Я до сего времени не знаю, фамилия у него такая – Нигрей – или это уличное прозвание. Усадьба у него большая. Она протянулась аж до самой Богородицкой улицы. Ходил такой слух, что Нигрею однажды надоело жить на нашей улице и он разобрал свой дом, перекантовал его на другой конец усадьбы, и превратился, таким образом, в жителя Богородицкой улицы или, как ее теперь называют, улицы Урицкого, названной в честь человека, который был руководителем Петроградской чрезвычайной комиссии в революционной России. Нигрей через недолгое время возвратил свой дом снова на нашу улицу, на прежнее место. Поглядишь на этого Нигрея, так ни за что не скажешь, что он такой неспокойный и шебутной мужик – шутка ли, дом с места на место перетаскивать. Конь у Нигрея под цвет его бороды, гнедой и такой же сытенький, как и его хозяин. Нигрей заехал во двор и закрыл за собой ворота.
А вот и наш папа показался. Мама заметила его, когда он был еще далеко от дома. Я бегу ему навстречу.
Позже, когда солнце от дома Дороховых перемещалось к Пригородному, и тени деревьев становились длинней, возвращалось с пастбища наше стадо. Пастух гнал его с поля по Канатной улице, и на перекрестках хозяйки разбирали своих коров, и стадо все уменьшалось, пока последнюю корову не зазывала хозяйка, где-нибудь на Верхней улице или еще дальше. Пастух у нас хороший, непьющий, никто на него не обижается, он много лет пасет наше стадо и знает всех коров. Если какая женщина зазевается и не поспеет на перекресток встречать свою корову, пастух сам отделяет ее от стада и отгоняет в сторону так, чтобы она осталась на своей улице.
У нас тоже есть корова, ее зовут Ранетка. Мама никогда не выходила за ней на угол и у пастуха никакой заботы с ней не было. Ранетка сама знала дорогу и, отделяясь от стада, как только оно показывалось из-за угла, медленно и безошибочно шла домой. Она была красавица симментальской породы, единственная в стаде. Белая, с желтовато-коричневыми пятнами, большая, очень спокойная и добрая. Мама встречает ее и открывает ей ворота – в калитку она не проходит. Ранетка становится на привычное место у сарая, мама ставит ей ведро с пойлом, садится около нее на маленькую скамеечку и белые струи, кипя и пенясь, бьют в чистый подойник, наполняя его молоком. Ранетка – добрая память нашего детства, с ней связано воспоминание о благополучной и спокойной жизни нашей семьи. Я не помню, как она появилась у нас, наверно это было до моего рождения, но хорошо помню, как ее уводили с нашего двора.
Черные дни начинались тогда не только для нашей семьи, но и для всей России.
На нашей улице коровы есть не у всех, но их все же немало отделяется от стада в нашу сторону и направляется к дворам Маши Юрченихи, Нигрея, Масаровых, Симы Соркиной, Митьки… не помню всех. Но надо же учесть, что некоторые хозяева, особенно с конца нашей улицы, коров в стадо не гоняют, пасут сами, поле-то рядом.
Между тем солнце совсем свалило за Пригородное хозяйство и там за силосной башней начинает разгораться закат. Последние соседи от трудов праведных возвращаются по домам. Прошел по той стороне улицы важный человек, зять Симы Соркиной, мужчина с портфелем и животиком. Он работает в каком-то ответственном учреждении, может, в райпотребсоюзе или в райторге, держится особняком и с соседями не знается. Прошкрабала мимо нас тяжелыми сапогами Христина, проехал на велосипеде Тит Григорьевич «фершал», пользующийся большим уважением соседей не то за его ученое звание, не то за его манеру достойно держаться. А вот показался муж Анны Савельевны Моргун, небольшой мужичок в картузе, сапогах и длинном пиджаке. Длинном потому, наверно, что не шили тогда таких пиджаков, которые могли бы быть в пору такому мелкому человеку, как Моргун; какой пиджак ни возьми, он все равно будет велик для Моргуна. Моргун, он же Федор Андреевич, идет заметно под хмельком на своих присогнутых в коленях ногах. Это очень редкий случай, что он под хмельком, его никто никогда не видел пьяным, живет он неслышно и постоянно занят своим сапожным ремеслом. На этот раз Федор Андреевич малость «выпимши». Наверное, получку получил или в сапожной артели что-то отмечали, а может быть, кто-то из заказчиков магарыч поставил. Держится Федор Андреевич пристойно, калитку свою из колючей проволоки находит без затруднений и незаметно скрывается за ней.
На противоположном от нас углу Канатной улицы закрывается лавочка Аронки Гусакова. Лавочка эта маленькая, но в ней всегда можно купить кусок мыла, фунт сахару, спички, пачку чая и другие мелкие товары. Гусаков – один из последних нэпманов в нашем городе, торговля его под давлением власти начинает чахнуть, и, похоже, что он уже не торгует, а распродает оставшиеся от хороших времен товары. Аронка закрывает дверь и ставень на окошке своего торгового предприятия, и неизвестно, откроет ли он его завтра. На перекрестке, на вытоптанном пятачке, собираются мужики: Акимов, Гришка Соколов с Канатной улицы и Петька Липский из углового дома. Эти лихие ребята затевают игру в орлянку. Один из них подбрасывает вверх монету и все смотрят, как она упадет, что будет сверху, орел или решка. Играют по маленькой, просто для развлечения.
За Пригородным догорает закат, на улице начинаются сумерки, кое-где в домах загорается свет, на лавочках собираются женщины. Наш сосед Митька подоил корову и понес крынку молока Титу Григорьевичу. Пробежала через дорогу к Маше Юрченихе Анна Савельевна, попутно переругнувшись с попавшейся ей навстречу Фросей Масаровой, ее постоянной оппоненткой по разным общественным и социально-бытовым вопросам.
Из городского сада доносится приглушенная расстоянием музыка духового оркестра.
На дороге показался извозчик. Это Федор Волков на своем красивом фаэтоне везет Епископа. Этого человека, имеющего явно высокий духовный сан, все называют Епископом, хотя у него могло быть совсем другое духовное звание. В Новозыбкове одно время он бывал часто и снимал квартиру на нашей улице ближе к ее окраине, кажется, у Кублицких. Высокий, стройный пожилой мужчина в длинной черной одежде, он часто ходил мимо нашего дома. А иногда ездил на извозчике. В таких случаях мы с Федей бежали ему навстречу. Епископ просил Волкова остановиться, помогал нам забраться в фаэтон, и мы ехали с ним до его квартиры. Доехав до дома, где квартировал Епископ, мы благодарили его и бежали домой довольные, что удалось прокатиться на фаэтоне, да еще с такой важной особой. Мама всегда нас удерживала от нашей настырности, но не так, чтобы уж очень категорично, ей все-таки нравилось, что ее детям оказывает внимание такой непростой человек. Мы с Федей тоже чувствуем, что поступаем не совсем правильно, но Епископ так доброжелателен и так приветлив, что чувство неловкости само собой как-то сглаживается.
За Пригородным гаснет закат, и верхушки деревьев сливаются с потемневшим небом. Пустеет улица, на город опускается ночь. На Шеломовской улице тихо и темно, не светится даже маленькое окошко Моргуновой хаты.