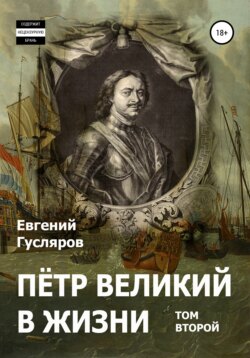Читать книгу Пётр Великий в жизни. Том второй - Евгений Николаевич Гусляров - Страница 7
Книга третья
Глава IV. Царевич Алексей. Гибель последнего русского
«Лучше бы мне быть сыном последнего земледельца…»
ОглавлениеВ Полтавской баталии он не участвовал Пётр известил его о великой победе собственноручным письмом.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 19
…В январе 1709 года царевич, отводя новонабранные полки к отцу в Сумы, простудился и выдержал злую лихорадку. Вероятно, слабость царевича после болезни и лечения была причиною, что Алексей оставался в Москве во время Полтавской битвы.
Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 20
Примечательно, что царь в этом году построил по обету церковь во имя св. Алексия, человека Божия, в тверском Жёлтикове монастыре.
Погодин М.П. (1). С.425
Милостивый Государь-батюшка! Письмо твоё о преславной и никогда слышанной виктории чрез Мурзина я получил, с которою тебе, Государю, поздравляю, и доношу, что о сём, по благодарении Богу, изрядно у меня веселились и у тётушки и трудившихся при сём поздравляю. И никогда народ весь так весел небыл как о нынешней виктории. Сын твой Алексей.
Из Преображенскаго. Июля в 10 д.
P.S. Получил я от тебя Государя писмо с подлинною реляциею, за что паки всеусердно благодарствую.
Царевич Алексей – Петру. Мурзакевич Н.Н. С. 60-61
…Около Царевича, с самых молодых его лет, находилось несколько лиц, составлявших какое-то особое дружеское общество; они имели свои виды и действовали сообща, в отдалении от прочих, наблюдая разныя предосторожности: говорили между собою, а иногда и переписывались, языком условным, употребляли тайныя азбуки. Вот эти лица: Василий Григорьевич, Андрей Фёдорович, Алексей Иванович, Иван Нарышкины. Из них Алексея Ивановича мы видим по прежним документам при Царевиче ещё в 1702 г. Вероятно, все они поступили к Царевичу по родству их с матерью Петровой, Наталией Кириловной Нарышкиной.
Никифор Кондратьевич Вяземской, учитель и надзиратель Царевичев с детства.
Василий Иванович Колычов, муж кормилицы Царевича.
Фёдор Борисович Еварлаков, принадлежавший к домовому управлению Царевича.
Из духовных лиц: Духовник Царевича Яков Игнатьевич.
Благовещенский ключарь Иван Афанасьевич.
Протопоп Алексей.
Священник Леонтий Григорьевич из Грязной слободы в Москве.
Упоминаются ещё в числе лиц, кому посылались поклоны: Андрей Михайлович, Иван Иванович (не Нарышкин ли?), Михаил Григорьевич Нарышкин, Фёдор Григорьевич.
Из женских лиц упоминаются часто (в его переписке): Акулина, дочь Вологодского архиепископа Варсонофия.
Подобно тому, как родитель царевича устроил ради потехи всепьянейший собор и раздавал разные клички членам этого собора, царевич Алексей составил около себя такой же кружок друзей и всех их наделил насмешливыми прозвищами (отец Корова, Ад, Жибанда, Засыпка, Захлюста, Молох, Бритый, Грач и пр.). Они хвастались своим пьянством. «Мы вчера повеселились изрядно», писал однажды царевич к своему духовнику: «отец духовный Чиж чуть жив отошёл до дому, поддержим сыном»; а в письме царевича один из собеседников его, Алексей Нарышкин, приписал: «мы здесь зело в молитвенных подвигах пребываем, я уже третий день не наливался, и главный наш не умножает».
Всё общество связано было между собою теснейшею дружбою: по крайней мере, Царевич всех членов искренно любил, принимал участие в их судьбах, помогал в случае нужды, подавал советы, ждал с участием от них известий; во многих местах писем оказывается даже нежность и тонкость его чувства…
Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. II-III
Особенно Яков Игнатьев, который был духовником царевича, имел на него громадное нравственное влияние.
Костомаров Н.И. (1). С. 824
Мы видели, как часто ненависть к царю, неодобрение его преобразований принимали вид религиозного протеста; восстания происходили во имя благочестия; царя считали антихристом; бунтовщики говорили об обязанности «стоять за дом Богородицы». Нельзя отрицать существования некоторой связи между царевичем Алексеем и сторонниками таких начал средневекового византийского застоя. Недаром он интересовался личностью и судьбой Талицкого, доказывавшего, что с царствования Петра началось время антихриста. При таких обстоятельствах близкое знакомство царевича с попами и монахами могло считаться делом опасным и для него самого, и для всего государства. В то самое время, когда Алексей по летам своим мог бы приступить к участию в делах и сделаться помощником отца, он находился под сильным влиянием своего духовника Якова Игнатьева, принадлежавшего к реакционной партии и бывшего средоточием того кружка попов и чернецов, в котором вращался особенно охотно злосчастный наследник престола.
Брикнер А. Г. (1). Т. 1. C.319
Яков Игнатьевич с самаго начала возымел на Царевича сильное влияние, почти до самаго последняго времени. Приведём отрывок из его письма в 1714 или 1715 г., в котором он описывает первое свидание с Царевичем: «…Во время первопришествия твоего ко мне в духовность, лежащу пред нами, во твоей спальне; в Преображенском; на столце, святому Евангелию, и мне тя пред ним вопросившее сице: будеши ли заповеди Божия исполняти, и предания Апостольская и святых отец хранить, и мене, отца своего духовнаго, почитати, и за Ангела Божия и за Апостола имети, и за судию дел своих, и хощеши ли мене слушати во всём, и веруеши ли, яко и аз, аще и грешен есть, но такову же имею власть священства от Бога, мне недостойному дарованную, и ею могу вязати и решати, какову власть даровал Христос Апостолу Петру и прочим Апостолом, глаголя: его же аще свяжете на земли, будет связан и на небеси, и его же аще на земли, будет разрешён и на небеси, и хощеши ли смирения моему священству и власти во всём повиноватися и покорятися? И на сия вопрошения моя благородие твоё пред святым Евангелием сице ответствовал: Заповеди Божия и предания Апостольския и святых его вся с радостию хощу творити и хранити, и тебе, отца моего духовного, буду почитати и за Ангела Божия, и за Апостола Христова и за судию дел своих имети и священства твоего власти слушати и покоритися во всём должен».
Обращаю внимание на этот язык: не слышится ли в словах стараго нашего Протопопа Якова Игнатьевича сам Григорий VII, основатель папской власти. Не чувствуется ли сродства этой речи с притязаниями Патриарха Никона? Не объясняется ли ею характер первых наших раскольников?
Прибавим, что Яков Игнатьевич во всё время жесточайших пыточных истязаний, повторявшихся много раз в продолжение года, битый и жжёный, не показал ни на кого, между тем как из писем Царевича, открытых случайно после его казни, в 1720 году, видно, что у него были многие друзья, посвящённые в его тайны с Царевичем
Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. IV-VIII
Во хмелю царевич проявлял не один весёлый нрав, но также вспыльчивость и, подобно отцу, давал волю своим рукам и своему языку. Так: в трезвом состоянии он очень почитал и слушался своего духовника, а в подпитии случалось жестоко его бранить и даже драть за бороду.
Иловайский Д.И.. (1). С. 9
Заметим, истины ради, и некоторые тонкие черты: Царевич просит духовника уведомить, как чует сердце об его браке. В письме к мужу кормилицы, Василью Ивановичу Колычеву, июля 6, 1707 г., Царевич пишет: «Бог тебя простит, что написался Ваською, только впредь не делай сего».
Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XIX
Однажды Алексей покаялся ему [Якову Игнатьеву], что желает отцу своему смерти, и духовник отвечал: «Бог тебя простит; мы и все желаем ему смерти для того, что в народе тягости много». Тот же духовник старался поддерживать в Алексее память о матери как невинной жертве отцовского беззакония; говорил ему, как любят его в народе и пьют про его здоровье, называя надеждою российскою.
Соловьев С.М. (1). Т. XVII. С. 14
Но главным виновником несчастнаго настроения его был Александр Кикин: некогда любимый денщик Государя, впоследствии адмиралтейц-комиссар, человек умный и бойкий, он из видов любостяжания втёрся к царевичу и представлял дела отца в ненавистном виде.
Устрялов Н. (1). Т. VI. С. 18
Александр Васильевич Кикин, один из ближайших друзей царевича Алексея, был очень богат: в одной Москве у него было 125 больших лавок. В них торговали его собственные крестьяне. Великолепныя каменныя палаты Кикина, находившияся близь с.-потербургскаго адмиралтейства, были конфискованы в 1716 году. Сам Кикин, в числе других, за взятки и разныя злоупотребления был высечен, лишён чинов и сослан. Но Пётр находил в нём необходимые для службы способности, и в том же году простил Кикина, при чём большая часть его имений не была ему возвращена. Нужно заметить, что Кикин с 1691 года употребляем был в качестве шпиона вместе с Ушаковым, Инсаровым, Румянцовым, Волковым и другими. Штелин, Голиков, Полевой и другие рассказывают предание о том, что будто бы А.В. Кикин три раза стрелял в спящаго государя, и три раза пистолет осекался, после чего он сам повинился в своём злодейском умысле, при чём Пётр простил его. Рассказ этот едва ли не одна из тех выдумок Штелина и ему подобных баснословцев, который очень хорошо уничтожились изследованиями г. Устрялова. Любопытен, как характеристическая черта того времени, следующий факт: брат Кикина, Пётр Васильевич, нещадно высеченный кнутом за растление 13-летней девочки, пытанный за фальшивую подпись, тем не менее, ведал в 1704 году рыбными промыслами и мельницами во всей России.
Семевский М. (1). С. 231
Эта партия простирала виды свои очень далеко: позднее духовник требовал, например, чтоб Царевич тотчас уведомил его о начале беременности его жены, что мы видим из следующаго ответа: «Мая 6, 1712. Из Познани: О зачатии во чреве сопряжённыя мне хощеши ведати, радетель, и возвещаю, что весьма до отъезда моего подлинно познати было не можно ещё, а повелел я жене, аще будет возможно сие познати, чтоб до меня немедленно писала. И как о сём получу известие, есть ли что, или нет, о том писанием не умедля вашей Святыни возвещу». Беременность жены Царевича так же была важна для его друзей, как и для недругов.
Собрание документов по делу царевича Алексея Петровича. Г.В. Есипов и М.П. Погодин. С. XII-XIII
Но, может быть, скажет при сём кто: для чего же зла сего не предупредил родитель его? Таковой пусть разсмотрит того времени Историю Его Величества, и увидит, что великий родитель сей находился тогда в самых крайнейших безпокойствиях, по причине властолюбивых предприятий правительствовавшей сестры своей и многих на здравие его умышлений и заговоров, которые должно было всего прежде низпровергнуть, и настроенные на него и на отечество удары отвратить. Увидит сего Монарха в то же время занявшагося безпрестанным обучением вводимаго им регулярного воинства, строением Флота, обучением себя мореплаванию, исправлением многих злоупотреблений и нравов подданных, и, следовательно, увидит, конечно, что не было ему отнюдь времени самому смотреть, так сказать, за бывшим ещё в пеленах сыном своим; а потом паче ещё заняли Его Величество наступившая с Турками война, двукратные его под Азов походы, строение в Воронеже Флота, обозрния его многих городов и, наконец, предприятое им в Европейския Государства для научения себя самого достойному царствованию и для просвщения подданных своих путешестием. Но при всём сём однако-ж отнюдь сего сказать не можно, чтоб толико попечительнейший о пользе отечества Государь забыть мог единаго своего сына и наследника, и оставить его без должнаго о нём призрения. Но можно-ли Государю и человеку, занявшемуся сколь великими, столь и безчисленными делами, проникнуть в сердца окружавших сына его, закрытые непроницаемою завесою притворства?
Голиков И.И. (1). Том третий. С. 384-385
Причиною сопротивления предков преобразованиям Петра мы привыкли считать грубую лень и инерцию, свойственную русскому человеку. На эту инерцию указывал сам Пётр: «Русский человек, ни за что сам не примется, пока его не заставишь». Но неужели инерция такого свойства, что не слушается никаких нравственных возбуждений и ждёт непременно материального толчка? Так думал Пётр, и в этом, быть может, состояла его величайшая ошибка. Не знаем, как простолюдины, но аристократы времён Петровых горько жаловались на деспотизм Петра, на то, что он не обращает никакого внимания на мнение умных людей, которые, быть может, не хуже его понимали и современное состояние России и пользу преобразования. «Что за охота была тебе» спросил Пётр Кикина, уже умирающего в великих мучениях, «что за охота была тебе, умному человеку, идти против меня?» – «Что я за умный человек», отвечал с досадою Кикин: «ум любит простор, а у тебя ему было тесно».
Терновский Ф. С. 24-25
К недовольным принадлежали не раскольники, которые оставались верны своему старому, основному взгляду, только сильнее убеждались в пришествии антихриста; к недовольным принадлежали не одни низшие рабочие классы, которые без ясного сознания цели вдруг увидали на себе тяжкие подати и повинности; к недовольным принадлежали люди образованные, которые сами учились и учили детей своих, которые были охотники побеседовать с знающим человеком, с духовным лицом, а побеседовав, попить и понапоить учёного собеседника, которые были охотники и книжку читать учёную или забавную, хотя бы даже на польском или латинском языке, употребить иждивение на собрание библиотеки, были не прочь поехать и за границу, полечиться на водах и посмотреть заморские диковины, накупить разных хороших вещей для украшения своих домов; одним словом, они были никак не прочь от сближения с Западною Европою, от пользования плодами её цивилизации, но надобно было сохранять при этом приличное сану достоинство и спокойствие; зачем эта суетня и беготня, незнание покоя, покинутие старой столицы, старых удобных домов и поселение на краю света, в самом непригожем месте? Зачем эти наборы честных людей, отецких детей в неприличные их роду службы и работы? Зачем эта долголетняя война, от которой все пришли в конечное разорение? И царь Алексей Михайлович вёл долгую и тяжёлую войну, но зато православных черкас защитил от унии и Киев добыл; а теперь столько крови проливается и казны тратится всё из-за этого погибельного болота.
Соловьев С.М. (1). Том XVII. С. 18
Прибавим к этому, со своей стороны, что собственно культурная идея не была до такой степени чужда русскому уму, как некоторые думали. Повторять с иностранцами, будто бы русский народ ненавидел образованность и вести его к просвещению можно было только страхом, насилием, или, как выражаются учёные немцы, просвещённым деспотизмом (aufgeklerte Despotismus), было бы клеветой на русский народ. Наглядным опровержением этой клеветы может служить то обстоятельство, что киевское просвещение могло же пробудить умственные пребности. Правда, оно породило раскол, но когда мы вникнем в причины упорства со стороны раскольников, то легко согласимся, что упорство это было порождено и развито деспотическими мерами, а не каким-либо прирождённым или закоренелым отвращением русского человека ко всякому умственному движению вперёд. Киевское просвещение, конечно, было односторонним, но то была только та односторонность, чрез которую, по неизменным законам человеческого развития, проходило всякое умственно развивающееся общество; по крайней мере, киевское просвещение вносило за собой такие взгляды, которые должны были содействовать дальнейшему движению умственной жизни в России: люди, усвоившие себе это просвещение, считали полезным делом заведение школ, распространение грамотности, посылку молодых людей за границу для воспитания, изучение иностранных языков и введение в общественную и домашнюю жизнь иностранных приёмов. Все это не только не охуждалось безусловно, напротив, многими одобрялось… Чтоб Русь образовать, нужно было сделать независимым мышление, свободным сообщение с Европой, дать простор жизни, дозволить каждому устраивать свою судьбу; русским надобно было собственно «дозволять» просвещаться, а не принуждать их к просвещению насилием, Пётр отрезывал русским бороды и старинное платье: такие меры удерживали бороды и старинное платье и сделали их принадлежностями мученичества; без этих мер, если бы царь только появился в европейском платье и за ним последовало несколько сановников, этого было бы достаточно; пример их подействовал бы на многих, и в короткое время, наверное, треть, если не половина Руси, обрила бы себе бороды и оделась по-европейски; точно так же, если бы русские узнали, что их более не станут пытать огнём, бить кнутом, сажать в тюрьмы и ссылать по подозрениям в неправоверии, что сам царь посылает молодёжь за границу и возвращающихся оттуда ласкает, даёт почётные и выгодные места, то все мыслившее бросилось бы учиться, ездить за границу, усваивать понятия и взгляды, выработанные тогдашнею наукой, а вслед за тем и в России закипела бы умственная жизнь; культурные признаки сами собою входили бы в общественный и домашний быт; верховной власти оставалось не принуждать, не насиловать, а только дозволять, поощрять и показывать всем пример и дорогу… Пётр этого не уразумел: его горячая натура не хотела ждать и не терпела никакого противоречия. Для того чтобы ввести в России признаки европейской образованности, нужно было, с одной стороны, более или менее продолжительное время, а с другой – надобно было безбоязненно допустить внутри русского общества борьбу понятий, верований и взглядов, надобно было терпеливо и милостиво сносить противодействия образовательным мерам; зато достигнутое таким путём прочно привилось бы к России, вошло бы в её плоть и кровь, выработало бы в ней нечто зрелое, своеобразное, самостоятельное, твёрдое, здоровое. Но для такого образа действий не подготовило Петра ни воспитание, ни Европа, куда он ездил для самообучения; притом Пётр и не поставил главной целью своей деятельности духовное просвещение народа. У него была цель – создать государство, которое бы не только не боялось нападений и в состоянии было бы от них отстоять себя, но само стало бы грозным для соседей, заставило бы их если не уважать себя, то опасаться своего материального могущества. Для этой цели нужно было войско и военные припасы, нужен был флот, нужно было море, а для того чтобы приобресть последнее, нужна была война; война же, по своему существу, не может допускать выжидания, а требует немедленной доставки многого такого, что в спокойное время достается продолжительным трудом. Всякая война влечёт за собой чрезвычайные издержки, падающие всегда бременем на народную массу. Шведская война оказалась одной из упорнейших и тяжёлых войн; издержки требовались за издержками, их должен был доставлять русский народ, выбиваясь из сил, разоряться, страдать. Петру хотелось, чтоб у него немедленно делалось то, чего он захочет. Это качество особенно является как бы прирождённым в тех государях, которые в детстве вступили на престол, почти не помнили себя ничем, как только государями, не были даже наследниками, не видели в своей стране никого выше себя по праву. Их стремления усиливались, если во времена детства этих государей бывали (а это действительно часто в таких обстоятельствах и случалось) смуты или бунты, незаконные поползновения, тем или другим путём клонившиеся к уничтожению или оскорблению верховного сана. Тогда с их наклонностями делать всё непременно по-своему соединяется раздражительность, подозрительность, недоверие и заботливость предупредить всё, похожее на сопротивление их воле, всё, что напоминает им неприятные впечатления детства или отрочества. Такими и были при совершенно различных дарованиях Иван Васильевич Грозный, Людовик XIV, Пётр Великий.
Костомаров Н.И. Исследования, документы. Царевич Алексей Петрович (по поводу картины Н.Н. Ге). М. Книга. 1989. С. 9-10. Далее цитируется как Костомаров Н.И. (2). С указанием страницы.
Не говорю и не думаю, чтобы древние россияне под великокняжеским или царским правлением были вообще лучше нас. Не только в сведениях, но и в некоторых нравственных отношениях мы превосходнее, т. е. иногда стыдимся, чего они не стыдились, и что, действительно, порочно; однако ж должно согласиться, что мы, с приобретением добродетелей человеческих, утратили гражданские. Имя русского имеет ли для нас теперь ту силу неисповедимую, какую оно имело прежде? И весьма естественно: деды наши, уже в царствование Михаила и сына его, присваивая себе многие выгоды иноземных обычаев, всё ещё оставались в тех мыслях, что правоверный россиянин есть совершеннейший гражданин в мире, а Святая Русь – первое государство. Пусть назовут то заблуждением; но как оно благоприятствовало любви к Отечеству и нравственной силе оного!
Карамзин Н.М. Записки о древней и новой России в её политическом и гражданском отношениях. В сб. Быть России в благоденствии и славе. Послания великим князьям, царям, императорам, политическим деятелям о том, как улучшить «государственное устроение». М. Изд «Пашков Дом, 2002. С. 150
Царевич же был обожаем народом, который видел в нём будущего восстановителя старины. Оппозиция вся (даже сам князь Яков Долгорукий) была на его стороне. Духовенство, гонимое протестантом царём, обращало на него все свои надежды. Пётр ненавидел сына как препятствие настоящее и будущего разрушителя его создания.
Пушкин А.С. С. 364
Россия в своём повороте, в своём движении к Западу шла очень быстро; в короткое время она изживала уже другое направление; царевич Алексей, похожий на деда – царя Алексея Михайловича и дядю – царя Фёдора Алексеевича, был образованным, передовым русским человеком XVII века, был представителем старого направления; Пётр был передовой русский человек XVIII века, представитель иного направления: отец опередил сына!
Соловьев С.М. (1). С. 8