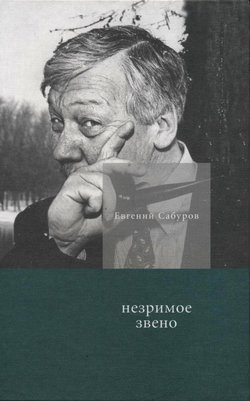Читать книгу Незримое звено. Избранные стихотворения и поэмы - Евгений Сабуров - Страница 48
Смешение различных состояний
Стихи 1966–1972 годов
Песни поезда № 32
Оглавление1.
Не получается опять
на самом том же месте,
и вспять торопятся созвездья
на то же место встать.
Кого я заслонил собой,
чьим именем я самозванец
втесался, втерся в общий танец,
сам убежденный, что мол свой?
Не ломит кости календарь,
не прыгает на грудь утеха —
я снова тут, мне не до смеха,
я сдал, и я совсем не царь.
Я самозванец, вор имен,
имен незнаемых, нестрашных,
и верен прелести вчерашней,
и тут же ветром изменен.
Все крика жду и жду: держи,
и страхом измочалю
себя, что нет как нет начала
под оболочкою души.
Но что терзаться и орать,
к чему нам торопить событья?
Москва пуста, Москва забыта,
и звёзды повернули вспять.
2.
Я ехал в поезде, и час
не мир менял и не заветы.
Колеса в ночь мою стучась,
просили продремать до света,
и слово дикое «езда»
не заставляло улыбнуться,
когда встречались поезда,
чтобы, конечно, разминуться,
но купленный покой купе,
но свист приемлемый в три носа,
а – выйти в тамбур – на губе
картон невкусной папиросы
переставляли всё и вся,
меняли нас на нас самих же,
а в выси пустота неслась,
над миром ко всему привыкших.
Потом, как прибыл, невпопад
случайно то не получилось,
чему я был тогда бы рад,
и я узнал с какою силой
вдруг можно захотеть не пить,
не есть, не спать, не жить от злобы
на то, что мир еще стоит
в грязи на дряни и холопах.
3.
О, Боже, я не понимаю, Ты
меня оставил понемногу.
Как может человек найти
туда, туда, где Ты дорогу?
Как может человек один,
или расспрашивая близких,
понять, что он Тебе как сын
и доверять Тебе без риска
услышать хохот за спиной,
увидеть на окне решетки,
когда над миром образ Твой
провертится легко и ходко.
Только не зная, кто Ты есть,
я поклонюсь Тебе, не зная,
и если мне укажут: здесь,
я место обойду по краю.
И самозванный, и глухой,
не утверждая, не теряя
и повторяя: Боже мой,
я место обойду по краю
и буду, ужасу учась,
смотреть открытыми глазами
на несмущающую связь
между Тобою и слезами.
4.
Не делай глупостей, мой зверь,
не позвони, не обнаружься,
а, напружинившись, обрушься
на эту запертую дверь.
Нет недозволенного нам,
кроме того, сего и в третьих
претит нам, как легко заметить,
что всё открыто небесам.
Мы повторяем: поделом,
когда отчаянный ребенок
с неровным и глубоким стоном
с размаху бьётся в стену лбом.
Восславим то, чему верны,
и отвернемся недовольно
от тех, кому первопрестольны
другие платья и штаны.
И сменим то, чему верны,
поскольку от него устали,
поскольку сами мы вначале
себе сегодня не видны.
И я не с поезда. Я – нет,
я был рожден в родильном доме,
а прадед вовсе на соломе
явился видимо на свет.
5.
За жизнь свою я не успел связать,
я не успел сказать
того, чего хотел.
Мне тусклый свет всё время бил в глаза,
когда я клял ночные поезда
и залезал в оплаченную клеть,
когда, хватая душу под уздцы,
я заставлял ее бежать по кругу
и вспоминать ненужную подругу,
испытывать летальные концы.
О бремя розы! Как ты далеко.
Я проиграл свое благое время,
прокинул душу и ушел за теми,
кого не знал и не любил кого,
но есть ответ, и он предельно прост.
По крайней мере так считается,
по крайней мере всё вокруг кончается
и вот перед тобою закачается
тот самый пресловутый мост
над водами несчастья и отчаянья,
но столько раз я пепельной водой
нырял в зеленый трюм планеты,
что мне не дать достойного ответа
и горнего не приобщиться света,
не протянуть вспотевшую ладонь.
6.
Как пьяница за угол магазина
зайдя, вышваркивает пробку из фугаса,
и пойло красное сочится по мордасам,
вошедший в долю поджидает половину,
дома прекрасно розовеют над рекою,
над распушенным облаком полоска сини,
так поезд входит в мир из инея
мечтой какою-никакою,
так пустота готовится сменять
классическую форму пирамиды,
фаллическое зданье МИДа
на семицветную орловскую печать,
на женщину, хихикавшую вроде
еще вчера на прелые остроты,
на вдруг открытую на повороте
любовь и ненависть народа,
что было, есть и будет пустотой,
принявшей вдруг устойчивые формы,
чтоб через час из приоткрытой фортки
расплыться в воздухе пластом
и быть – не быть, как до сих пор
тот с опорожненным фугасом
шкубает у молочной кассы
по гривеннику на повтор.
7.
Опять слепая желтизна,
то есть зима, то есть опять
неясно сколько еще ждать.
Когда, когда еще весна.
Когда? Когда еще. Еще
мне предстоит и то, и это.
Так беззаветно безответен,
что самому нехорошо,
а вот чего наворотил
в такой бесцветной пустоте,
что кажется хоть на хвосте,
а есть какой и жар, и пыл.
Затеи разные умрут,
а сердце выскочит на площадь
шатать, калечиться, ворочать
или еще чего-нибудь.
Но это выдумки шутов,
чтоб оправдать свою эпоху,
урвать, когда придется, кроху,
чтоб не остаться без штанов,
чтоб то, чтоб сё, чтобы оно,
житье мое, казалось нужным
и чтобы не было нарушено
бесцветное черным-черно.
8.
О край песиголовцев! Лает
иерарх на поезд, уходящий за границу.
Жрец захлебнулся. Обезумев, Пасифая
неразрешенным плодом разрешится.
О как страшны сухие роды бреда!
Где роза? Где соловушка? Синей
от холода позорная победа
над невесомой, не моей, над ней —
душой. Произошла подмена.
Уже произошла. Еще
на время скрыт тот самый несомненно
допущенный хоть где-нибудь просчет.
Я утверждаю, что не утверждаю.
Я повторяю. Только потому,
что и живу, не придавая
ни смысла слову своему,
ни слова хоть какому-нибудь смыслу.
За что мы отказались от любви,
за что соплёй на воздухе повисли
ни к небесам, ни до земли?
Я в поезде. Я между тем и тем,
а что творится там и там:
сплошная тьма или совсем
не до меня, какая там уж тьма!
9.
Когда надсмотрщик в златотканом облаченьи
невнятно каркает спиною к нам,
становится мостом. Через него прощенье,
через него и нелюбовь к мостам.
Не залупайся жизнь. Я не имею вас
не только наяву – в виду.
Мне просто снится поезд на ходу,
который в поезде другом увяз,
безмолвным криком колосится дождь
на еле видных плешах за окном.
Надсмотрщик порицает ночь,
когда вздымает хлеб с вином,
за то, что малая, простоволосая
худыми бедрами трясете вы
на всех углах захватанной Москвы,
а поезд бьется и меня заносит.
Я был рожден в такой понтификат,
мои архонты дали мне такое,
что вынужденный падать и вставать
я не найду ни мира, ни покоя.
Жрец обезумел. Поезд осужден,
а чернота – одно отсутствье цвета.
Наш заговор уныл и беспредметен.
В сорок шестом году я был рожден.
10.
Жизнь! Какою злой забавой
взбудоражила меня?
Как ты поманила славой,
как ты вырастала! – Встала
и стоишь ночной заставой
греешься возле огня,
вертишься как на дозоре,
флюгером в ушах скворчишь.
Жизнь моя пропала в море,
в мусорной ненужной ссоре.
Сердобольные врачи
понимают наше горе.
Понимают, поднимают,
опускают, засыпают,
черной кошкой низко-низко
пробираются к трамваю,
объяснительной запиской,
морщась, на хуй посылают
наших недовольных близких.
Шаг за шагом, день за днем
мы с тобой идем вдвоем.
11.
Повсюду пепельное утро,
на столике багровый чай,
а за стеною златокудрой
моё желанье и печаль.
На время я тебя оставил,
площадка голая светла,
ступенька стертая блистает —
поодаль жизнь моя прошла.
Я целиком, еще не рублен
с того булыжника пошел,
смолой задет, лучом обуглен,
с тавром вколоченным в плечо.
О, если бы заметить сразу,
о, если бы понять, что нет
отмены сделанному, сказанному,
нарвавшемуся на ответ!
Но и клейменый бык бессмыслен.
Булыжник сер. Она туда,
а мне – ради неё – всё кислым
шибает в нос моя езда,
моё разбрызганное лето,
рукопожатья и толчки
и чай до розового света
на пепле утрешней тоски.
12.
Тот, играющий со мной
белый отблеск дней-огней,
этот, черен и проворен,
пучезарен, тучевздорен,
чьей-нибудь хотя б виной
кто-нибудь хоть покрасней!
Но дебело черно-бело
поездное сердце вдовье —
чушкою одервенело,
шавкою осатанело.
Тот ли поезд этот поезд,
на котором еду я,
не по делу канителю,
украшаемый любовью,
тело пестрое крутя.
Дело наше нехитро:
темное осталось темным,
светлое всегда добро,
а вот жил и вот не помню.
Я стою посередине,
зеленею весь в слезах.
Что осталось в поездах?
Я не помню – ты невинен.
Все я выжал из того,
что намеком-экивоком
можно выдать за тавро
в размышлении глубоком.
13.
Балдеж, кто понимает. Подрастая, мы
становимся похожи на верблюда,
и съеденное в детстве блюдо
всё прыщет соками в умы.
О, произвольный выворот горба
налево и направо и налево!
Гуляй туда-сюда краюха хлеба,
двоюродная спелая сестра.
Бабуля, ах, бабуля, ах, бабуля,
ну, неужели так уж никуда?
Я жить хочу, меняя города,
а ты висишь луной на карауле.
Любая блажь доказывает лишь,
что я не самозванец, я мол здешний.
Рванусь, а ты уже поспешно
и наплывешь и тусклая стоишь.
Скажи, но если имя – это имя,
а мы лишь удержаться не сумели,
а важно то, что есть на самом деле,
как жить мне, если я не с ними?
Но ты мне говоришь, что «есть» не только, что
не «что», но даже не ярлык,
а этот звук и тот клеймёный бык —
пустое решето и решето.
14.
Не может быть сомнений:
я умер для тебя.
Зачем же в снах весенних
мне о тебе трубят?
Зачем тела прошедшие
слагаются в слова,
идущие про женщину
знакомую едва?
Зачем всё собирается
и, скручиваясь в нить,
старается, петляя,
тебя одну избыть?
Ведь я подвластен времени,
и в зимних поездах
я видел белой темени
планирующий прах.
Казалось, отвязалось
и кубарем стремглав
под насыпь проплясало
из сердца да из глаз.
Зачем же, не тоскуя,
вхожу в небывший миг,
где вечность поцелуя
слетает на язык?
15.
За то, что день настолько мил,
за то, что ночь полна
наружу вылезших светил
нам на глаза со дна,
с такого дна, которое
не выщупать – смешно,
что мы войдем в историю,
упав на это дно —
так вот за то, что есть еще
возможность не влипать,
уже объявленный щелчок
попридержи опять,
дай право жить и право быть
счастливым собеседником
и не пиши меня в рабы
ни первым, ни последним.
Вести себя как господин,
вообще пристало ль Богу?
Мне, кажется, что я один
и не спешу как блудный сын
в обратную дорогу.
16.
Не дли трагический надрыв,
не обольщайся рваным краем,
душа моя, сопи, играя,
попрыгивая через рвы.
Повизгивая от тоски,
своей обидою дурачась,
чего ты так серьезно плачешь,
чего ты колешься в куски?
Не соглашайся и судись.
Кому нужна твоя растрава? —
взыскующий паяц пространства,
весь мир на полдень полон птиц.
Он время, кой-где подогнув,
теперь укладывает лихо.
Дуреха, не хватает мига —
и можно будет отдохнуть.
Но ты и тут не согласись,
тычь пальцем и не прерывай:
поставила? – давай играй
на этот мир, на эту жизнь.
А поезд, город – только блажь,
как сшибся конь за шаткой стенкой,
как надоумилась студентка
повольничать через соблазн.
Между 1976 и 1977