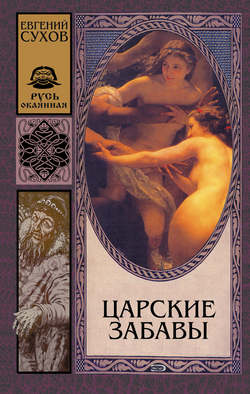Читать книгу Царские забавы - Евгений Сухов - Страница 12
Часть третья
Глава 2
ОглавлениеДавно Пытошный двор забыл про таких именитых гостей.
Еще месяц назад князь Афанасий Вяземский входил через ворота Пытошной избы хозяином. Снимал со стены плеть о двенадцати хвостах и карал ею непокорных.
Разве мог он предположить о том, что когда-нибудь сам будет висеть на дыбе с вывороченными руками под самым потолком и корчиться от боли.
Малюта Скуратов терпеливо вопрошал, задрав голову:
– Афанасий, будь добр, расскажи мне по давней дружбе. Что ты за зло такое надумал супротив своего господина и государя?
– Григорий Лукьянович, родимый мой, да разве я бы посмел!
Пытошная изба именно то место, где можно расспросить про царицыну любовь.
– Ты вот признайся мне, Афанасий, чем таким царицу сумел приворожить?
– Царица, Григорий Лукьянович, и на тебя западала, – и даже через болезненную гримасу Малюта сумел рассмотреть усмешку князя, – уж не ревнуешь ли ты меня к Марии Темрюковне? А баба она шибко горячая была, когда я от нее уходил, у меня между ног костер горел.
– Дать мерзавцу пятьдесят плетей! – перекосился от бешенства рот Малюты.
– Не выдержит он, Григорий Лукьянович, помрет… и так плох.
– Если силы на царицу хватало, так должно хватить и на то, чтобы плеть выдержать.
А Вяземский Афанасий продолжал злословить:
– Знаешь, Григорий, что о тебе царица Мария говаривала?.. Будто ты на перине так же неловок, как баба на поле брани. Ха-ха-ха!
Первый удар пришелся поперек спины, а двенадцать гибких концов, словно тела змей, обвили шею и руки князя. Афанасий даже не вскрикнул, только булькнуло что-то внутри, словно испил князь водицы, да захлебнулся. Второй удар угодил по плечам, а «змеи» ужалили грудь, плечи, лицо. Никита-палач лупцевал размеренно. Не было у него злобы к Афанасию Вяземскому. Он даже благоволил к князю, который отличался от всех растолстевших бояр крепостью и статностью. Про боярина ходило немало слухов, самый громкий из которых – прелюбодейство с царицей. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, Мария Темрюковна не могла не обратить на такого молодца внимания. Афанасий был красив, и даже тридцатилетний возраст не сумел испортить юношеской кожи. Лицо его по-прежнему было свежим и краснощеким, а сам он напоминал спелую репку – крепкую, без всякой червоточинки, и, наверное, каждой девке хотелось вонзить в нее свои остренькие зубы, чтобы отведать на вкус.
А сейчас искромсанное тело Афанасия Ивановича содрогалось под ударами бича, словно князя мучила икота. Водицы бы испить, утолить жажду.
Малюта Скуратов стоял в стороне и монотонно считал:
– …Девятнадцать… двадцать восемь… тридцать пять ударов…
– Уже не дышит, Григорий Лукьянович, – смахивал со лба пот Никитушка.
– А ты знай маши, – не давал передохнуть палачу Малюта Скуратов и неторопливо продолжал счет: – Тридцать шесть… Сильнее, Никита, али обессилел совсем? Тридцать восемь…
Он и сам видел, что Афанасий Вяземский перестал замечать боль. Верный признак того, что душа успела отлететь и, видимо, с усмешкой уже наблюдает за стараниями Никитки-палача. Но останавливать казнь Скуратов не желал.
А когда палач откинул в угол тяжелую плеть и тяжело вздохнул, Малюта приблизился к Афанасию Вяземскому. Глаза боярина были слегка приоткрыты, и он продолжал лукаво щуриться на думного дворянина.
Малюта крепко взял в пальцы волосья князя и объявил в самое лицо:
– Занимательный у нас разговор мог бы получиться, Афанасий Иванович… если бы ты не помер.
Следующим бал Басманов.
Между Федором Басмановым и Малютой Скуратовым была давняя вражда. Басманов всегда кичился своими древними корнями и не упускал случая, чтобы наказать худородного царского любимца обидным словом.
Малюта подумал со злорадством о том, что пришло время поквитаться.
Месть не будет мгновенной. Он будет тешиться ею долго, смаковать каждый ее глоток, как сладкое рейнское вино. Для начала Малюта повелел поместить Федора Басманова в темницу с тремя дюжинами татей, которые, узнав в узнике бывшего государева любимца, тузили его так, что плеть палача показалась ему едва ли не лаской любимой.
Федор Басманов вступил в первый круг ада.
С боярина сорвали шапку, сняли кафтан, Федор стыдливо прикрывал руками свое голое тело. Теперь Басманов понимал, что пострашнее карающих палок палача будут скалящиеся образины убивцев. Федор Басманов кликал Малюту, пытался задобрить обещаниями караульщика и сулил ему много злата, но в ответ раздавалось только злое хихиканье или грубый ответ:
– Не полагается! Не так ты нынче велик, боярин, чтобы из-за тебя Григория Лукьяновича беспокоить. Если потребуется, так он сам тебя к себе призовет. А сейчас весели разбойничков. Они уже который год здесь сидят и новым людям всегда рады. Попотешь их, расскажи душегубцам, как ты в Боярской думе вместе с царем заседал.
Каждое слово Федора Басманова тати встречали таким приступом радости, как будто слушали бродячего скомороха, и, глядя на развеселившихся разбойничков, можно было не сомневаться в том, что время, проведенное в темнице, – это лучшее, что было в их жизни. Они позабыли о том, что сидят в затхлой тесноте, не помнили о былых прегрешениях и старательно выполняли роль благодарной публики: хлопали в ладоши, в отчаянном ликовании бренчали цепями и требовали, чтобы Федор Басманов рассказал еще что-нибудь позанятнее.
Вызов к Скуратову-Бельскому Федор Басманов воспринял как освобождение: боярин грозил татям кулаками, проклинал тюремщиков, обещался, что растопчет это гноище, ответом ему был дружный и громкий смех. Тати были уверены, что представление не закончено, и с нетерпением ожидали продолжения.
Караульщики отвели Федора Басманова в сени. Они были нарядны и чисты. Здесь, кроме государя, новые его любимцы: Гришка Грязной, Никитка Мелентьев, Петр Васильчиков. По правую сторону от государя сидел шестнадцатилетний отрок. Это был старший сын самодержца – великий князь Иван Иванович. Орлиным ликом и широкой статью царевич походил на отца, казалось, он унаследовал даже батькин характер: был так же вспыльчив, и многие из бояр уже успели ощутить на своих плечах тяжесть его трости. Среди девок царевич прослыл большим пакостником и разбойником. Они испуганными цыплятами, на потеху всей челяди, бегали по двору, когда царевич выходил из дворца. Не ведая стеснения, он мог запустить понравившейся девице руку под сарафан, шлепнуть бабу по рыхлому заду ладонью, а то и вовсе затащить в подклеть какую-нибудь мастерицу. В свои шестнадцать лет царевич набрался столько силы, что в удали превосходил даже великовозрастных верзил и, потешая себя и отца-государя, дрался со многими отроками на кулачных поединках.
– Слышал я, Федор, что ты потешаешь моих татей, – заговорил государь, когда холоп распрямился. – Караульщики сказывают, что будто бы тюремные сидельцы лет десять так не смеялись. Правду я говорю, Малюта?
– Правду, Иван Васильевич, – смиренно отвечал холоп, – все животы от смеха надорвали.
– Эх, жаль, не разглядел я в тебе шута! – серьезно пожалел Иван Васильевич, хлопнув себя по бокам. – А то повеселил бы своего государя. Мои-то скоморохи страсть как наскучили! Подустал я от их шуток, только и знают, что друг дружке подзатыльники давать… А тебе, боярин, шутовской колпак пришелся бы в самую пору. Что же ты им такое рассказывал? Поведай. Караульщики глаголили, что от смеха стены едва не рушились. Жаль мне, Федор, что приходится с тобой расставаться. Как тебя в темнице заперли, так мне стало не хватать тебя, – разоткровенничался государь, печально вздыхая. – Теперь ответь мне, Федор, почему ты предал своего государя? Может, я был несправедлив к тебе? Или, может быть, ты лаской был обделен царской?
– Государь, ты мне дороже, чем отец с матерью. Если я и виноват в чем, так только в том, что доверял лукавым людям, которые приворожили тебя и сумели оговорить верного твоего холопа.
– Вот как?! А не ты ли сносился с мятежным архиереем Пименом и желал мне лиха?! – грозно вопрошал Иван Васильевич былого любимца.
– Государь, разве…
– Не ты ли, холоп, учинил измену во дворце и хотел лишить меня живота?!
– Государь…
– Не ты ли, пес, прикрываясь царским именем, залезал в казну мою?!
– Государь, поверь мне, оговорили твоего верного холопа лихие люди, – не желал сдаваться Федор Басманов.
Помолчал государь, а потом, сцепив пальцы ладоней в крепкий замок, продолжил:
– Вот что, холоп. Ты говоришь, что дорожишь своим государем больше, чем отцом с матерью?.. Докажи это! А заодно и потешишь своего государя, посмотрю, каков ты шут. Если развеселишь… будешь при мне, как и прежде, ближним боярином. Эй, Малюта, дай Федору Алексеевичу свой кинжал, пускай докажет верность своему государю.
– Что я должен исполнить, Иван Васильевич?
– Немного. Отца своего убей!
– Государь?! Как можно?! – в страхе отпрянул Федор от протянутого кинжала.
– Где же твоя верность, боярин? Противишься! Не хочешь наказать крамольника, которой смерти моей желал!
Расцепились пальцы государя, видно, для того, чтобы собственноручно придушить непокорного холопа.
Алексей Данилович не видел государя уже три недели.
Опалился за что-то на Басмановых Иван Васильевич: младшего в темнице томил, а старшего повелел выставлять со двора, как явится. Трижды Алексей Басманов приходил к государеву дворцу на Петровке, и всякий раз опришники гнали его взашей.
Болела у Алексея душа за сына. Немногие из оставшихся друзей поведали Басманову-старшему, что вырвал Малюта Скуратов у Федьки суставы на Пытошном дворе и определил в темницу сидеть вместе с душегубцами.
Алексей Басманов уже совсем отчаялся, не ведая, как помочь сыну, когда вдруг прибыл царский скороход.
– Собирайся, Алексей Данилович, – объявил гонец с порога. – Государь всея Руси тебя видеть желает. А еще повелел сказать Иван Васильевич, что сына своего ты увидеть сможешь.
– Федьку?! – едва не задохнулся от новости боярин.
Скороход заприметил в сенях жбан с квасом, охотно утопил в него уточку-ковш и, задрав подбородок, долго пил кислый напиток.
– Его самого, – наконец утолив жажду, скороход аккуратно повесил ковшик на гвоздь. – Из темницы Федьку должны привести.
– Может, отобедать хочешь? – засуетился Басманов-старший.
– Некогда мне, – отвечал гонец и заторопился к выходу.
Алексей Басманов сидел в Сенных палатах вместе со всеми боярами. За последние три года свита государя пополнилась многими безродными, и теперь любимцы самодержца сиживали вместе с именитыми столь уверенно, как будто их род уже не одно поколение служит в московском дворе. Задумавшись, он даже не сразу заметил, как в сопровождении двух караульщиков в сени явился Федор. Екнуло от жалости отцовское сердце: исхудал детина, одни глаза только и остались; невообразимо длинными казались его руки, которые метлами волочились по полу.
Алексей Басманов даже не вслушивался в беседу государя с сыном. Все его существо представляло из себя единый нерв. Отцовская жалость была так велика, что грозилась прорваться наружу рыданием. Басманову-старшему стоило огромного усилия заставить себя услышать разговор.
Алексей Данилович содрогнулся, когда царь упомянул его имя.
– Что же ты, сынок, не берешь кинжал? – попросил Алексей. – Возьми!
– Нет!
– Возьми кинжал, сынок.
Федор Басманов осторожно потянулся к холеной рукояти, а ощутив прохладу клинка, отдернул ладонь, как будто натолкнулся на что-то горячее.
– Возьми! – приказал государь.
– Нет!
Алексей Данилович видел, как сын отпрянул от протянутой руки, словно Малюта в ладони сжимал не дамасский клинок, а ядовитую гадину с разинутой пастью.
Государь терпеливо настаивал:
– Клялся мне в верности, живот свой хотел положить, а такую малость сделать для своего государя не способен. Видно, правду мне доносили, что ты с отцом своим жизни меня лишить хотел. Докажи свою верность, накажи изменника!
– Что же ты, сынок, молчишь? Отруби эти руки, которые пестовали и кормили тебя. Может, это у тебя получится лучше, чем у Никитки-палача? – горевал Алексей Данилович.
– Отец…
Двое Басмановых стояли друг против друга, и Федор казался неудачной копией Алексея Даниловича. Басманов-старший был красив, даже возраст не сумел отобрать у боярина его суровой привлекательности: румян, словно девка, русые волосы густы, словно у юноши, только в курчавую бороду закралась снежная прядь.
– Коли, сынок. Чего же ты застыл? Я сейчас и кафтан расстегну, чтобы тебе сподручней было, – руки Алексея Басманова поднялись к вороту.
– Прости меня, отец!
Федор Басманов вырвал у Малюты из рук нож и воткнул его отцу в грудь.
– Дурень ты, – только и сумел произнести старший Басманов, пытаясь выдернуть застрявший кинжал.
– Господи…
– Испоганил себя отцеубивством, – едва слышно шептал Алексей Данилович.
Кровь испачкала золотой кафтан, а потом через сжатые пальцы просочилась тоненькая струйка и закапала на серый мрамор. Рухнул Алексей Басманов, обрызнув кровавыми каплями стоявших рядом опришников.
– Уберите боярина, – распорядился Иван Васильевич. – Страсть как боюсь мертвецов.
Бездыханное тело Басманова взяли за руки и выволокли за порог.
– Распотешил ты меня, Федька, так распотешил. Ну чем не шут! Неспроста над тобой тюремные сидельцы надсмехались!
– Чем же я тебя рассмешил, государь?
Иван Васильевич мгновенно оборвал жуткий смех.
– Если ты своего отца не захотел пожалеть, так до своего государя тебе, видно, вообще дела нет! Малюта!
– Здесь я, государь, – предстал перед самодержцем думный дворянин.
– Отведи Федора в темницу и отверни там ему шею.
– Как же это так, государь?! В чем повинен?! – вымаливал прощение на коленях Федор. – Неужно ты все позабыл? Неужели смерти решил предать?!
Государь поднялся с трона и, поддерживаемый опришниками, приблизился к Федору. По Москве ходила молва о том, что царь Иван со своим кравчим куда ближе, чем иной супруг с милой женушкой.
Жесткая государева ладонь опустилась на макушку Басманова.
– Не забыл я, Феденька. Ничего не позабыл.
Государева ласка иссушила пролитые слезы.
– Так, значит, простил, государь? – с надеждой вопрошал Басманов.
– Не могу я, Феденька, по-иному все складывается. Малюта!
– Здесь я, государь.
– Ты что это, холоп? Приказа царского не слушал?! – рассвирепел Иван.
– Хватай изменника! – выкрикнул Скуратов-Бельский опришникам. – Чтобы в государевых покоях не оставалось духа его смердячего!
Навалились молодцы на плечи Федору Басманову и выволокли его вон из сеней.