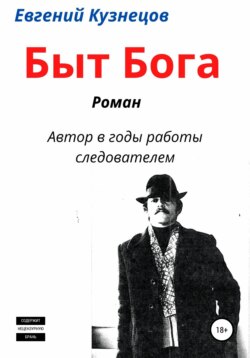Читать книгу Быт Бога - Евгений Владимирович Кузнецов - Страница 1
Часть первая
ОглавлениеСлова – большими буквами, слова себе говорю – словно пишу слова одними заглавными буквами.
…В эти самые "органы" я был заслан.
Наверно, заслан?..
Заслан, конечно!
Работал сегодня да работал, печатал сегодня да печатал… было оно, сегодня, да было…
Особенно вдруг засобытилось во мне: будто Кабинет чуть качнулся, чуть наклонился, и ощутил я крен, явный крен – и по-особенному сразу забредилось вокруг: не просто уж вся "управа", со всеми этажами-коридорами, как была, так и есть Здание и Здание, а – по поводу меня, вся по поводу меня!..
Никого сегодня вроде бы не допрашивал – и не собирался допрашивать, долбил вроде бы обвинительное – только и печатал "обвиниловку"… из Кабинета и не выходил… ни с кем ни о чём не говорил, телефона и не трогал…
И думал-чувствовал я, живой, – всё как живой: пестро, прерывисто и как бы походя.
Дышу-то ровно, только… дышу ли?..
–– Я родился – и сразу же я – я… – повторял привычно, что привычно теперь повторяю.
Виноватость, прежде всего, ощутил в себе, во мне… Будто что-то вдруг узнали про меня, будто про меня что-то узнали, будто про меня узнали что-то…
А сам – прислушиваясь к себе – всё печатал.
И притом будто знают сейчас обо мне затайное моё… Моё!.. Затайное!..
Утром – нет, крена этого не было… Вчера?.. И вчера весь день и вечер не колебалось ничего, не плыло…
Нет-нет! Никто, нет-нет, обо мне ничего не знает, нет-нет, и знать не может!
Печатал, печатаю, ещё много печатать…
И всё со мной, с живым, нормально – и как правдиво, как достоверно я сейчас излагаю! – Мысли и чувства мои прерывисты, мозаичны и – словно бы между прочим.
С утра что: утром проснулся я, открыл форточку, впустил в свою Комнату свежие те, колкие крики ворон… На строгий желудок мой с чаем оделся, пошёл, вышел из "общаги"…
Впрочем… Я иду на работу, я иду с работы… Но ведь это неправда! – Просто ноги сами выступают. Я же сам – где ещё и как!..
Да… Разве что. А тут – старуха…
С утра, с утра на меня посягают.
Старушка вывела развонять свою собачку – а поглядела-то на меня!..
Тревога жизни, тревога жизни…
О, я и сам-то боюсь всё знать о себе, обо мне, – затайное-то, закрайнее…
Потом что – улица, "управа", лестница, коридор, Кабинет…
И вот теперь чую: и ещё как-то собираются на меня посягнуть…
И ранимо ощупывал себя, меня, ранимого, изнутри.
Кишат вокруг, все кишат…
Маня?..
Потом что: видел, как Маня – там, где он был: словно за стеклом непроницаемым по черте сдвинутых столов, моего стола и его стола, – курил, допрашивал… А когда отпустил он "человека", нацелился на меня виском:
–– Ну, и… И, ну…
–– Не я.
–– А чего?
–– Песню пою.
Это я ему про моё живое поведение меня, живого.
Ведь я, который я, чаще – обо всём одновременно, то и другое перемежая и ничем не сковываясь.
Он, Маня, в ответ долго был там, где он был Маней – худым, узким, бледным, как, стало быть, и до этого был таким – там, где он был таким, – лет тридцать.
И он, я видел, через два стола виртуозно посмотрел на меня, спросил, ничего не спрося:
–– Какую же?
Нет ничего, подумал я походя, странного – есть всё стороннее.
Кишат, кишат…
Стыдился – я всегда даже стыдился бумагу-то покупать эту… туалетную…
А теперь – а сейчас так-то событится во мне, и так бредится всё вокруг, словно… Ну, словно прочитали тут, на всё Здание, письмо, что ли, моё любовное раннеюношеское… или словно мне в чём-то гигиеническом своём, в моём, предстоит признаться!..
Ругают меня когда, – защитно думалось – так я будто в доме сразу в каком-то, который – мой, а вот снаружи его слышны шаги, которые мимо, мимо…
И – что?.. А так и буду печатать не шевелясь.
Хвалят же когда меня – много хуже… Мне тогда так, будто в дом в мой тот пришли чужие и говорят – словно их об этом спрашивают! – мол, хорошо… что я вообще есть!..
Свищёв?..
Потом я видел-слышал, как Свищёв вкатился, поздоровался, спросил про мои дела – про "дела".
–– Веду себя!
Непроизвольный-то какой я нынче стал!.. Раньше-то был закованный, затайный… (Вот, кстати, все обо мне теперь и настороже!)
Он же, Свищёв, – там, где он, а там он маленький и в форме маленькой, – усмехнулся служебно:
–– И оба к тебе просятся!
Извини, мол, что тебе двойная работа.
Сразу мне на мой стол дело и материал бросил. Я лишь чуть глянул – вижу: дело – "возобновить", а по материалу – "возбудить".
Свищёв, пятясь, убежал – и всё прыгал в кармане ключами: повышения, небось, – там, где он ждёт повышения, – ждёт.
Вошёл, вышел.
Все, думал я походя, рассуждают – и живут, и живут! – так, словно садятся на какой-то промежуточной станции.
А я – будто на конечной.
И я, да, стал листать.
Ничего уже вроде бы не думал… Нет, так не бывает. Если не думал слова или мысли, так всё равно думал видения.
И кто, и что?..
…Живу – как бегу по раскалённым углям: жжёт, стоять невыносимо, а бежишь – и легче: от усталости.
…Материал, под скрепкой, был свежий, в несколько листов, надо было, само собой, "решать" его в первую очередь: "по нему", значит, "человек" был "доставлен", в коридоре. А дело – пыльное, с корочками с исчерканными – было "тёмное" с полгода, а сегодня, стало быть, пришёл, с утра пораньше, кто-то и рассказал что и как: ему, конечно, вот она, бумагу – чистейшая, быть стало, явка с повинной.
Но почему, в конце концов, такой пьянящий меня и яснящий меня Крен?!..
–– Я – ведь я… Я ведь – я…
Листая – и прислушиваясь к себе – уверенно это пока и понимал:
–– Я только лишь родился – и сразу же я есть я. Или, может, так сказать: лишь родился – и сразу у меня есть я, а я сразу заимел меня… Так что верней и короче: я – я, я лишь родился – и сразу я – это я.
И все и всё – и вокруг, и сверху, и снизу – посягают и посягают на меня.
Недавно я это понял!.. И понял, что всегда, всегда это понимал. И понял, что надо всегда это помнить. Потому и нерв во мне нынче такой – страстный нерв, живой нерв. И, конечно, секретный, секретный!..
Крен зыбкий чуя – целое, право, явление природы, – уже слушал радио и шаги в коридоре – побольше б только сгрести на себя со всех сторон всего стороннего и Крен расшифровать.
Все как, вижу, себя ведут – ведут себя с утра до вечера, с детства до старости так: что самое важное, самое главное всегда – где-то, где-то, не тут, не здесь, где угодно, но именно – где-то!..
Оба!..
Оба, значит, ко мне просились…
…Я всегда весь тут. Я всегда тут – весь.
Идеал – так его ущербинка оживляет, как листочек варенье.
Будни – так если я сию минуту не смотрю на простор, это не значит, что я сию минуту его не вижу!..
…И я позвал – да, позвал одного, одного из двоих, этого самого "человека по явке"…
Уверенно стало недавно мне думаться, и стал я нынче уверенно знать, что даже и дела-то ни единого уголовного мне на сделать, если – ежели не повторять и не вторить:
–– Я только родился – и уж сразу я – я…
…Я не знаю, откуда говорятся во мне эти слова – свет вокруг или темнота, иду или еду, засыпаю или проснулся…
Они – будто рядом.
Или я – рядом с ними.
…Тут – потом, что увидел я, – Свищёв опять вкубарился, схватил тот, под скрепкой, материал, веером омахнулся им, – дескать, занимайся спокойно "явкой", а, мол, "человек по материалу", что сейчас в коридоре, будет теперь "за другим" (у другого, видишь ли, следователя) – и выпал за дверь…
Вошёл, вышел…
Томная!..
И Томная сразу приходила… (Маня, не посмотрев на меня, покраснел.) Спросила про дело это – будто не знаю я, что она "сидит на тёмных"… будто не знаю я о её аккуратной форме, аккуратной речи… аккуратных её ушках…
Вошла – вышла…
Я её раньше и звал так, не нежно: Тёмная…
Полистал я было дело, потом, да, попросил этого своего "человека", Веретенникова, "побыть в коридорчике"… Пошёл за почтой.
Второго – в коридоре, тут, у окна, в тупике коридора – того-то, второго-то, уже не было…
Бред реальности, бред реальности…
Вернулся я, позвал опять Веретенникова – с "явкой", что ли, поскорей разобраться.
…Я сам с собой хочу быть на пределе искренности.
Я хочу быть на пределе!
Я хочу быть на пределе?..
Вся моя прежняя жизнь была "Тебе говорят!", а теперь моя жизнь на каждом шагу – "Оказывается!.."
Трепет такой нынче во мне, будто сказано нечто было громко и адресно, но будто бы на языке, не понятном мне; я кручу головой – и не вник ещё вполне, что сказанное раздалось… во мне самом.
А коли разобрался в себе, во мне, – то что мне вот хоть бы этот допрос этого самого Веретенникова!
Во-от!..
Звон, звон.
Маня держал трубку – потом, что, да, Маня, я видел, держал телефонную трубку… ободками красными смотрел на меня – и, я видел это, он не видел, что я смотрю на него!..
С мига с этого – о! – с этого мига, и без всяких "конечно" и "пожалуй", и пропал у меня мой телесный вес… Как на качели, как на качели, когда-то, когда-то, в верхней точке, в верхней точке…
Папироса, видел я, была у Мани в зубах: папиросы он только, чтоб, куря, печатать… Вспомнил я даже в тот миг, в то мгновение, что печатая, он бьёт указательным пальцем правой и средним пальцем левой…
Несуразно, несуразно…
Несуразного нет – есть не моё.
Во-от!..
Вот и стало длиться и длиться и теперь всё длится моё внимание стыдливое: как когда я деньги в ларёк подал и пошёл, а все вокруг закричали почему-то, кричали кому-то, чтоб он хлеб-то взял…
Заслан-то, скорей всего, если и заслан, я – в самого себя!
И я, да, слышал – в тот долгий миг, в тот до-олгий, когда были трубка и папироса, – как по радио, на шифоньере, тихонечко пел, как назло, кто-то намеренно гнусаво, так что прежде всего хотелось сказать, заявить, что меня нет там – меня нету там, где это гнусавое почитается остроумным.
И колко ощутилось, ощутилось как новость, что сейчас там, где-то там, в каком-то… кабинете, где есть я, есть ещё и Маня и "человек по явке".
И задлился Крен и головокружение трезвящее.
На белой улице под ровным небом между домов, похожих друг на друга, снег был белый, и снег лежал ровно…
–– Я родился и сразу – я… Я лишь только родился, но уже я – я!.. – спасительно я слышал спасительное в себе обо мне.
Хотелось же виновато – виновато хотелось лишний раз глянуть на Маню, на "человека", виновато хотелось выйти из Кабинета, виновато хотелось, чтоб кто-нибудь зашёл…
Рыженький потом, сразу, заходил: зашёл – всегда он заходит словно вдруг. И то, что он редко заходит, из соседнего-то кабинета, а теперь зашёл, – уж и это словно бы сегодня мне в упрёк. Виноват будто я, что он такой – там, где он такой, – маленький (потому и в форме, для солидности, он всегда) и что волосы у него такие рыжие и постоянно рыжие.
И тут же будто е-еле послышалось, хотя никогда не слышалось, как Шуйцев, за стенкой-то, печатает сейчас: и будто, опять же, я виноват, что он, Шуйцев, – там, где он есть, – за машинкой "клопов давит", да ещё и лоб морщит…
Рыженький, да-да, лишь на меня и на шифоньер глянул – всё там ли, мол, "ящик" (для прошивания дел).
И – о! – сделалось мне так, будто я впервые в жизни и в самом деле… взял чужой коробок спичечный!..
Мысль, сюда, моя мысль! – а не воспоминание о мысли.
Ранимо ранящим себя изнутри ощутил я опять себя: и раньше, правда, что уж там, с начала с самого моего в этом Здании,
Здании этом огромном, внимание ко мне было и стыдящее, и стыдливое…
Спрашивали – ну, например:
-– Часы твои сколько стоят?
–– Не знаю.
–– Как, ты сам ведь брал?
–– А не помню… Зачем?..
Сегодня же – о! – с того мига, с трубки и с зубов Маниных, внимание ко мне Здания сделалось ещё и, чую, нетерпеливым.
Забыл я даже про "человека": торопливо вставил новую закладку (шесть, стало быть, листов через копирку), дерзко стал опять "обвиниловку"…
Но я – чист!
Да и вообще: никто ничего обо мне!..
Тем более, я – чист…
Шоколадов?.. Этот, молодой, с осени тут всего-навсего: тот же, что и я, "универ" окончил – так мы с ним в "универе" не были знакомы, даже ни разу не виделись и не слышались.
Виновато – виноватно было и за речь – за речь свою, мою, нынешнюю новую, уныло-краткую, уныло-едкую:
-– Настали жеванные времена!
–– Жевательно…
–– Чего вам пожевать?
–– Жеваю вам!..
Виноватно особенно, с мига Крана, почуял себя, будто узнали, что ныне я, кроме слов этих выкрутасных вслух, сам себе говорю ещё и словами-то свежими: почему-то – новыми, почему-то – шершавыми, почему-то вынужден говорить такими, почему-то не могу без таких, без ново-шершавых, обойтись. Это не я коверкаю общественные слова, это сами слова коверкаются, подбираясь, как ключи, ко мне, теперешнему.
Заговорил сам с собою каким-то новым языком. – Что же делать, если в прошлом году отменили – запросто отменили прежнее государство и даже в нём весь прошлый мир. После этого – не ждать же, когда что-то в замену применят…
И надо самому создавать целиком свой, мой, мир!
"Засобытилось", "забредилось"… "Здание", "Томная"…
Или узнали даже, только что, обо мне – узнали будто обо мне это самое: что я с недавнего времени всё твержу себе молча и шёпотом:
–– Я родился – и сразу я – я!.. Чего ж мне ещё!..
Да и вообще… Узнали даже будто и это: недавно я понял, и понял, что понимал это всегда, что я в жизни – побывать!..
Я в жизни – побывать.
Я – побывать.
–– Родился: и сразу – я!.. Чего мне бояться?..
Ведь я не прячу теперь, нынче, как с детства прятал, поведение живое меня, живого.
Чую в себе с недавнего времени – с недавнего-то – потребность постоянную жеста непроизвольного. Словно я – рождаюсь, словно я ещё нарождаюсь!.. Чую в себе – особенно и ровно с начала этого года, как "цены-то отпустили", – зуд и непоседливость, словно бы постоянную ломку – от недоговорённости договорённого: будто книга прочтена, и всё ясно и понятно, да вот нет всё-таки самого-то последнего листа.
Мысль, мысль, а не воспоминания о мысли!..
Так и живу с Нового года – словно только с Нового года думаю, умею думать.
–– Не стоял и ни к кому не встану в затылок.
А время, коли о нём, нынче такое – такое же, какое было бы тогда, когда… на меня стала бы падать стена – когда не стыдно не кричать.
Сейчас, ныне, время крика – Время Крика.
Жевать вдруг все вдруг стали вдруг даже на ходу.
Почему именно жевать? Почему именно все?.. И почему – вдруг?..
А на то галстучность жизни: пионерский галстук, военно-форменный галстук, выходной галстук, фрачный галстук… Проснулся утром – а я уж в другой стране!.. Проснулся – и я уж не "товарищ", а "сударь", "господин"…
И всем – хоть бы что!
И уж, говорят, стали все равнее и равнее. На улицах, что пошире, стоят и стоят девицы, которые просто девицы… И уж ко мне – прямо ко мне! – на вокзале недавно подпрыгал ребёнок и сказал – сказал уже заученно: по-про-сил… Я вмиг вспомнил, как это в книгах… Получил, упрыгал… Я закрыл глаза…
И все всё стали про деньги… Все-все, всё-всё!.. Я сам раз, в одиночестве, хлопнул, подражая чьему-то жесту, себя по моей ляжке: деньги в кармане – зыбкое и жаркое состояние предобладания.
Притом нынче, вместе с жевательной-то резинкой, всё более разрастается в речи у всех, и в радио, и в теле, сорняк "как бы", – раскованность в мыслях – будто бы! – этакая:
–– Как бы увлёкся йогой…
–– Баллотируюсь как бы в депутаты…
–– Учредили свой как бы банк…
Этакое – как бы! – вольнодумство, на задушевность претензия, намёк на что-то ещё, кроме сказанного, за душой – как бы! – имеющееся… Языком-то родным не дышат, а чихают.
По-прежнему – по-прежнему-то – лишь то, что, мол, живём мы все в одном мире.
Не в моём ли?..
Не знаю вот, в каком мире-то.
Все те, кто "мы"-то.
Только уж – не в моём.
Так-то.
Оглянулся, оглянулся!
У Брата друга звать Анатолий – я зову его Шагай; так этот Толик Шагай после "освобождения цен", в начале-то года, сказал, чтобы – при мне:
–– Ну, теперь – всё!
Как истинно!..
Для одних это "всё" – так:
–– Буду говорить всё, что хочу!
А для других – так:
–– Пока они говорят всё, что хотят, буду брать всё, что хочу!
И всем – хоть бы что!..
И я поднял вёсла.
Я и стал с этого с недавнего времени едко ответствовать.
Какое у меня настроение?..
–– Настроение слуха!
–– Состояние слуха!
А что, все живут слухами. И я живу слухами. Только – от самого себя.
Я, живой, по бессчётно раз одно и тоже говорю-повторяю.
Стыдно – страшно даже теперь, когда я раньше сетовал астрономично: никаких так называемых созвездий нету, звёзды, говорят, брызгами летят во все стороны!..
Бред реальности, бред реальности!
А всем и всегда-то, оказывается, было всё – хоть бы что!..
Поднял я вёсла: если все голосуют – зачем же ещё и я буду?!..
Поднял вёсла: кто какой "строй" придумал – пусть он его и строит!..
Поднял вёсла: некогда мне у Брата, с его женой, клеить и красить: я потому-то и холост, чтобы было время разобраться прежде во всём!..
Осталось, кстати, у всех – и это тоже с коллективных времен: если кто, поближе, живёт иначе, родственник, сослуживец, – обгадить ревниво его: ведь все – будто с одной стартовой черты.
И мне – далось!
Я на свете – побывать.
И покой, и трепет, и покой, и трепет…
Словно потрясли меня за плечи: я не во времени, а – во временности.
Побывать! – Этим объясняется, в конечном и тайном итоге, всё поведение каждого и любого.
Хорошо, что есть такое слово: умиление – о, целым и цельным себя нахожу: всегда, всегда мне важно было не происходящее само, а смысл происходящего.
Повторяюсь-думаю: да чего-то да доцарапаюсь.
Звук есть, ну, который один-то на всех. А вот уха одного на всех – нету!
И нет просто мира, который – вообще.
А есть так: я – в моём мире, ведь других не знаю!..
И кишмя кишат вокруг меня другие миры, какие-то миры…
Покой – от мира моего. Трепет – что вокруг миры другие.
Впервые это слышу – и что ж, что от себя самого.
Ребёнок – это очень не я: разве что похожим я был когда-то… Старик – разве что похожим буду… Девушка, женщина – это очень-очень не я – совсем уж, вовсе уж… Любой, каждый другой – это прежде всего – не я, не я. Прежде всего! Потому что, если не так, зачем я? И зачем я – я?..
Трепет. И покой.
Но чую – со вчерашнего, может, дня, – что и этого, что далось, мало! И ещё выше вёсла в себе поднял: куда уж понесёт – лишь бы ещё далось, лишь бы далось!..
Ведь если все одинаково – побывать в жизни, то… почему они, половина на половину, противоположно разные?..
И словно бы я нынче в том открытом космосе! – Собираю конструкцию.
Конструкцию.
Новую.
Сам.
Свою.
Мою.
Мою модель Мира.
Только бы далось.
Закончил я барабанить страницу и… с позором стал готовить опять: копирка на лист, копирка на лист… Не только Мане и этому Веретенникову – Зданию всему словно было понятно: "обвиниловка" могла бы и подождать – "человек"-то почему ждёт?..
Это был, учёл я, конечно, так называемый молодой человек.
Чего боюсь, чего боюсь?..
Правдиво прислушивайся к себе!
Холодно-честно признался себе: и Маня, и "человек", даже радио нужны мне сейчас, нужны тут!..
Раня себя, узнаю ранимо случайно, что ведь не один я сам, но и другие, другие-то, смотрят на меня.
Пьяная девчонка, однажды было, плакала в магазине, грелась и плакала – и вдруг просипела плаксиво-пьяно на весь магазин:
–– Ну, чего смотришь-то?!..
И оказалось – мне, мне…
А раз ехал я, в автобусе, в деревню: на соседнем, через проход, сидении – он и она. Весёлые и громкие… У них, у Весёлых, огромный был букет живой, делавший внутренность автобуса необычным пространством.
И вдруг они враз мне внятно:
–– Всё будет хорошо!
А я был просто в шляпе, я просто смотрел на дорогу…
…Так что, что слышал Маня по телефону, когда смотрел, не видя меня, на меня?!.. Зачем, зачем приходил Рыженький, коли только посмотрел на "ящик"?..
Сижу, сижу…
Так ведь и все – побывать!
Если же о всех – сразу обо всех, то все, прежде всего, – озабочены. Так как не знают, зачем они. Озабочены – и посягают на меня. А чтоб посягнуть вернее – затрудняют. А как злее затруднить? – Да обвиноватить!..
Вот формула присутствия в людском мире.
Я, прислушиваясь к себе, посмотрел на телефон, на двери, на Маню, на Веретенникова – вокруг одни подслушивания всяческие.
С мига того качающегося, плывущего не раз со страхом собирался сказать себе, мне:
–– Выключи звук, выключи звук!
А это как-то певица пела из телевизора, а я и убрал случайно звук совсем – и тут будто только и включил телевизор, тут только будто и увидел её, брызги слюны из её пасти, язык огромный, зубы анатомические и, главное-страшное, только тут услышал её наглый бесстыжий вопль ко мне:
–– Славы! Славы! Мне! Мне! Славы! Гад! Ненавижу!.. Славы!
Сижу, сижу…
Вчера-то в троллейбусе!..
В ухо мне сзади кто-то задышал громко:
–– Ждите! Ждите!
Словно вот-вот что-то такое случится, что грозит мне или всем.
Я вздрогнул – но троллейбус ехал да ехал…
Слова же и боль в плече всё звучали – но я уже сомневался: мужской ли то был голос, или женский, только что или… давно…
И вся жизнь – голос этот: в ухо – мне, и – сзади, и – незнакомый. И вся жизнь – напряжение от вот-вот грядущего…
Я, наконец, смело посмотрел на Маню и увидел, что он думает обо мне, вернее – думает ошибочно. Щекой узнал, что и "человек" Веретенников, думая обо мне, думает ошибочно.
Ошибочное мнение и называется мнением одного о другом, одного о другом.
Неинтересно тут, в Городе, общаться: если спрашивают – лишь бы тебя затруднить, и не знаешь лишь, как поглупее ответить.
Люди, они – скучные люди: что ни скажи – никто никогда не воскликнет прежде всего:
–– Верно! Неверно!
Всякий прежде, прежде всего-то, клюнет в плечо соседа в полголоса:
–– Это – кто?..
Касания, просто касания…
По мне же, другой всякий, всякий другой – лес густой, непроглядный… и вдруг меж стволов – просвет на один миг!..
А бывает ли тебе с самим-то собой спокойно?..
Не делаю против воли другого.
Не спасибо ли за это ждёшь?..
Безошибочно я печатал – и ощущал, как худеют мои щёки, как выжимает меня тот Крен… И обо всех в Кабинете, обо всех даже на свете находил сейчас в себе самую настоящую свежую отроческую боль.
Глаза, глаза, глаза…
Видел женщину, что допрашивал Маня, а слышал:
–– Я женщина, ты мужчина, а вот ты меня и не достанешь!
Милиционера увидел в окно во дворе, но услышал:
–– Я маленький, я тупой, но вот ты меня и не достанешь!
Начальник, Начальник который, он тут, в Здании, в его большом кабинете:
–– И я, и ты в органах – а вот ты меня и не достанешь!
Из радио:
–– Я глупа, я така, но вот я веду передачу, голос мой ты можешь уменьшить или заткнуть совсем – но вот ты меня и не достанешь!..
И как бы – о-о! – мне сейчас прогнать, не допрашивать этого моего "человека"!..
Клава, Клава пришла!
Я смотрел – я видел: Клава пришла. – Как я, оказывается, ждал её, Клаву!
Бойкая, всегда и всюду с губами растянутыми: словно знающая о моём вчерашнем с кем-то поцелуе.
Смело, почти не позорно, велел я Веретенникову прийти завтра, – правда, спеша, не сказал ему время.
Уж она-то, Клава, – там, где она, – по-всегдашнему с делом у груди, везде наверняка и сегодня поспела!..
Но Клава хоть как раз и на меня глянула, да только от самых дверей… И, растягивая губы и больше на меня не глядя, значительно равнодушно вышла…
Мечты, мечты!..
Поздоровалась ли она? – Нет… Тяжело мне стало попадать пальцами в нужные клавиши от оставленного тут, в Кабинете, Клавой намека:
–– Всё я знаю!.. Не вздумайте же подумать, что не знаю!.. Пораньше и получше других знаю всё.
Как я раньше красиво думал: люди вместе не тогда, когда они рядом и тесно, а тогда, когда они, хоть и врозь, смотрят в одну сторону!.. Или: одиночество моё – нормальное состояние; оно лишь для того, чтобы учиться выразительно сказать об этом.
Я живу в мире, в котором живу я. Не в котором я – живу. А именно – в котором живу я!..
Пошли на обед – быстры или долги были эти полдня? – Маня Кабинет стал запирать сам: всегда-то я запирал… А я, чуть шагнув, в коридоре ощутил волнение идущего по одной доске – волнение от скрытого волнения: ведь буду сейчас, в столовой, у всех на глазах!..
Там, и верно, ощутил: на каждое моё телодвижение – по целому кодексу.
Сели с Маней, само собой, за один столик – но он, перед тем как поднос свой поставить, покосился-таки на столик соседний…
Маня в начале, было, стал меня дисциплинировать: хоть и не пьёт и не видно, что выпивает, но намекал на "бутылку" и на мои вопросы по работе отвечал, для значения, паузой. Я же начал демонстративно спрашивать у всех входящих, и он стал победно отвечать первым, чуть не раньше моего вопроса.
В столовой были бряк и стук, бряк и звон… В тарелке моей было всего лишка…
Всё казалось, что всем слышно, что я думаю.
Я бы тоже болтал:
–– Теперь такое расхлябанное время, умудряющее…
Не бывает никакого "такого времени"!.. Есть всегда одно время, одно – в котором живу я, в котором живу я!
Маня раньше ложку салфеткой протирал и всё про гарнир – сегодня же молчал, а протирая, покраснел… И ел как-то умело.
И будто на всю столовую говорилось сейчас: ведь я – пусть и сам лишь для себя – Маню зову Маней: его, Статова Михаила Михайловича, старшего лейтенанта, зову Маней! Так – по мне – вернее, правдивее. А Березину зову Томная. В себе-то. Свищёва, правда, Свищёвым… Но уж вон того тактичного Милонова – Выхоленком… А у кого-то, вон у того, даже и фамилии не знаю: для меня он то Ляпин, то Авосюшкин… Имена и названия новые почти всему и всем тут подобрал. И не только тут…
Маня – там, где он ел, – убежал, не доев… Все – там, где были все вокруг, – силились на меня не смотреть…
Поодиночиться чтобы, я надумал повестку, что ли, на завтра одному "человеку" домой отнести.
И, одевшись, не на мартовский снег и ветер вышел, а именно – после начала Крена вышел…
По твёрдой Планете пошёл ощутимо.
И то, что сейчас случится, интересно уж мне теперь было до волнения…
Прохожий так называемый – он там, где он по своему, по его делу, как он думает себе, идёт… Во-он! Далеко он ещё… "Прохожий"! Слово-то какое… И вот, шагов за пятьдесят, уж, вижу, чуть глянул он вперед, будто бы просто так, сам того даже не заметив, а всё-таки – на меня, на меня… Мол, кто там, впереди-то, кто?.. И идёт себе опять и идёт, словно и не глядел только что и словно не предстоит сейчас ему сблизиться со мною… Но шага за три до меня – подымет глаза! Подымет, небось… Подымет сейчас…
Какое всё ж таки строгое приказание – сегодня впервые ощутил – слышат и мои верхние веки!..
Вот он и поднял.
А как же иначе!.. Он ведь всего-навсего считает, что вышел по какому-то там делу. А оказывается, он – как и все – для того лишь и выходят на улицу, для того лишь и ходят по Городу, чтобы – посмотреть, посмотреть на меня, на мои глаза!..
Целовались вот на остановке девушка и парень ртами, а когда разомкнулись – таки поглядели в сторону-то, на меня-то!..
О, как мне всё ведомо…
Самое больное это нынче моё больное!.. Только тут, на улице я, признаюсь и признаюсь, и посмел подумать так.
Посмотреть друг другу в глаза означает целый поступок совершить.
Будто бы просто мельком брызнул вот этот на меня своим взглядом: чего уж, мол, там – все мы одной разрешимости. Сам же он, лукавя от всех и от себя, сказал мне, да, сказал: вот – я, я – вот, видишь ли меня? – в жизни, как, вероятно, и ты, и я попал сюда, в жизнь, для одного – побывать, побывать, и что это значит – не знаю, и я занят только одним – перебываю, перебываю жизнь, и для спокойствия – как большинство, но верно ли перебываю – не знаю; так вот хотя бы сверюсь, глянув тебе в глаза, по тебе: а ты – для того-то лишь ты мне и нужен! – как, ну, а ты, как ты?!..
Мало того: я, прохожий случайный, хоть и не знаю, почему и зачем живу, я ещё и из своего мирка посягаю на тебя – призываю жить по-моему!..
И миг единично-ценный у меня отымают.
Такой-то он, Прохожий, тотчас забывшийся!..
Это лукавство меня раздражает, досадит!.. Я уж нарочно, в отместку, нарочно гляну в сторону – и он… туда же, дурдур, повернётся.
Толкают меня, задевают меня, кричат на меня, говорят мне, косятся на меня, шепчутся обо мне, оглядываются на меня, подслушивают меня – это я знаю-чувствую с самого мальчишества раннего…
Разве есть у меня какая-то дума, знание, догадка?..
О, вроде бы я ко всему и ко всем всерьёз всегда – и от всюду и от всех всегда ухожу.
Не люблю транспарантов, теле и газет: все-то их в миг в этот лапают глазами!..
Люблю – идти, идти – люблю: в ходьбе слышней моё право на одиночество.
Ветер, ветер какой сегодня новый!..
Она – она сегодня ко мне опять заходила. Зашла, вышла. Пусть и так.
Самое великолепное явление природы – счастливая женщина.
Или я, почему-то виноватный сегодня, оправдываюсь?..
Я заслан не в Город и даже не на твёрдую Планету – я сам есть и орган, и город, и планета, – а я заслан в тело, которое почему-то моё.
Побывать, перебыть…
Далось же мне так это: ходил дворами, дворами ходил.
И голова поначалу, было, от этой очевидности закружится.
Увидел я тут, как собаки, метались, замирали, и одна – величиной с кота.
Не хочу я это видеть!..
На фото в киосках теперь запросто могу я видеть: двое – голые и отличаются только тем, чем отличаются, и занимаются они, двое, тем, чем отличаются…
Да не хочу я этого видеть!..
Мир делится не на страны, а на странные души.
Вернее – не на стороны, а на сторонние души.
И бреду, чую, сквозь дымки чужих душ.
И всё я теперь через дворы, всё наискосок, всё – прямо. Даже – сквозь иной дом, который с аркой. То-то, матёрый горожанин.
А поначалу – смех: ходил по улице до перекрестка.
Дойти до угла – до угла дойти так: тарелку – доесть, книгу – дочитать, вуз – окончить, для распределения – жениться, для квартиры – родить, для должности – перевестись, для следующей – вступить в партию, для стажа – терпеть.
Ходить же дворами – быстро и… невидимо.
Встал я тут и загорелся ощутимо…
На обыске недавно – и увидел я на полке корабль, и с парусами… в бутылке… О, в бутылке!..
Раньше бы промолчал, а теперь, во время Крика, всё равно терять нечего, раз уж "ну, теперь – всё!" – и привязался я к хозяину: растворяя, сам жалея об этом, профнапряжение:
–– Как можно было бутылку сделать, изготовить, вылить на корабле, вокруг корабля?..
Хозяин заулыбался, но – со страхом, почему-то ещё и с большими страхом… И он, и "опера" стали вместе – пренебрежительно вместе! – кое-как давать мне понять, что – наоборот, как-то наоборот…
И не сразу я – там, где я, – понял, что это за "наоборот":
–– Корабль собрали… в бутылке?!.. А… зачем?.. Зачем именно в бутылке?.. Ведь в ней… труднее…
…Я не живу в мире, в котором нету меня, меня.
Я не живу в мире, где консервная банка в лесу, окурок на асфальте, избитый ребёнок, обиженный старик, загаженная река, истоптанная луна…
Я знаю лишь про это… Но – я не живу там!..
Потому что – в самом деле не живу.
Увидел я в чёрных вдруг женщин в платках! – Навстречу мне, посягая на меня, они, ругаясь и призывая, быстро шли…
И будто они такие и так – по поводу гроба вчерашнего: вчера у подъезда у одного, тоже так же на меня посягая – чтоб я видел, чтоб видел – крышку красную выставили с лентами с чёрными…
Старушка вон терпела свой горб – всегда-то мне – там, где я, – старухи попадаются! – и дурманяще ясно уверился я, что это ведь… про неё и тот гроб, и те платки!..
…Здание я увидел – и словно бы увидел его вдруг, так как лепетал:
–– Вижу, все ходят по магазинам, по друзьям, по аллеям, а я – хожу по самому себе.
Радостно, было, вспомнил деревню…
Но Отец там однажды, тоже вспоминалось, сказал:
–– Мы с Иваном баню рубим.
А рубили-то – втроём!.. Отец, брат и я.
Да ладно…
Часы за браслет из кармана. Как однажды – в начале Времени Крика – их с руки снял, так больше и не надевал: ношу, с тех пор, в кармане.
Шагов уж за несколько до Здания точно и горько ощутил, что я… таскал его, это Здание, сейчас в себе, с собой, во мне, со мной…
С тоской признался себе, что хочу, чтоб Мани в Кабинете, разумеется, не было.
Тут же Красивая – я увидел её, посмотрев спокойно на неё, – вошла. Кивнула… О, какая она всё-таки… незамужняя!.. Брала бланк – двигалась сегодня влажно, затянуто… А обычно – дерзко хлопнет шкафом.
Верно и зорко смотрела на меня одним лишь мелким родимым пятнышком на её шее под её ухом.
Походя, по привычке, во мне затикало: она – женщина, то есть думает определённо.
И вдруг благодарность в себе, во мне, ощутил… За ту её дерзость, и за сегодняшнюю её медлительность.
Но и Томная – и Томная тоже тут вошла!.. За бланком-то.
И Красивая, уходя, хлопнула-таки дверью.
Вспомнил я вдруг: однажды Томная приходила с подругой, которая будто бы просто с нею… Чтоб на меня посмотреть.
Зашли тогда, вышли…
Я встал, наказанный.
Томная пошла, ожидая окрика…
О, невыносимо сегодня ко мне требование игры и слабости!..
Иной, слышу и вижу, чуть взял трубку:
–– А, это ты…
И во мне – зависть, что нет у меня такого права: столь небрежно-понятливо откликнуться на более чем знакомый голос.
Но нет у меня и такой обязанности: именно небрежно-понятливо отозваться на единый факт пусть хоть одного дыхания в трубке. И во мне – гордость уцелевшего.
Говорила, руки в бока, женщина мужчине:
–– Подай собаке лапу!
У хозяев – они, как и я, были тогда в гостях – была собака та.
И я, помню, понял: какое счастье, что никто на свете – никто, ни одна – не может этим восклицанием адресовать мне мстительного намёка:
–– А то…
Мой!
Моя!
И у меня сохнут губы – лишь от возможности-то такого моего ужаса.
–– Никому не достался! – старуха-старушка сказала, хозяйка, когда я, студент, съезжал с её квартиры в "общагу": к ней то и дело чай пить ходили – посягая-то – две внучки…
…Я стыжусь быть чистым.
Совершенно чистым.
Мне о ней, о чистоте, не говорили, не говорили мне – о ней.
Никогда, никто.
Но я знаю о ней.
Значит, она, чистота совершенная, была и до меня!..
И я стыжусь не других, кто рядом, а – себя. Просто мне тесно, когда другие – рядом.
Стыд и есть со-знание.
И лучше – наедине.
Наедине – ответственнее не бывает.
…А Мани нету…
Я встал и, быстро глянув на дверь, сел.
Вдруг всерьёз испугался: обвинительное заключение такое большое – а я печатаю легко-легко…
Вдруг, подражая кому-то из знакомых, стал говорить себе:
–– Ты как-то странно рассуждаешь!..
Крен – будто ветер – я ощущал такой, что волнение было – как на карусели!
И словно я лишь вчера пришёл сюда работать… Все тут вокруг, как три почти года назад, говорили и говорят мне глазами и даже спинами:
–– То чо, закурить, скажешь, не хочешь?
–– А я не курю… бросил… брошу…
–– Ну, выпить, что ли, не хочешь?
–– Нет, не хочу… не пил…
–– Ну, бабу, что ли, не хочешь?
–– Какую?.. О чём хоть?..
–– Ну так что ж ты тогда тут из себя строишь-то?!..
И пока был в Кабинете один, вернее – пока в Кабинете никого не было, я ощущал… нежность к нему, к Кабинету!.. Он в Здании – будто в улье сота одна, одна, но – моя, родная…
Держись, самая моя правдивая правда! По крайней мере – на какую я, на сию минуту, способен.
Побывать-перебыть.
…Сотворение мира – это давание миру названия.
…Тело ведь даже моё – мир, в котором я не живу. Моё тело чешется – но меня же нету в мире, где у кого-то чего-то чешется!..
Я печатал теперь, чтоб продлить эту удобную занятость, не спеша, не спеша…
Маня вошёл.
И досада стала, при Мане, заунывная – знакомая, мальчишковая: хоть бы раз в неделю – одному, без глаза, без вопроса! А то и родители, и учителя – все-все-все:
–– Если он один – то что же он делает?!..
Тело своё, моё, я, однако, обселил: люблю баню. Вокруг же всё обселяю между прочим: не я локтем кого задел – а он меня, не пищит комар – а ехидно пищит, не узоры в мороз на стекле – а папоротники, не разводы на потолке – лица черты…
Полёт Кабинета, который, с Маней, перестал быть только моим, в конце концов стал меня пугать…
И я нарочно встал, пошёл к двери, вышел… правда, не зная, куда сейчас пойду… По коридору идя, заметил, что иду, чуть семеня.
Мать!..
Маму увидел в конце коридора…
Мама?!..
Миг – и она исчезла там – в том конце коридора!.. То ли за углом, в кабинет ли вошла в какой… в стену ли… в воздухе ли растаяла…
Мама?..
Восторженно и жутко сделалось мне!.. Прояснённо и дурманно. Я спохватился: ноги, которые – мои, стоят, стоят… Стиснул зубы. И пошёл… обратно…
Запах события, которое – явно про меня, словно бы враз изменял мой, что ли, возраст – только в какую сторону?..
Побоялся я, в Кабинете-то уже, сразу опять печатать… Пожалел, что теперь не курю. Пожалел, что когда-то курил.
Пожалел, наконец, что это всё не бред.
И так – при Мане!.. И он даже не допрашивал!..
Оголённым, бесстыдно оголённым ощутил я себя – уж лучше бы мне смотреть в глаза в чьи-то…
…Жизнь не читается, как книга, с закладкой – но где откроется.
…Не любил – не знал даже, как же это так: я тут, в "органах" – и вдруг сюда в Здание… заходит знакомый какой-то мой, тем более – родственник!..
Потому что – ничего, ничего, ничего неслужебного у меня тут, в Кабинете, в сейфе, в шифоньере, в Здании во всем у меня нет и не может быть!..
Брат, правда, был тут у меня раза два, да и то – в начале в самом, да и то – мельком.
Страшно – с нарастающим страхом страшно мне было: Крен… коридор… Мать… Правда – видел ли её?.. Её ли?.. Издалека, в спину, в пол-оборота…
Главное – видела ли она… что я её видел?..
Я, школьник, спорил с мамой, Брат вроде бы просто был тут же – а потом он и включил магнитофон!.. Страшно сделалось наивным, свежим, беспомощным страхом. В устройстве том – я украден, раздет, выставлен… предан, схвачен, обижен…
Но ничего оголяющего у меня тут, в Здании, ни в кармане даже моём, нету, нету, нету!..
Разве – речь моя новая. С Нового-то года…
Спрашивает кто:
–– Чем занимаешься?
–– Тем же, чем и ты.
–– Чем же… занимаюсь я?..
–– Осознанием минуты.
И все переглянутся – чистосердечно и в чём-то неопытно.
Забрезжил, что ли, во мне характер – после "распада"-то и "освобождения"?..
Характера, походя задумалось, вообще нет, не бывает – есть сила боли, боли от меня, боли в теле, которое моё.
Да и кто в целом Здании может мечтать против меня? Дело чужое заволокиченное мне суют, дескать, веди, я только и брошу:
–– Куда?
Кивает мне кто бровями на телефон – я прямо в трубку хмельно-ретиво и чётко:
–– Пусть подслушивают. Умнее будут.
Так-то ко мне примерилось нынешнее жующее и кричащее время: партбилет сразу снёс и сдал.
В частности: "Так как за восемь лет ли разу не выступал на партсобраниях." – Нигде, ни на каких…
Я и всегда-то, оказывается, лишь заставлял себя думать, кем мне быть, сам же всегда – кто я есть.
Что ещё? – Со Времени Крика ко мне в "общагу" стала запросто-дерзко ходить Дева!.. Но ведь то – в "общагу"… И она никогда не "шла" никак, ни по какому делу… Да и – знают ли?.. Да и – эко дело!.. Да и – пусть попробуют!..
Слышу Время Крика!
Раньше только другим боялся я в глаза смотреть: вдруг узнаю о другом самое важное… Теперь – и самому себе, мне, смотреть в глаза страшно.
Знаю!..
А непонимание причин поступков – самое ведь очарование…
Может, за эти месяцы даже изрёк сонно-детское крайнее:
–– Ну и что?..
Недаром Томная недавно, "без никого" в Кабинете, обратила мне моё на это внимание.
Я ей:
–– А я вот как скажу!
–– Что, что ты скажешь?..
–– А вот я сейчас возьму, да как скажу!..
–– Что, что?!
–– Скажу: "Ну и что?"…
Она скованно помедлила и скованно вышла, и видно было, что в эту минуту всё-таки не решила решать…
На другой, что ли, день Хорошая – ведь она с нею в кабинете – сказала не вдруг мне:
–– Ты изменился.
С вопросом, правда, сказала и с уверенностью, – хорошая! – что это не так, не так…
Мне же надо было молчать – во мне шевельнулась откровенность пугающая терпкая: Хорошую я чуть не люблю, потому что она похожа на… односельчанина моего и словно бы поэтому может знать обо мне больше других.
"Сидит на малолетках".
Не надо разочаровывать, не надо разочаровывать!..
Но – но неужели… Мать приходила?!..
Думаю-то как смешанно и всё как спохватясь…
Приходила или не приходила.
Как – хуже? Хуже – как?..
Сижу, сижу…
А с Братом я на днях опять, не надо было, слегка поссорился…
Почему?.. А всё подразумевал его… ну, эту… жену…
Заговорилось вдруг мысленно – чётко и громко:
–– Она была некрасивая, и чтобы показать, что она всё-таки не такая, как все, она не пила, не курила и не ходила на танцы… Некрасивая, и поэтому умеет готовить и шить, играть на баяне и вязать…
Глянул я даже на Маню: не слышал ли он моего мычания?..
Возьми себя в руки!
В свои.
В мои.
Но опять заговорил мысленно громко:
–– Сила воли – говорят: хорошо. Но опять-таки – сила!.. Как всем сила-то – любая, любая! – мила… А я – слово, мне – слово: сказал сам себе слово, и будто я уже окутан, объят, окружён этим словом и пребываю содержательно и исполнительно внутри его, этого слова.
Уже, между прочим, печатал… Поэтому на другую, конечно, тему себе громко:
–– В деревню в последний раз ездил – по дороге на обочинах всё баллоны и кресты… А приехал – Мать рассказывает: соседку, молодую-то такую, муж убил… Вот тебе и теории все и всяческие! У нас сейчас идёт житейская бытовая война, назвать бы которую рав-но-ду-шие: тысячи и тысячи погибают по неосторожности водителей и тысячи… по неосторожности жён.
"Обвиниловку" печатаю – и кстати: мне из Кабинета и вообще из Здания ни в коем случае нельзя выходить!..
Маня хоть и сидел передо мной, но словно бы был где-то, где-то…
Он – слышу – в трубку:
–– Нет, я сейчас подготовлю постановление…
Да, ещё и это в речи нынче распространение:
–– Нет, я сегодня включил телевизор… Нет, я обязательно пойду на митинг…
Дескать, нет, я не буду, прежде всего, вещать чужое, но и, нет, не буду врать и своё!
Думалось, под машинку, походя: я жил так, словно видел, как в школе на уроке, рисунок ладный на бумаге из опилок металла – но не видел того, под бумагой, магнита.
Теперь – вижу!
Что? – Что я, который таскает круглый год демисезонное пальтецо чёрное и шляпу одну и ту же чёрную, – отчего "по камере" (общение, мягко говоря, арестованных и задержанных), говорят, меня и зовут Чёрный, – вот что я этому Зданию и всем в этом Здании сделал?!..
А все на этом самом белом свете – побывать.
Это ведь только в разговоре, слышу, у всех такое насекомое:
–– Знаю я… Знаю! Да знаю я… А как? Ну а как? Да как?!..
И обо мне, молодом, здоровом, сильном, сегодня имеют что-то совсем иное в виду…
–– Ты счастлив? – вдруг спросил я Маню смачно и внятно…
Не надо! Не надо!
Маня же, получилось, не расслышал.
Да и в Кабинет-то ко мне все ходят, чтобы – тайно от себя – понять… для чего живут!..
Я же – никого никогда не трону, не окликну, я уступлю дорогу женщине и место в троллейбусе старушке, и калеке помогу, и нищему подам… Но я – не жду – ни от кого – ни за что – ничего.
Побывать, перебыть…
Я сам не знаю, от какой благодати мне – далось.
День, что за окном, стал вянуть, словно забывать, что он – день… Известно становилось всё более и более, что бывает и вечер, вечер… Уж на стене дома соседнего среди квадратов тёмных плоских вдруг стал один квадрат розовым и глубоким…
Печатал – и пришли… Ожиданно неожиданно.
Сидел себе, печатал – и вошли. Вижу: Свищёв, Клава… И
Зрелищ… В седьмом-то часу!..
Бред реальности, бред реальности!..
Неужели все всё ещё "у себя"?.. И у времени про меня смысл?..
Маня – который тоже, кстати, не собирался уходить – уточнил допрашивать громким шёпотом.
Я встал. Навстречу-то.
Зрелищ мне руку пожал, как всегда, поощряюще крепко, но сейчас – ещё и вспоминая что-то обо мне. (Люблю и я его, понял я, за то же, что и все: добродушен, побабист и пузат.)
Свищёв – и явно от лица Зрелища, старшего, что над ним, – сказал мне, как бы в попытке искренности, мол, надо бы с тобой, со мной, поговорить.
Я собрался, сэнергировался, посмотрел даже, может, и чуть иронически:
–– Поговорите.
Клава губы растянула чуть.
–– Ты смеёшься, что ли? – Зрелищ вдруг сказал новым мне и ему самому прояснённым голосом, и поверх моей головы глядя.
Страшно, страшновато стало, настало…
Дурнотой лёгкой на меня понесло – так как пахнуть стало словно всё иначе: из-за какой-то невозможности состоявшейся. И будто даже возникла нужда в вопросе: стучать ли сердцу?..
Разоблачённо-трезво вспомнил, как ещё недавно красивое мусолил: надо заполнять всё – моим!..
Простительно намекнулось мне мною – словно бы из-под нескольких слоёв мыслей: вот и до тебя, до меня, дотянулось то, что есть… эти… те "органы"…
И словно вчера, а не на первом году было: Муза, экспертша-то, взяла у меня "пальчики" (я на "месте" делал осмотр и брался за всё), "откатала" меня, пошла уже из Кабинета, но оглянулась и сказала внятно и с пониманием чего-то словно бы моего, моего:
–– Я тебе их верну.
Я тогда – задохнулся… от неумения… общаться… Будто она выносила, оставляя меня нагишом, мою одежду.
Понятные слова лишь минуту спустя нашлись: суть не в том даже, что у меня нет повода волноваться, а в том, что мне всё-таки говорят – и ждут, ждут, как я среагирую.
–– Чего ты боишься-то? – крикнул я себе в себе, мне во мне. – Ведь я – уже я!..
Но стоял подчёркнуто прямо.
Свищёв – за всех, за всё, пожалуй, Здание – предложил мне сходить с ними "вниз", в ивээс.
И все при этом протяжно посмотрели на меня. Даже Маня, словно печатал – о внешности моей.
Я ощутил, что у меня что-то появилось на лице. Я вдруг болюче пожалел: и зачем мне потребовалось когда-то становиться из совсем маленького маленьким, потом из маленького – школьником, потом – молодым человеком?..
Радостно ярко, сочно ощутил я, что постоянное моё состояние, может, с младенцев – что я ничему не поддался!.. И все видят, видят это – и ждут, ждут: вправду ли ничему-ничему я не поддался?..
–– Ведь я – я…
И – пошли.
Ценность единичного, ценность единичного…
Пошли по коридорам и лестницам, и я спиною и грудью чувствовал их, троих.
У двери, у ивээс, Свищёв позвонил, и все трое стояли ко мне лицом и смотрели на меня…
Войдя, Свищёв никого "не выписал"…
Голос, в одном из кабинетов, был Шуйцева…
Я вдруг понял, что мне надо идти на этот голос… Пошёл – и словно поприще новое ещё только начинал, словно ещё впервые в ивээс…
–– А ты что тут делаешь?!..
Крикнул прямо я так.
Кажется или не кажется?..
Ещё за порогом.
Удивлённо-легко, на миг, стало мне – о-о! – и всецело-ново: а где же сейчас мой Брат, где мой Брат там, в Городе, если, ежели сейчас он… тут, здесь, передо мной, в ивээс?!..
Ваня – Ва-аня, Ва-аня, такой тут чужой, сам себе новый, строгий – посмотрел, сидя и не зная, встать ли, – посмотрел мне в мои глаза глупо – и стараясь смотреть именно глупо…
Понялось вмиг, что должен – должен, должен! – я сей же миг, несмотря ни на что и во что бы то ни стало, дерзко… подпрыгнуть!.. Потому что – смотрят.
И я – поскольку все сейчас на меня смотрели – понял всё, всё.
Понял всё.
Сглотнулось слышно и видно для всех…
Ощутил, главное, что здесь, в этом Здании, там, наверху, на втором этаже, за дверью одной – мои пальто и шляпа… И – что больше ничего моего в этом строении нету…
Услышал я, как тут кто-то что-то сказал, спросил, ответил – и услышал я такое. В какое-то время, такого-то числа, в такой-то даже день недели, в таком-то часу кто-то где-то был и – и он же там же в то же время не был…
Ваня, глазами не понимая, почему я этого, о чём сказали, не понимаю, медленно поднял свои, его, плечи и не стал их опускать.
Я – видя, что все, кто тут, видят, что у меня в моей жизни сейчас ничто иное как позор, – сказал то, что я знаю об этом, который сейчас у меня в жизни, позоре:
–– Он был у меня.
Ваня, подтверждая мои слова, дёрнул было ещё выше поднятыми плечами.
Услышал опять я, мол, что-то может быть, и не так.
Ваня покрутил головой – не то чтобы от несогласия, а просто от незнания, как и что тут, в этом доме, надо делать. И, всё не опуская, на всякий случай, своих плеч, сунул мне комочек бумажный.
Шуйцев выстроился, красный, чтоб скорей отнять… Но я исподлобья на его пуговицу на его кителе глянул – он и руку не посмел протянуть.
Комочек развернул я – повестка… Прочитал – и будто меня сейчас, связанного, раздевают, щупают, лапают, и даже тело моё предательски отвечает на это щупанье…
Заметил тут я, что все в кабинете – а все так и смотрели на меня – сейчас вдруг явно начали узнавать обо мне что-то новое!.. И не сразу я понял, почему и что это новое: в горле моём запершило, щекам стало щекотно, и как бы таять – скорей, скорей на холод! – стали мои глаза…
Ново и для меня это было настолько, что я забылся: кинулся прочь, прочь!..