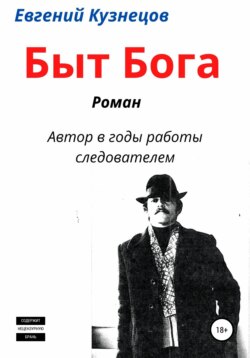Читать книгу Быт Бога - Евгений Владимирович Кузнецов - Страница 2
Часть вторая
ОглавлениеПрибежал – бежал или… быстро бежал, или… ещё как: не видимо даже для себя, для меня, – в Комнату… Вот – Комната, вот я – в Комнате уже, в "общаге" – и ничуть не задохнулся, вернее – некогда, значит, дышать и дышать было!.. Рывком будто только что я вырвался, вытискался из туго тесного троллейбуса – невольно и резко, резко и невольно.
От кабинета полного до Комнаты пустой – вроде бы бегом, как всегда кажется в темноте…
Комната – напугала Комната, напугала тут же – своей доступностью, почему-то – ее доступностью…
Резко развернулся. И даже поёжился; как бы кто сзади не задержал…
Я и не стоял, я только останавливался.
Рывком я из Комнаты!
И свет вроде не включал.
Нужна, оказалось, и Комната эта – чтоб в неё прибежать, чтоб из неё убежать!..
На улице – испугался улицы, теперь уж улицы: бежать бы – просто бежать, а тут надо – куда-то, куда-то… Находчиво, походя, осознал, что в Городе – магазины, вокзал, и можно запросто зайти и посмотреть… цены, что ли, расписания…
Теснота пребывания, теснота пребывания…
И уже шёл…
И уже давно, оказалось, шёл…
И уже давно ходил…
И ходил уже, наверно, давно…
Заходил куда-то, чтоб куда-то заходить, и уже стал видеть, что заходил туда, куда уже заходил…
Рывком заметил: вот – я, и я, похоже, думаю…
Я – жду, я чего-то сейчас жду… И я не хожу и не захожу вовсе никуда. А чего-то жду… И – быстро иду, жду быстро… Я как из кабинета того прочь – так и стал ждать быстро.
И, рывком, даже спасительно подумал: так курящий я или некурящий? – Голова, хорошо, сразу же закружилась…
Не всерьёз думаю: не в свой серьёз, а – в чей-то.
Рывком начал вспоминать – рывком вспомнил: я – это я, я в жизни – побывать, я о всех – что они не знают, что они в жизни – побывать…
Рывком представил, и с растерянностью: как бегал в Здании по лестницам, по коридорам, сталкивался с кем-то… как бегал в "общаге" по фойе, по коридору, сталкивался с библиотекаршей и вахтершей…
Рывком болючим вспомнил, как у меня запершило в горле там, в ивээс, и все видели… слёзы… Чьи?.. Да мои… О, мои!.. О, слёзы!..
И сразу опять зачесались глаза – заскрипел на них зубами.
Я и не по Городу сейчас бегал – а я будто хотел выбежать откуда-то, и притом, наигравшийся, в какую-то другую дверь…
Заметил вдруг я: опять я в Комнате в "общаге"… Кровати, их – раз, два… стол, стула два…
Буду теперь в Комнате и – что же?!..
Нет! Нет!
Развернулся я, вышёл, запер, пошёл по коридору…
Оказалось, на улице – сыро, скользко… Оказалось, что давно хочу пить… что все магазины закрыты… что уже – ночь, настоящая ночь…
Повернул обратно…
Вдруг отчётливо подумал, притом – как будто не для себя, а для кого-то: а не подозрительно ли это?.. Что только зашёл – и сразу вышел… Что чуть вышел – и сразу зашёл…
Вдруг за мною… следят!.. Мол, если бегает – виноват.
Жаром в лицо мне пахнуло!..
Как же это я тут захожу-выхожу, да ещё и с видом, наверно, серьёзным, когда мне надо и надо каждую бы секунду знать и узнавать!.. Не звонил ли, не приходил ли кто на вахту или в библиотеку, в соседнюю-то комнату?!..
Вдруг уж звонили, приходили, вдруг сейчас позвонят!.. Чтобы мне – скорей в Здание!..
И его бы… отпустили.
Вообразил-вспомнил звук своих шагов по коридору, стук входных дверей, щелчок ключа в Комнате…
Отрок, отрок…
Руки разведя, глаза закрыв – надо было теперь только это – стоял, где встал, чуть войдя…
Разоблачённым, голым ощутил я себя даже тогда, когда раз в Здание пришёл – из прокуратуры соседнего города и по делу – однокашник мой: а ну как расскажет от тут, как я когда-то, ещё в "абитуре", поднес кулак к его носу за анекдот про классика "изма-изма"!..
Стоя тут и стоя так, я, наконец, вошёл в самого себя, в меня, в мысль свою, в мою.
Я – тот, кто в мире, что не просто мир, а – мой мир, мой.
Обжито подумал, что давно город этот, по которому только что вершил свой бег, зову Городом, а комнату эту в "общаге" заводской стандартную – Комнатой. Поскольку в них – я!..
Я и есть я, это – твёрдое. А вокруг этого "я" во мне же – что-то ранимое. И всегда – только и следи за этим ранимым.
Я, помню, школьник, был там, где все в классе, как всегда, – а все, вмиг ощутил я, были там, где они смеялись и смеялись… надо мной: я-то не знал пока про записку на своей, на моей, спине: "У меня жена и дети".
Одинокость – одинокость моя никогда не пропадала, просто я о ней иногда забывал, и надолго.
Брат – Брат старше и… курносый…
Сестра – она не мужская…
А мама, она – мама. У нее, у Матери, – мой Отец.
И мне – некуда мне пойти или поехать. И было так всегда, просто я, зная это, не думал об этом, боялся, что ли, думать…
Глубина пространства, глубина пространства…
Руки раскинуты, стоял, глаза закрыты, стоял… Надо было сейчас только это.
Сегодняшнее – ощутился – было особенно правдивым сном.
Ведь – оба, оба же ведь ко мне просились!.. А я-то первого позвал этого самого Вор… Вере-тенникова… А не того, не второго, не другого!..
И Ваня мне, теперь вижу, не просто брат, а – Брат, Брат.
Веретенников – открыл я когда дверь в коридор и позвал-то его, – он ведь лицо своё на миг повернул (глаза, кстати, с меня не сведя!) в сторону, к окну: удивясь или как бы удивясь, что первым – его, а не того, кто тут же, рядом…
Не того я, не того!..
Лишь бы мне глянуть туда же!..
Вбежать бы теперь ещё раз в то мгновение.
И настало так, как… вообще не бывает… Словно я чуть задремал – а минула, оказывается, неделя.
Камень брошен, брошен – и нельзя догнать и остается лишь смотреть, как он летит…
Руки распахнуты, глаза закрыты… Но всё ведь и случилось – как и вообще всегда и всюду случается так жёстоко-ясно, – чтобы видел я это самое всё своими, моими, неморгающими моими глазами.
Для того-то я и – побывать!..
–– Так он твой брат?.. Ах, он твой бра-ат!..
Я заметил, что устал стоять так.
Счастливо-явно вдруг ощутил какую-то дыру в пространстве Комнаты, которую можно увидеть только с закрытыми глазами: влезть бы в неё – и не будет для меня ничего сегодняшнего плохого… Тепло и укромно ощутился: я – ребёночек тёпленький, свернувшийся клубочком под одеялом…
И со стыдом – словно бы сдаваясь – открыл глаза, опустил, в темноте, руки.
С волнением включил этот самый "электрический свет".
И опять замер…
Прожжённая чьим-то утюгом жёлтая занавеска, заглаженная квадратами скатерть – неужели эти предметы видят меня… третий год?..
Понял, что и ещё кое-что можно сделать… Снять пальто…
Но тут же увидел себя, меня, сидящим на кровати.
Озяб вмиг…
Дрожащей рукой моей достал еле-еле из кармана брюк моих повестку.
Скомканную… Ту…
Развернул: "Вербину Петру Дмитриевичу"… "Шуйцеву"… "10-00"… "209"…
Смотрел долго в стену, замечая, как моргаю моими глазами.
Я… вызывался… на завтра… в соседний кабинет…
Лежал потом долго и пусто. Вспоминал, просто так, что когда упал головой на подушку, шляпа, что ли, где-то покатилась…
Вздрогнуло тело моё – решив, видно, встать… Но я – я вспомнил, что не это надо, а надо – вспомнить что-то. И – посягая на себя, на меня. И давеча я уж начал делать это важное – думать про "того-не того".
Следил, между тем, как пальцы мои складывают повестку зачем-то прилежно…
Я-то я… А где-то есть и это самое "где-то"…
Где-то что-то было как-то "совершено"… Я материал тот даже не полистал… Кем-то было "совершено", кем-то! И как раз, и притом именно в то самое время… когда Брат был у меня… Когда Брат, когда мой Брат был… тут, у меня, здесь, в Комнате, вон на той кровати!..
У меня, у меня!..
И я – для боли – сел и сразу же – для ещё большей боли, от которой я весь вечер убегал, – опять лёг, лёг…
Но почему-то Брата "дёрнули"…
Тень от фонаря, тень от фонаря…
Брата привезли… Брата "доставили". Утром. В "дежурку". Свищёв – Свищёв "у себя", в кабинете в своём, в его, разбирал дела, материалы. Что с "планёрки" ему… Стал подписывать, кому что… Да! В "дежурку" утром же, утром-то, пришёл и этот, Веретенников, с "явкой" своей, с его… Так что они потом, и Брат, и он, всё и были вместе и вместе!.. Свищёв, чтобы "расписать", глянул, ясно дело, в журнал в свой. Видит, что у меня сегодня "сроков по делам" нету, нету… Только, правда, "человек" есть "за мной" в камере второй день, до четверга. Но это, решил, чепуха, всё-таки не третий день. Да и я печатаю с утра "обвиниловку". И он "подписал" и "тёмное", с "явкой", и материал тот, с Братом, мне… мне…
Ладонь, грудь…
О-о!.. То и другое!.. И привёл сам, из "дежурки", и Брата, и Веретенникова… к Кабинету… Как и всегда и разносит, и разводит… К моему Кабинету!.. Брат редко бывал у меня… Они не знакомы…
Сел я на кровати и увидел, что… глаза мои, ничего не видящие, открыты, и опять лёг, лёг…
Брат… Конечно! Конечно! Брат хотел тут же зайти, войти! А тот, Веретенников, шёл, значит, следом за Свищёвым. И получилось, что Брат, который следом, и Веретенников, который следом, у двери, в двери даже самой – в моей, в моей! – столкнулись. Вышло, будто оба они чуть ли не рвутся в Кабинет… Вот Свищёв и сострил: "К тебе просятся…" Но он, как водится, их обоих остановил, мол, подождите в коридоре, тут, у двери, мол, сейчас он о них скажет. Мне скажет!.. О-о… И дело и материал мне дал, подал, отдал… А что "люди" "по ним" в коридоре, до этого сказал – раз "просятся"!.. И вот… о-о… Брат стоит у двери… моего Кабинета… Ведь материал-то – бумаги-то те, которые он видел у этого у капитана, у Свищёва, – теперь на моём столе, у меня… У брата… Ведь в бумагах этих – и бумага "Протокол доставки" или что-то, мол, есть про него, про Брата… С именем, с именем его!.. И с отчеством. Да и капитан ведь только что сказал, что скажет сейчас о них, о двоих, – и о нём, о нём! – мне, мне… Да и… главное, что главное!.. разве не известно – там, в том мире, где он, Иван, Иван Вербин, – что он, Иван Вербин, сейчас – в "органах", разве не известно это если не всему городу, то, по крайней мере, брату!.. Который сейчас за дверью-то…
Стой! Подожди, погоди…
А я… сначала стал листать – из интереса, из интереса: большое ли оно? – то "тёмное" дело.
Больные, больные…
А Брат – ждёт… И – не заходит… И – о-о! – думает… думает, что я – о-о!.. – что-то… думаю… Думаю что-то о нём… Думаю о нём что-то…
…Мне всегда не хотелось, чтоб обо мне другие узнавали.
Потому я и сам не силюсь других узнавать.
Не хочу, чтоб узнавали…
Не хочу узнавать…
…Брат и хотел бы, может, вот-вот зайти. Хоть он и думает, что я думаю… Хоть он и тщится изобразить, что он понимает, в каком учреждении… Ему, конечно, не терпелось, минута за минутой, лишь показаться!..
Но… я вызвал Веретенникова.
Я, значит, открыл дверь, назвал, значит, "человека" – и в сторону-то, в сторону-то, где Брат, к окну, в тупик этот коридора я не глянул, не глянул… Разве что… дотронул ресницей: тот, второй, что "по материалу", тоже тут… и чуть он загораживает свет из окна…
Ничего не обещал, ничего не обещал…
И уж Брат… После этого – после того, как я вызвал первым не его и даже на него – о-о! – не посмотрел – после этого он, Брат, уж никак не мог ко мне зайти сам, заглянуть сам!..
Веретенникова же я "пригласил" не "работать" с ним, а глянуть на него: не каждый ведь день "явки". А, мол, "человек по материалу" (раз ему свободно дают гулять по коридору) никуда не денется. Выбрать, выбрать решил – и выбрал…
А тут Свищёв – добренький-то какой! – и забрал у меня материал. Бывает. Пересмотрел, знать, свой журнал и "подписал" материал "по Брату" Шуйцеву.
О-о… Может, Брат хоть машинально взялся бы за руку двери моей… но… Шуйцев Брата строго забрал в его кабинет… И Брат – опять же! – подумал (тем более – кабинеты соседние), что это с моего, с моего ведома!..
Посягаю.
Посягай, посягай.
Брата Шуйцев допросил.
Вопрос: что вы тогда-то делали?.. Ответ, разумеется: спал, спал…
Шуйцев – там, где он – Шуйцев, – Брата допросил…
И не допросил даже, ведь – материал, а объяснение простое просто "взял"!
Вопрос, уже глупый: значит, вы там-то в то время не были? Ответ, уже глупый: нет, я там, где, как вы сейчас говорите, я был, в то время не был… Вопрос, всё глупый… Ответ, всё глупый: нет, того, что вы сейчас говорите, я не видел… Вопрос, уже не глупый… Ответ, уже не глупый: почему кто-то говорит на меня, что я где-то был и что-то делал, я не знаю… Так. Той ночью, такого-то числа, я спал дома. Дома ведь?.. Да, дома… Правда, не у себя дома, а у брата дома. У своего родного брата. У моего родного брата.
Конец, конец!.. Всему конец! Свободен, свободен!..
Шуйцев видит, ага, и материал, факт-то, пустяковый – иначе б "доставленного по нему" держали в "зверинце", – да ещё и он, материалишко-то этот, похоже, "тёмный", без "лица"!.. Возни уже много – и всё будет "в корзину"… И – и Брата уже отпустил!..
Всё! Отпустил! Иначе не бывает!..
Ветер, ветер!..
Уже было отпустил… Попросил лишь Брата, чтоб его брат – ну, тот его брат, у которого он спал-то, пришёл к нему, к Шуйцеву. И лучше – сегодня же. Чтобы – на всякий просто-напросто случай! "Подтвердить"…
Иначе не бывает! Не было!..
Написал – под диктовку Брата, – конечно, повестку, адрес и "данные", попросил её передать… Он, Шуйцев, недавно тут "на следствии". Он на "фио" не обратил внимания.
…Новичок – я и сам, бывало, всё повестки, для солидности, пишу: нет бы в первую очередь по телефону "пригласить" – через полчаса "человек" тут.
Вот откуда повестка взялась.
Спросил он, Шуйцев, – потом уж, потом! и просто уж не ради чего! – где, мол, сейчас… его брат-то, тот-то его брат?.. Брат ему: да… на работе…
Иначе не было!..
Брат пожал плечами:
–– На работе…
–– Далеко?
–– Нет… – Брат пожал плечами. – Рядом…
–– Есть у него рабочий телефон?
Брат пожал плечами… или уж не пожал:
–– Есть…
И Брат говорит номер моего телефона!..
Тут, может, Шуйцев и сам сразу забальзамировался… Или Рыжий вскрикнул…
Молчание – восклицательное.
Так он… в соседнем кабинете?!.. Твой брат, тот, о котором ты только что говорил… Тот самый твой брат… за стенкой?..
Повестку даже у брата Шуйцев забыл отобрать.
Какие все – какие! Как всё – как!
С Рыженьким Шуйцев, значит, уже снюхались… или и раньше знались: с чего бы Шуйцев, из дознавателей-то, именно в тот кабинет.
А я, вот ведь как всё предусмотрелось, к ним даже и не заходил никогда…
Н-ну! – Шуйцев и Рыжий сразу, конечно, заперлись… Сразу, конечно, бровями переговорились и – решили. Всё решили!.. Рыжий стал набирать – ме-едленно стал набирать номер на телефоне… За стенку-то… Если б я трубку взял – он бы сразу свою бросил… А взял – Маня. И Рыжий спросил про меня… просто так, между прочим… мол, "на месте" ли я… Может, и пошутил нескладно или даже полупроговорился…
Вот Маня красные свои и задержал на мне.
Больные? Просто больные?..
И тут же Шуйцев – тут уж Шуйцев – торопясь, дрожа! – возбудил дело. Под копирку. Сбегал, выставил карточку, взял номер. Кабинет, конечно, запирал. Мол, никого нету… Брата Рыженький караулил… Скорей, скорей!.. Чтобы – дать лишь ход! Чтобы – всё было поздно!..
Меня, пожалуй, и выходил, когда выходил, узнать, что к чему, толкался, может, в соседнюю-то дверь… из-за которой только что звонили-то…
Потом – потом, что Рыженький и зашёл и поплясал передо мной… С этаким, как он думает сам по себе, профессиональным шиком. Он даже, кажется, чуть улыбался, о ящике-то спрашивая… А Шуйцев, теми мгновениями, протащил Брата в "дежурку"… А там – "задержал"… А там – в камеру, в камеру…
Слёзы были горячие, слёзы горячие были моими, слёзы горячие текли по моим щекам в мои уши.
Потом – уж, конечно, потом! – доложил Шуйцев – нельзя было не доложить о таком таком – Свищёву. Свищёв, мол, неужели? – и по столу шлёп ладошками короткими своими. Но, мол, не надо было спешить "возбуждать", тем более "задерживать"!.. И, понятно, скорей к Зрелищу… Зрелищ – как, мол, тут всё щепетильно и щекотно, и покорил тоже, что поспешили… Но – раз уж дело закручено – не скрывать же такую скользь. И не молчать же…
Что же, пошёл Папе доложить. И со Свищёвым.
Свищёв и докладывал:
–– Есть материал… правда, мелкий… Есть подозреваемый… правда, он не признается…
–– Так дергайте других, а пока колите этого! Что ещё?
–– Так точно. Но он… брат Вербина.
–– Так подключите Вербина. Что ещё?
–– Да, но брат Вербина потому и не признается, что ссылается на него, на Вербина: был в момент, который – момент, у него…
–– Так что, в конце концов, что?!
–– А то, Виктор Викторович, – так заговорил Зрелищ, – что ни брат Вербина, ни сам Вербин виду поначалу не подавали, что они братья, пока случайно это не вскрылось.
–– Вон что… Вербина ко мне!
У него, у Папы, огромные тяжёлые очки, и кончик носа раздвоён.
–– Есть! – Свищёв и – чуть струсил: – Дело возбуждено, лицо задержано…
–– Как?!..
–– Шуйцев ещё неопытный…
–– Рано… Зря… Ну, не надо Вербина… Посмотрим, что… Разбирайтесь!.. Посмотрим…
Я заметил, что я – сижу, что, возможно, и вставал…
Чуть, между прочим, занимательно…
Ну как же – хоть бы даже и в слезах – не пожелать быть всё-таки одному, одному…
Шуйцев Брата уже отпустил, уже отпускал… Пока не узнал – нет, не про повестку, что получилась издевательской, он о ней сразу как раз и забыл, а вспомнил бы о ней – так поморщился б, её, мол, и не было!.. А покуда не узнал, что брат Брата… следователь!.. Как и он сам. Пока не узнал он – там, где он – он, – что брат – следователь. Как и сам он. Именно – как и он!..
Жизнь – это рано, жизнь – это рано…
Шуйцев – иначе и не могло там, где он – Шуйцев, быть – думает про Брата… Думает: тот, кто скажет про тебя, что ты тогда, в тот "момент", был у брата, сам… следователь?.. Конечно, это когда-то всё равно бы открылось… Да и сам же вот ты, Вербин И. Д., сказал… Но ведь – следователь!.. А вдруг что-то не так?!.. Вдруг что-то не так уж и чисто?.. Пока, правда, судя по материалу, всё с братом чисто. Но – а вдруг?!.. Ведь – сле-до-ва-тель… Может, потому-то всё пока и чисто, что – следователь!.. И – и ведь не просто же так, если на то пошло, говорят на этого самого Ивана Вербина… А вдруг потому и говорят, что знают, что у него брат следователь… А вдруг потому и говорят, что… не знают, что у него брат следователь… И вот – а вдруг!.. И что же?.. Отпущу я сейчас его, Ваньку, – а он и пойдёт сейчас же… в соседнюю дверь!.. К братику-то следователю. И… и останусь я, может, в дураках!.. Может, и не так всё, может, Вербин И. Д. этот и чист, может, не буду я ни в каких дураках… Ну, а вдруг-то!.. Так нет же!..
И Шуйцев Брата не отпустил. Даже и не в этом суть – отпустил или не отпустил. Шуйцев Брата "сунул" в ивээс.
Шуйцев время увидел впереди, и решил время срулить, пока не поздно, в такую вот колею: впереди было, да, время Брата разоблачить – но ведь было ровно столько же времени Брата и выгородить!..
И Шуйцев ждёт теперь. И "сунул", чтобы – ждать. Ждет. И – с Рыженьким. Чтобы я – бегал. Чтобы бегал – я. И – доказывал. Доказывал – я, я.
Что Брат… был у меня…
Макушки деревьев, макушки деревьев…
А Зрелищ сказал, шепнул, кому же ещё, Клаве… А Клава, как же иначе, – всем…
Чуть я лёг – испугался чего-то…
Я вглядывался – сам не зная, во что вглядываюсь, – в знакомые разводы на потолке: вдруг показалось, что они не случайно и не просто какие-то такие… Какое счастье, оказывается, просто на потолке их видеть…
Брат – левша; и будто это меня как-то и в чём-то изобличает…
Я рывком встал, встал на ноги… Увидел шляпу мою на полу, поднял мою шляпу с пола… Снял с себя моё пальто, бросил всё на кровать. На вторую…
Решал, но так и не решил, выключить ли электричество.
Решено одно: мой Брат мне – брат.
Родители!.. О!..
Упал лицом в подушку…
Чья ж ещё она могла быть, голова отрезанная?..
Трубку положил дежурный, мол, женщина какая-то звонила, голова там, что ли, отрезанная; стал опять, за его пультом, кулаком потыкивать в ладонь – сразу и увидел я серую щеку, небритую щеку провалившуюся у той головы – у головы, одинокой притягательно…
И – повели словно меня из "дежурки" на улицу…
В темноте плотной, сырой – безнебесной – машина ждала "развозить в ноль-ноль". Водителю, однако, сказали адрес – где голова, где голова!..
Рыжие деревья, покинуто-испуганные окна выбегали из темноты на свет, заглядывали в фары – и отпрыгивали в сторону.
На дежурстве или "у себя" что-нибудь, от нечего делать, листаешь, или позвонят "снизу", найдут, как сейчас, чего делать.
К полночи ближе трещат натужно матовые лампы, осыпая Кабинет стеклянным песком, от которого чешутся глаза. Навязчиво зрим кабинет соседний – что за окном под мокрым снегом у второго моего этажа. Полузнакомыми кажется предметы в сыпучем свете, всё слышат, ничего не слыша, уши; напряжённая тоска – и озабочусь вдруг: прокурен ли тот висячий кабинет?..
И вылезает из чёрной холодной глубины гул – дрожит всё Здание дрожью мелкой, слышной – под соседним "номерным" заводом, под Городом всем в недрах земли, на тёмно-метровой глубине творится испытательное и испытующее Тайное Нечто…
"На голову" ехали – спорили, где сворачивать; ещё и водитель, за его педалями, баловаться стал – отрывисто, маятниково притормаживать. И я, в такт, стал клевать – как кукла, как обиженная кукла…
Женщина вдруг вошла в рыжий свет сама, встала, наплыла на машину… Вышли все – все, кроме водителя и… меня… Я – дежурный-то по Городу следователь! – словно бы не захотел на сырость…
Серая щека худая – видел я её будто бы вчера или позавчера…
Женщина рукой в темноту ткнула. Инспектор, щурясь, на меня, не видя меня, посмотрел.
Я ступил в мокрый снег.
В черноте влажной – во влаге чёрной яркая дверь была открытая.
Я, стиснув зубы, ступил туда, за порог, – и поскользнулся. Неуклюже, папку локтем прижав, поскользнулся; вмиг вспотел от напряжения в теле, от ужаса мгновенного – на крови…
Шляпу поправил. Шевельнуться уж боялся.
И – голову увидел.
Увидел – и сразу благодарность весёлую почувствовал: за что-то, к кому-то…
Лежать захотелось, спать…
Голову сержант, в углу комнаты, всё держал за ухо, над ведром: в него капало.
Хотел уж я в машину, но зудело то веселие.
…Не люблю цветных ни фото, ни кино, ни теле. Нет же книг с разноцветными буквами.
Кто-то за меня раскрашивает жизнь…
Я и сам все оживляю!..
…Жареным пахло мясом… В комнате неопределенной величины низкий голый свет, лампочка голая, лишь над столом, что ли, низким была.. Кто-то окружал бутылки, большую сковороду…
Сказал я что-то задорно – "Чай да сахар!" – или хотел сказать.
Засыпая тогда, видел, помню, то ощеренные, над ведром, клыки, то пушистый длинный хвост рядом со сковородой. Прошептал задорно, в тон давеча сказанному: "А кто слушал, тот дурак…"
Где-то теперь тот Кабинет?..
Где-то теперь тот следователь?..
Эй, мир, эй, миры, где меня нету!..
А это ещё задолго было до корабля в бутылке…
Бегу или не бегу?.. По улице или по лестнице?.. Почудилось или не почудилось?..
…На миг свой каждый, на каждый свой шаг смотрю, как смотрит каменщик на каждый свой камень – пристреливает его по всей стене видит чуть ли не всё строение целиком: так же и я вижу разом всё, что есть жизнь, некий общий всего и вся смысл…
Словно бы вижу, словно бы смысл…
…В трёхэтажное Здание впервые пришёл когда, знал только по практике вузовской весёлой, небрежной, что в зданиях в таких – этажи, на этажах – коридоры, в коридорах – двери, за каждой – кабинет, в каждом – окно, перед окном два стола, за каждым – по стулу, перед каждым – по стулу, по сторонам окна – в углах сейфы, на шифоньере или на подоконнике – радиоприёмник, иногда – растение… Как в пустыне.
Пришёл, вошёл тогда – все коридоры, хорошо или не хорошо – пустые, за одной дверью – разговор, смех и ещё такое странное, аж в него не верилось, знакомое щёлканье по столу, что я не решился постучать в ту дверь; за другой дверью – треск беспрерывной машинки, даже и от стука моего всё равно беспрерывный, а открыл всё-таки чуть дверь – тотчас и захлопнул: там лишь – густое, а густое – синее, а синее – дым, дым…
Пять лет, подумал, учился зря!.. Неужели я… причастен к этим этажам-кабинетам?.. Неужели смогу?.. Неужели должен быть причастен?.. Неужели буду?.. Да и… неужели хочу или хоть когда-то хотел к этому всему быть причастным?..
Остро вмиг ощутилось то, что при одном слове этом всегда и всегда ощущалось: "органы" – у "органов" у всех, как и у всяких живых органов, есть своё нутро, нутро!.. Коридоры коридорами. А есть ещё и нутро – Нутро!
И виновато-стыдно поначалу было вспомнить, что я – там, где я – я, – "правовед", на первом курсе хохотал, со всеми, впрочем, однокашниками, когда сказали однажды с кафедры:
–– Вы не должны ходить в баню. – Пауза громкая… – Вы как дети.
Как во время практики, на третьем курсе, иронично делился с друзьями-то:
–– Следователи, прокуроры, судьи пьют, но не поют, а когда напьются – плачут.
Но с радостью меня тут, в Здании, приняли… С радостью дали и тот стол, и тот стул, и сейф, и ключи, и – радостно-радостно – дело первое, памятное…
Советы казались скупыми:
–– Если на допросах зевает – он!
Засыпал в недоумении, с ворчанием и ворочаньем:
–– Ой, завтра срок по делу!..
Нутро то я чуял, чуял рядом, даже дурел от его силы и его близости, но Нутро то бурлящее всё-таки было где-то, где-то – всё не там, где я – я… Посадил, на первом ещё году, ещё учась, директора магазина "растущего" – и лишь недавно, во Время Крика, узнал, за что его так: он когда-то, давным-давно, однажды в райком двери открыл ногой…
Я просто добросовестный, наверно, был, да и всё, а уж "опера" уговаривают меня от них новое дело взять, просят начальство моё, мол, другой "завалит", поручить дело новое Вербину…
И начальство уж, видя, как я из одного "эпизода" с одним "лицом" делаю "кирпич", где чуть не десяток под стражей, доверяет мне очевидное:
–– Хватит, Петя! У нас и другие дела есть!
И прокурор корит с похвалой:
–– Сегодня твоих судили. И дела не читали. Что у тебя за почерк?.. Хорошо, все признались!
Дали после этого, кстати, мне машинку. И – новую.
Руку, и правда, скоро набил.
Лишь не раньше срока – только б не раньше ни на день срока по делу, как не мной заведено, дело заканчивать; а не успеешь в срок – «прокурорские дни» (дни, всем ясно, между следствием и судом), созвонясь с прокурором, надо прихватывать, ставить же везде "задним числом".
Поначалу-то на допросе свидетеля бланк вставлял-вынимал из машинки три раза: подписаться ему "за дачу ложных", перевернуть лист бланка, поставить время, когда допрос закончен; а теперь сразу всё сую подписать – и тут, и тут, и тут.
И вроде бы привык как нормальное слышать:
–– Пока это дело не закончишь, в отпуск не пойдёшь.
И вроде бы по-свойски в кабинете, в том или в том, со всеми, ближе к шести, запирался; и пьянства, суррогатной задумчивости, не было, а была настоящая:
–– О делах ни слова!
(И все – только о делах.)
Я даже, иной раз, бывал других находчивее: сапожник – в стельку, столяр – в доску, а – юрист?..
–– В норму!
… Почему я говорю эти слова?..
Себе?.. Но ведь если я могу их говорить, значит, мне не обязательно их слышать.
И всё-таки – мне обо мне.
А о чём же и о ком же?
Жизнь всё знает о жизни.
…А Нутро "органов" как было там, где оно было, так и было там, где оно было.
И – конечно, конечно!.. Я б, конечно, сам, сам – стоило бы Брата увидеть или хоть материал полистать – сразу же пошёл бы и сказал, что не должен, не имею права Брата опрашивать, потому что он мне – брат… Сказал бы тотчас!..
И не потому даже, что об этом, что опросил-то, могли узнать!.. Было, что ж, даже допрашивали чьих-то тут родственников… Меня разве что пожурили бы: эко – материал… А потому, что… это мне самому было бы… неприятно…
…Весомо жил, живу.
Сосредоточенно.
Словно бы всё улавливая: какое же у меня сию минуту настроение?..
…Да не хочу я, не хочу, чтоб обо мне хоть что-то знали. И даже про то, что меня хоть как-то касается!..
Я не хотел, да, не хотел, да, чтоб Брат ходил ко мне… Ни туда… Ни даже сюда…
Тем более, он… он – разговорчив…
И вот…
Брат не просто пришёл, а его при-вез-ли!.. Не только привезли – "доставили". И – по "факту"!.. Не только "доставили" – уже допрашивали!.. О-о!..
Рванулся я, рыча, в движение, вскочил, раскинул руки, закрыл глаза в холодном пространстве…
Возбуждённо хотелось опять немедля выбежать из теперешнего "сегодня" и вбежать в "сегодня" – в какое угодно другое!..
И не только допросили, но и… "задержали"…
Мой Брат сейчас… в Здании, в "управе".
В камере.
Сколько-то, до треска сжав глаза, прислушивался к себе, ко мне, – измождённо, измождающе…
Стыдно всегда слышать:
–– У вас такая профессия!
Стыдно теперь – что жалел раньше о таком стыде.
А как: вот я следователь, вот мой диплом, удостоверение, вот мой кабинет, ключ, сейф, вот я, изо дня в день, высекаю раз и навсегда "Следователь СО УВД", вот я с утра до вечера допрашиваю-обыскиваю-арестовываю… А между тем – полагаю, что следователь это… кто-то и где-то!.. Словом – есть где-то что-то особенное. И кабинет пограмотнее, и машинка почестнее!..
И потому это так всё для меня и во мне, что я… так, пожалуй, и остался непричастным к тому Нутру.
Неожиданное, бывает, узнаю о Нутре – то даже, что оно вообще есть.
Допрашиваю… Вдруг Папа вызывает:
–– Ты на кого работаешь?!..
И сразу же, не расшифровывая, "отпустил".
Словно б он услышал, как в воздухе раздалось: я там, где я – я, он там, где он – он…
И каждый любой так.
Едва же отчаюсь: я – самый настоящий следователь – жутко делается: неужель и у меня такие же, как у всех сотрудников, глаза – как у ныряющего в воде?!..
Не величественно живут, не величественно…
Дрожал, в брюках, в пиджаке, под одеялом…
Родители!..
Облапывают Брата в "дежурке": велят ему выложить всё из карманов, вытащить из брюк ремень… заворачивают мелочь, ключи от работы, от квартиры в бумажку…
А он – он стоит… Не бежит ко мне, не просит, не требует меня… Смотрит надменно и слепо – с уверенностью!.. Что я, его брат, знаю. Знаю!..
Я лежал, не ощущая, в какой позе… Я откровенно и чутко предавался тому, чему силился пока не предаваться…
Дрожание моё, ощущал, превращалось в дрожь как в некое вещество – и оно текло в меня как намёк на самое ближайшее моё будущее… И слышался уж какой-то словесный гул – неразборчивый пока, в отдалении.
У Брата листают его журналистское удостоверение… Брата хлопают по карманам…
А я?..
Родители – "убежденные", да ещё и учителя, школа моя и армия тоже, понятно, были "идейные"… И вот не мог же я быть просто так, без веры такой же – не мог, по крайней мере, родителям изменить!..
Я там, где нет обмана, предательства: если уж делать что-то одно всю жизнь, всю-всю, то – "приносить пользу".
А как же я, который – я?.. А так: пока я свое "я" блюду – вдруг да что-то грандиозно важное мимо проминует!.. Тем более, все, вижу, на свои "я" попросту плюют.
Да и что такое это "я"?..
Не у кого и спросить…
Во всяком случае – куда оно денется?..
Напропалую нужен выпад во что-то наиважнейшее. И – подтверждённое ощутимо ухом, глазом и логикой.
И вот я ещё солдат – а уж в "передовых рядах", сиречь партийный. А выпускник – туда, где бы всё сам, сам, с первой бумажки!..
Но вот – Время Крика…
Оказалось, всё прошлое – праховое.
И я – стал коряво говорить и весла поднял… (А каково родителям!..)
…Я – это: сам!..
Только и остается…
Истина всё равно невыразима.
Нет, выразима!
Истина – это потребность в истине.
…Легко и бодро себе ощущая, вдруг я встал – будто бы.
И будто бы передо мной какая-то дверь… А дверь та сама передо мной открылась. И не просто: в стороны двумя половинками, как в лифте. Зачем-то я вошёл. Дверцы за мной сдвинулись. Оказался я в комнатке совершенно пустой и достаточно большой… И само собой, опять же, было, что комната эта особенная… чем-то… И вот комната… качнулась… и странно качнулась!.. Она не поехала – как невольно ожидалось – вправо-влево или вверх-вниз… А она… она…
Стою я – а ноги мои вроде бы в одну сторону отплывают, а голова – в другую… Но я же лёгок и бодр, с чего бы мне падать?..
Э, да это комната… переворачивается!.. На месте переворачивается. Как коробка.
Еле, чтобы не упасть, перебежал я на стену!..
Стою, однако, теперь на стене, как на полу… Комната не шевелится больше. И вот дверь открывается, раздвигается – только теперь своими половинами вверх и вниз!.. Что ж, вернусь-ка в свою Комнату.
Вошёл.
Но Комната – та же… Но Комната… другая!.. Та же?.. Другая!..
Ощутил я, что рот мой приоткрыт, и губа верхняя подрагивает от возможности того, что называется улыбкой…
Я подождал, не дастся ли мне ещё что-то…
Но пустота опять проснулась: опять я дрожу, глаза мои закрыты, вокруг меня – Комната холодная, вокруг меня – первый этаж холодный, дом девятиэтажный, улица, Город… поля холодные, дороги пустые, другие города…
Я открыл элементарно свои, мои, глаза… увидел разводы на потолке…
У меня нет ни жилья, ни денег, ни карьеры… Но хотя бы…
Мать от калитки, в деревне было, кричит собаке на дорогу:
–– Веник! Веник! – Дескать, опасно там, много машин.
Ну, тот, на зов-то, и побежал к ней через шоссе…
Зачем меня родили?..
Я встал – теперь тягуче встал, стыдясь своих простейших движений.
Долго пил из холодного, с тумбочки, чайника.
Долго потом смотрел на тусклую искривленную комнату на боку стального чайника… Слёзы текли свеже-горячие, только что родившиеся где-то… Со школы из самовара чай не струйкой наливал, а кран выдернув – и так в жизни, думал, мало количества мгновений!
И я увидел то, что давно уже не хотел увидеть: не разводы на потолке это – а, вон, глаз и глаз, нос, рот…
И – в дрожь, как в некую хладную влагу, на миг окунулось всё тело моё… Потом стали мелко дрожать то живот, то икры ног…
Лик потолочный словно бы только чуть, как на фотобумаге, проявилось – размытые черты, – но видел я его уже сколько-то, в чём не сразу себе, мне, признавался… смотрел на него уже сколько-то… И он уже… смотрел на меня…
Один, и – один…
Ваня?.. Ваня!.. Всегда он, со школы, модное, самое модное на себе носил… А это ведь страшно: модный – в деревне!.. Беспощадно он был моден, беспощадно ко всем…
Ведь нет мира, который просто мир, а – не чей-то, не чей-то.
И смело сказал я тут себе, что глаза те, что чуть искоса на меня глядят, теперь всегда будут на меня глядеть.
Смело и рывками – под глазами этими не солгать! – ярко и пестро стали меняться передо мной мои мысли-картинки…
Нету мира, что просто мир.
В колонии "малолеток", на втором ещё курсе, лекцию, что ли, я читал – в бывшем, конечно, монастыре… В зал низкий большой сводчатый гусеницей – чёрной гусеницей, с белой, от лысых голов, спиной, заползать стала вереница отроков… мальчиков, мальчишек… с белыми ярлычками на груди… заполнять стала скамьи, начиная выстраданно-строго, с крайнего места на первой скамье… И – молчаливо!.. А те, что в форме, стояли и стояли – молчаливее были даже молчаливых.
Я же, с двумя ещё студентками, на сцене сидел – перед чёрной толпой, усыпанной белыми головами…
Студентка прилежная стала, слышал я, чётко чёрно-белому залу о "сторонах состава преступления"… Собрала, я видел, на руке свои, её, три пальца вместе, махала этой её рукой внушающе возле её головы – словно всё не попадала щепотью в её лоб…
Зал – ждал…
Говорила Прилежная для примера:
–– Итак, А убил Б из ревности…
И вопрос, после доклада, из чёрно-белого зала один только был:
–– Сколько ему дали?..
А мир – и мой, и чей-то другой, – если он не знает, что он – мир, страдает часто болезнью вхожести. Вхожести.
Раньше, года полтора тому, сидел я в кабинете с другим, со "стариком" – и к нему приходил-заходил-заглядывал изредка мужичок молодой, приятель его, что ли, по рыбалке – с бутылкой, конечно… Мне и задалось: а почему бы… не наоборот?!.. Вот бы следователь тот – или я! – и зашёл бы куда "просто так"-то!..
Или ехал я как-то с Клавой в троллейбусе, сидели рядом – и вдруг Клава задрала полу пальто её женского – показала мне юбку её милицейскую:
–– Пятно тут еле отстирала!
И в троллейбусе сделалось дисциплинированней.
А "люди" – тем бы хоть чуть стать вхожими или – будто бы вхожими… Пенсионер один – с выражением на лице, как ещё у алкоголиков, вечной справедливости – ни с того ни с сего принялся рассказывать мне, что у него в филармонии, где он настройщиком, завелась в трубе органа летучая мышь… Женщина другая в коридоре вдруг пристала ко мне:
–– Ты хоть отдохни, покури!
Стыдно, как спохватишься, вдруг становится – неужель к какой-то экзотической профессии причастен?..
Картинки-мысли, картинки-мысли…
И – боялся вспомнить даже… Ваня… Ваня ведь хотел когда-то стать… следователем!.. И он, школьник-выпускник, в городе самостоятельно купил себе плащ – светлый, как в интересном кино-то… Отец потом в этом плаще, из грубого брезента с капюшоном, – в светлом зато – только за грибами и ходил…
В Области, в прокуратуре областной, собачка Липка бродит, как уставшая, по этажам тихим – тихая, кроткая. Носят ей "работники" того здания жрать из дому.
Хоть она и не знает, где она, – с содроганием вижу, как она, скалясь, жует, глотает, облизывается…
И я – вхожий?..
Разве – в самого себя…
Задрожало снова всё целиком моё тело… тело, которое моё…
Внятные послышались голоса: сначала – начальника, потом – девицы, потом – друга.
–– Вот и иди в свои адвокаты!
–– Вот и иди к той спокойной!
–– Вот и иди к своим идеям!
А – то!..
Покуда я не понимаю, что я в мире, который – мой, я делаю то, что… можно. То, что можно.
Якорь не бросил нигде, ни с кем, ни в чём.
Потому что не бросил его в себе, во мне.
Вот нет, бывало, у меня курить – и ни за что не побегу, не надо, нарочно в магазин, а лежит пачка на виду – возьму, хочу или не хочу, и закурю, ведь – можно!.. Нету денег – и не думаю о них, а появятся – куплю то, о чём и балуясь не мечтал: просто – можно, можно!..
А если б у меня – вдруг – было оружие?.. А если б у меня – вдруг-то – была… власть?..
Жизнь это – можно, жизнь это – можно!
Страшновато мне давно поднять глаза, страшно смотреть по сторонам, ещё страшнее – видеть…
Зато – далось!
На "полиграфе" – на полиграфкомбинате был. Машина там есть такая… о, какая… для обрезания бумаги. На толстую пачку газет, на железном столе, вылезает сверху нож – длинный, блестящий… медленный… металлический… Он вниз и чуть вкось – и пачку толстенную обравнивает, как масла мякоть… Так нож тот идёт вниз тогда лишь – лишь тогда, когда с другого края стола нажмут на две кнопки и – одновременно, руками двумя, руками обеими, притом – разведёнными: кнопки так и устроены отдалённо друг от друга… чтоб существу с двумя руками нельзя было изловчиться нажать на обе кнопки пальцами руки одной, и вторая рука оказалась бы свободной…
Пробудиться изначально, пробудиться изначально!..
Старуха, видел, в лесу чернику берёт, стоит среди кустиков на коленях – и рот у нее платком завязан…
Пробудиться изначально!..
А – то!..
Отец мой – пошёл я с Отцом за грибами. Разумелось всегда – перекрикиваться… И едва вошёл я в лес… Заорёт как – как заорёт Отец в двух шагах от меня!.. Только-только ведь вошли…
Как заорёт Отец рядом, за кустами…
Тот крик стал событием в моей жизни.
Я тогда, прежде всего, вмиг ощутил, что я не в лесу, лес – это не страшно, а я – в ужасе. И узналось ещё, вмиг и вдруг, много-много о самом Отце и – о жизни вообще…
–– А-э-э-эй-и!..
Тот крик Отца – того, кто моя… кровь, порода! – был отчаянный, обречённый, даже иступлённо-отчаянный… Только сам он… не знал об этом. Отец не за грибами в лес пришёл, а – орать. Только он не знал, не знает об этом. Потому что он и вообще-то живёт, чтобы – орать, кричать. Всею своею, его, жизнью. И – смотреть по сторонам. И – хоть кого-нибудь видеть. И – учесть ответное. И – делать то, что делают другие. В смысле – большинство других. И ещё – лучше бы, для уверенности, чтоб за это деланье похвалили. По крайней мере – "не-сказали-ничего-плохого"…
Заорал Отец тогда толково, вдумчиво, с расстановкой:
–– А-э-э-эй-и!!..
Сердце, оказывается, стучало во мне слышно… И было странно, что оно какое-то такое, что оно – моё…
Глаза с потолка, спокойно-зоркие, зорко-спокойные… требовали договаривать…
И – что?
А – то!..
Я ведь и в следователи… тоже – побывать!..
На Брата, что ли, глядя поначалу?.. А всё-таки – побывать. Потому, кстати, и работаю легко. Потому что – временно!.. И в вузе был с лёгкостью, так как там всего-навсего пятилетнее пребывание, а не много… какое-то.
Побыл следователем – и будет. Я побывал в школе, в армии, в партии – и будет с них. Я поимел, на "шабашках" и в стройотрядах, "длинные"-то деньги – и хватит, я поносил дорогие "шмотки" – и хватит. И будет с них со всех и со всего прочего! Не заниматься же чем-нибудь этим всегда! Не отдавать же чему-то этому… всю жизнь!..
И – предданно ведь так. Не вечно малые годы, не всегда годы, что чуть старше, потом – не всегда, что ещё старше…
"Побыть"!..
Побывал…
Я – в колыбели…
Шевельнуться сейчас боясь, спугнуть боясь во мне меня, ощутил приближение начала, начала…
Я – в колыбели.
Никогда раньше я не думал об этом, но никогда, ни на миг, не забывал об этом.
Мне некуда больше пойти. Мне некуда – знал, не зная этого, всегда – случись такой день, как теперешний день, будет пойти… кроме как – в эту память, в память этого. И вот – пойти больше некуда!
Я – в колыбели.
Я – я, я – есть… Вот это, то, что глядит, не зная, что это называется "глядеть", не зная ещё что у него есть, чем глядеть, что то, чем глядит, называется "глаза" и именно его глаза, и при этом – понимает, что не знает всего этого, и при этом – не страдает от того, что не понимает всего этого! – это и есть я.
И я – есть. Есть!.. Хотя и не знаю, что есть такие слова: "я", "есть" – так как я, который я, вообще не знает слов…
Я только знаю, что я – я.
Зато я…
Зато я всё-таки знаю, что – я! И что я – есть!
Вот же, вот!
И я – одно понимающее зрение, веденье.
Словно я в этот миг открыл глаза… Словно до этого они, глаза, были просто закрыты… Будто бы я просто думал о чём-то другом, своем, моём, и вовсе мне дела не было, смотрю ли я вообще, – а тут вдруг попросту поймал себя на том, что и смотрю, и вижу.
Я смотрел – и мне дела не было, что у меня есть, чем смотреть, что у меня, кроме глаз, есть ещё целое тело…
И я – который вот такой – вижу, что вокруг того места, где я, – белое: белые – как теперь знаю слова-названия – стенки, простыни, занавески, и я – словно в белой матерчатой ладони… А там, вверху, над гнездом-ладонью – свет, светлое…
И в свете том из-за края белой простыни показалось что-то – лицо, и оно – туда, где я, показались руки, и они – туда, где я…
И лицо, и руки – они туда, где я. А не ко мне.
Но мне всё равно хорошо.
Хотя я ещё не слышал от себя слова "мама".
И я ещё никогда не видел то, в чем это самое "я".
Я – одно зрение понимающее. Я – это состояние.
А если…
И если я тогда, младенец, в колыбели, знал, что я – я, что я – есть, то… значит – значит и значит! – я… был… Был и до того, как в этой белой ладони очутился!.. Я – был! Был! До колыбели. До белого, вокруг меня, света.
Где я был… Когда был… Почему был… Сколько был…
Как был…
Но – был.
А потом – потом, когда меня научили ходить и говорить, я стал ходить и спрашивать, кроме всего прочего, почему и зачем я здесь, в жизни? Потому что – увы! – я увидел уже и разглядел своё, моё, тело и – увы! – приучен был уже считать, что оно – я…
Щекой на подушке нашёл мокрое, но было мне так, словно плачу я привычно, сладко-привычно…
Да, до сих пор не знаю, почему и зачем я тут – в теле, в костюме, на кровати, в Комнате, в доме, в Городе, на Планете.
Потому что не знаю, не понимаю, зачем спрашивать – об этом, об этом.
В колыбели – в Колыбели ведь не было настроения спрашивать, не было состояния вопроса!..
Я – это состояние такое: я – я, и я – есть. А что не я – это не я. И это состояние было неопределимо сколько и, значит, продлиться неопределимо сколько.
И надо его следить.
Я – я ли? Каждую минуту.
И если даже в Колыбели у меня не было, и – прежде всего, вопросов, то это состояние надо назвать, коли я всё-всё обзываю, – Умиление.
Оно-то – неопределимо сколько.
Я, который я, – в умилении ли?..
Я-состояние, я-умиление – засыпано движениями и словами.
И радостно чуть стало: нет ни Комнаты, ни Города вокруг меня, а сейчас вокруг меня – моя мысль.
Общезнаменательно и думал.
После Колыбели я, за игрой, словно бы забыл, что я – я.
Иногда лишь – в обиде или в любви – вдруг замечал: я, в отличие от тела, которое моё, – особенно я… И если хоть чуть помню Колыбель, я – в состоянии себя, меня.
Первые времена, что зовут словом "детство", замутили всем спешным: с наружи, чую, я зверёк зверьком, внутри – будто спросонья… Учили выговаривать букву рычащую – и я, конечно, хотел стать мор-ряком… Потом – отрава отрочества: снаружи – яркий сон, внутри – пёстрый сон… А в юности стал и я сам на себя посягать: где и кем, и как – "полезнее"-то – быть…
И всё делал то, что считали важным другие – пусть и любимые родители и вожди.
Красиво говорил себе ещё недавно:
–– Надо наполнять мир своим миром.
Время Крика меня окрикнуло: у кого как, а у меня – мир мой.
Вот тебе его и… наполнили…
Твой-то мир. Их-то миром.
Расслабленно я, расслабленный, подумал-понадеялся, что меня за ту Колыбель и за нежность к ней… пожалеют… Всё-то я так: нежничаю и надеюсь…
Спросил окружающую холодную ясность безразлично-устало:
–– Что ж – все? И – так? И – на меня?.. А то, что я… молчал!
Оказывается, есть, вижу, – там, где меня нет, – правила два; первое – молчи: это одно, по разным причинам, для всех хорошо; второе – молчи: и каждый припишет своё, его, по его мнению, хорошее… тебе. Молчи – и вот ты уже настоящий мужик, мужчина, настоящий человек, гражданин, товарищ, кавалер, и всё – одновременно, и даже – для врагов.
А лишь открой рот:
–– Ты вот других-то критикуешь!.. А-а… – И так далее.
…Я не люблю обманывать.
Так – виднее.
…Что ж, слушайте, вы – там, где вы все есть.
Я никогда, ни разу не брал даже пальцами жевательную резинку… не держал в руках какую-либо инвалюту… не видел ни одного порнофильма… И – да! – ни разу не стрелял боевым, ни разу никого не ударил.
Я жил и живу там, где я – я. Я в мире, где я живу. Точнее, в мире, где живу – я!..
И – слышу наконец о себе, обо мне… О Петре-то Дмитриевиче:
–– Митя…
"Митя"!..
Как расковырять-то меня, меня, меня… всем, всем, всем… хочется, хочется, хочется… Пусть и сломать – а лишь бы заглянуть внутрь!..
О-о!.. Будто стих мой прочитали, что когда-то сочинил, даже не записав… И – вслух. И – всем. И – громко…
Грустно.
Жизнь – одна, миров в ней – много.
Грустно.
Дрожал весь…
И стал думать, что ведь надо что-то… думать!..
Неужели – неужели я не заслужил о себе даже… мнения?..
–– А зачем оно тебе?!..
Спросил меня так кто-то где-то дрожащим твердым голосом – спросил Дрожащий.
Я дрожать перестал.
И снова раздалось:
–– Все вчера жевали диамат, а сегодня все жуют резину.
Убивающе отчётливый голос…
Глазами хотят знать – видеть.
Хотят глазами знать. Знать глазами хотят.
Телом сытые, глазами хотят жрать – видеть.
Женщина стоит на арене.
Глазами хотят знать, дрожь на груди мелкая, глазами знать, губы сухие липкие, глазами своими, кулаки потные, глазами.
Тигр бежит по песку.
Глазами!
Крика она не слышит своего за криком стадиона.
Видеть-знать хотят – это.
Чтоб они могли увидеть, ещё и ещё раз увидеть это – тигра морили голодом, рабыню привязали к столбу.
Это сейчас, сейчас увидят…
Это теперь видят.
Теперь видят – это.
Видят!
Приблизилась ко мне Красивая недавно так, для её замужнего положения, близко, что я, прежде всего, вдруг понял, что если я, я сам, спрятаться смогу – в лишнюю тут, в компании, стопку, – то тело своё я спрятать не смогу, не смогу…
–– Что вы хотите этим сказать?..
И – Брат, и Ваня тоже мне, бывало, готовясь на свидание, гладя брюки, слушая-не слушая мои мальчишеские рассуждения:
–– Чо вы хотите этим сказать?..
А завтра уж обязательно кто-то кому-то – окажись я рядом! – скажет, прервав разговор, как бы упрямо и как бы – как бы! – проблемно:
–– Что вы хотите этим ска-ать?..
Я это… о чём?..
Рассветать, может быть, будет…
Сделалось – тоска и тоска… Расстаться придётся с одиночеством.
…Когда я родился, я принял это слишком близко к сердцу.
…И приближения рассвета ещё не было, но чуял я, что это, рассвет, бывает, бывает…
…Настороженность: а что это – то, что я родился, – значит? – это и есть моё настоящее настроение.
Вокруг же – или намёки, или помехи.
…Чего мне расстраиваться?.. Вообще: мне – чего расстраиваться?!..
…Призвание означает – понять!..
…Ведь у меня есть память?.. Память о том состоянии.
Моя Колыбель – Умиление.
Умиление – моя Колыбель.
…Не ходи по своим следам. Они не пропадут.
Они – для после.
Не езди в часть, где служил, в вуз, где учился…
…Вдруг заметил, что я представляю, как я буду скоро улыбаться и – по-настоящему: как большой, как взрослый!..
Заторопился подумать: не выключить ли всё-таки свет… пока ещё ночь…
Заторопился вспомнить: что же важное ещё на сей миг не вспомнил…
Сон мой!..
И недавно.
Я – я. И я держу в руках… моё тело… И спрашиваю того, кто держит моё тело, – себя, получается:
–– Это я?..
Кивает мне утвердительно кто-то, кого я не вижу, но знаю, что он кивает…
–– А – это?.. – Показываю подбородком на тело.
Но тут… у того, что было сном, продолжения не стало…
Что ни слышу от других о жизни – понимаю, слушая, что это, жизнь, – какое-то сырое, податливое, неприятное, тягучее событие…
Только Брата, только Ваню всегда помнил как знающего что-то определенно.
Неурядица какая, ругаются все – а мы с ним молчим – и вдруг да ни с того ни с сего переглянемся… словно раз навсегда когда-то до этого договорились…
-– Как лучше жизнь перебыть? – Ну, не в колхозе же работать!.. Совсем недавно – связи иметь. И я всё по райкомам и обкомам. Всё-таки от звонка до звонка надо было. Но так я проявлял свои способности. А теперь их и не надо скрывать. Всё! Купил – продал. Или жвачку, или завод. Так весь мир нормальный живет. А кто книжки читает – пусть их и ест.
–– Мы – верили! И работали на общество. А нынче всё, что мы наработали, разворовали. Как же после этого нам свои жизни перебывать?.. Вот теперь бы распоясать народ! Тех, кто не умеет хапать!
–– Вы не знали, что жизнь это – перебыть. Так и я не знала и не знаю. И наплевать. А вот вы подсунули мне сынка разгильдяя-пьяницу, ну и возитесь теперь с его дочкой-дурочкой!..
Современник… родители… сноха…
Вскочил вдруг!.. Сел на кровати…
Брат… Брат… в камере?..
Жидкий свет лампочный за ночь, казалось, протух… С гадливостью подумал об этом свете тусклом – напомнил он мне, что у меня есть… лицо и мне ещё надо что-то им… выражать…
Одиночество моё на миг ощутилось мною как омерзительное одиночество, туалетное одиночество.
Я медленно встал на мои ноги.
Умыться забежал быстро – как в перегретую сауну, холодную воду туго прижал к лицу три, как всегда, раза… Видел, однако, теменем своим, моим, что зеркало, над раковиной, бракованное: в углу "молоко"…
Выбежал брезгливо – походя вспоминая, как не любил всегда зеркал, не любил всегда своих фото… не любил никогда ни газет, ни радио, ни теле: и в зеркале, и в газете – всё не про меня, всё не обо мне!..
Чайник – когда же его включил? – кипел… Было стыдно дуть в чай… было стыдно фыркать…
…Дело моё – быть одному: труд мой такой, работа моя такая, такова моя страда.
Чтобы – прислушиваться. Чтобы – догадаться. И – не для себя, не для судьбы своей. А – вообще.
Вообще – и есть моя судьба.
…Одевался – когда же разделся? – положил ладонь на грудь: вот оно – место происшествия!..
Сладко опять чуть стало от такой непроизвольности… Стоял, дремотно покачиваясь…
Во мне, в том, в зеркале который, в теле моём, кроме меня, есть ещё кто-то… какой-то Мальчик. Мальчик тёплый, тёпленький… Он – я. И – не я. Это – Мальчик трогательный и даже меня трогающий… Мягкий, обидчивый, ранимый… Вот бы мне раньше его выделить!.. Его-то все, вижу, – сходу и безошибочно во мне выделяя! – всё и хотят подержать, словно тельце какое, в руках, погладить, потрогать его хоть за ножку… И – ведь удается… Один я его, Мальчика моего, строжу… А я, тело моё, только красней за него, за тёплого, за мягкого…
И даже стыдно стало перед ним, перед моим Мальчиком: мало его берегу, мало ему угождаю… можно бы и побольше…
И смотрел на тапки, на тапочки синенькие – на женские, домашние… Они – на самом виду!.. У второй-то кровати, – чуть не посреди Комнаты.
Так их поставила тут Дева. Так, чтоб тут стояли!.. Это, уходя, и сказала.
Посмотрел я тут же на иконку картонную на столе… Принёс, подарил, поставил Монах… Сказал – то же: пусть тут, на виду, стоит!..
Показалось вдруг свежим, непривычным фактом то, что я – тут, в доме с табличкой "Общежитие какого-то завода", что я в комнате с табличкой на дверях "Изолятор" – уж так начальство моё договорилось с комендантом: где-то на этаже, в комнате с кем-то я отказался жить…
…Жизнь – это явление природы, которое "кому ты нужен" называется.
…И как же я провел тут ночь?.. – Будто это была первая и единственная ночь тут, в "общаге" – где все знают, кстати, кто живёт в изоляторе, и зовут его, слышал не раз, Следак!
Живу в "Общежитии", живу в "Изоляторе".
Живу в общежитии. Живу в изоляторе.
Надел пальто, шляпу, слабо и гневно думал: как это всё обычно!..
Что я буду делать дальше?.. Буду, что ли, жить после… своих двадцати восьми?..
Глубоко вдруг мне задышалось, заслышалось моё сердце, закружилась чуть моя голова…
Сейчас случится главное по существу: я выйду – и буду… среди других…
А я и не замечал – пока не далось, – что я живу в своём, в моём, мире – вот насколько я жил в нём.
Я стал собирать себя.
И всё-таки, всё-таки… Чего же я испугался вчера? Чего – испугался? Ведь в самом деле: я – я. Почему этого мало? Я лишь родился – и сразу уж я – я. Понимать это, знать это, твердить об этом, быть в этом уверенным – почему этого мало для спасения?.. Для спасения среди людей. И – наедине. Почему даже этого – мало?!..
Развёл вдруг у двери руки – непроизвольность сладкая, Мальчикавая, вернулась ко мне…
Но словно видел и слышал со стороны, как запираю, как иду по коридору, по фойе, как выхожу на улицу – как летят в меня со всех сторон глазные яблоки!..
…Ребёнок плачет, не пьёт – чаинка в чае.