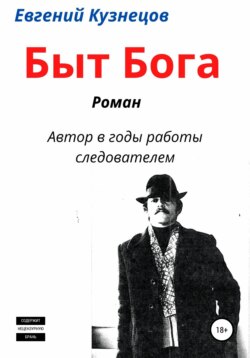Читать книгу Быт Бога - Евгений Владимирович Кузнецов - Страница 3
Часть третья
ОглавлениеНа утренне-звонкий снежок под воздух высокий я вышел – и после всего – о! – именно после всего на спокойный снег под небо ласковое вышел я…
Защекотало ноздри и глаза от вкусного пространства прозрачного, а в нём ведь, в чистом пространстве… двигались туда-сюда… прямые и молчаливые… И уже восьмой час: всё и всех видно: случись – и не скажешь, что не узнал!
Вижу воздух, вижу воздух…
Женщина – женщина, которая поправляла на плечо своё голое тесемку рубашки, которая по телефону-то, своей подруге-то, – она сообщала тогда, утром, обо мне – и при мне! – то, что, якобы, есть я:
–– Всё нормально!.. Ага… Ага…
Сведенья обо мне, сведенья обо мне…
Но морозец был такой синий и призывно слышный, что я, прежде всего, встал и просто лишь стоял и просто смотрел и просто дышал и – жалел, что так всегда не буду стоять.
А пошёл – словно лёгкое понёс что-то.
Солнце устроила мне сегодня видимая Природа – за молитву мою утреннюю ей!
Дорожки по дворам, по тротуарам – ровные и глубокие меж сугробов мартовских аккуратных – словно бы припасённых надолго…
Подходил к своей, к его, машине мужчина опрятный, взялся за ручку дверцы – а поглядел-то на меня! – Раз собрался куда по делу, так и езжай подобру-поздорову – чего на меня-то бы оглядываться?.. Ну не-ет! – А для того и купил он автомобиль, чтобы… я его с ним увидел!.. Сколь он удачлив. Только он не знает об этом. И даже не знает, зачем ему удача.
Увидел я: девушка – там, в понятном ей времени и месте, – с богатыми волосами шла – в одних словно объёмных волосах.
Увидел юношу, который – там, в известной ему среде, – шёл, дерзко остриженный, чтобы – там, где он, – была видна его дерзость.
Увидел я галку, вспорхнувшую, серую: она, галка, – там, где она – галка и где другие галки – такие же серые и так же летают, – взлетела, от других-то, с какой-то дрянью на сук, прижала своей, её, лапой дрянь к суку, стала эту дрянь долбить её клювом.
Подальше остановку обходя, всё видел я, как старый мужчина и старая женщина стояли лицом друг к другу и близко: давно были – там, где они давно и близко были, – мужем и женой.
Старуху вон вижу – вчерашнюю, может, что – с собачкой…
Вот и ещё один, и ещё один на меня оглянулся – откуда-то оттуда, где он есть и где он не знает, что это значит.
Недавно смело заметил я: ребёнок идет – и не сворачивает!.. Я раньше, удивляясь-то, всё сталкивался с ними, с детьми. И для интереса стал… идти прямо на ребёнка. И что же?!.. Ребёнок видит, что на него движется большой, незнакомый и уверенный и – не сторонится. Потому что – нет, не потому что он что-то "считает", – а потому, что он, ребенок, живёт в своём мире, в его мире – и не боится это знать.
И стал радостно побаиваться детей. – Не отравлены ещё мыслью, что они, якобы, в каком-то "одном мире"!
Знаю, что один это знаю.
Так чего же… боюсь?..
Если вот хоть он, первый встречный, не знает… разве что чувствует и озабочен… и ответ с меня сглядывает…
Общежитие! Общежитие!
Как наказание неотвратимое – предстоящее – вспомнил. Вся моя жизнь прежняя была так…
Родители мне:
–– Все вон стремятся учиться на "отлично".
Я родителям:
–– Вот и пусть все стремятся учиться на "отлично".
То один, то другой мне:
–– А зачем же все читают газеты?
Я им:
–– Вот и спросите всех, зачем они читают газеты!
Остро понялось, что я лишён на сегодня главного достояния личного – возможности сказать вслух:
–– А вам какое дело?!..
И теперь – как же бывать?
А так. Я же – я. Посягают – да и пусть посягают!..
Ощутил вдруг свеже-явно – новое понятное: что вокруг меня, всего меня, на расстоянии примерно руки моей вытянутой… окружает меня со всех сторон шар – шар тончайший… прозрачнейший… невидимый… легкий… зыбкий… Вот ведь чувствую – окружает!.. И в этом шаре, в этой сфере – моя, нагретая мною, теплица, мой запах, моя живая обжитость… Так что я распространяю всего себя, меня, по всей внутренности пузыря-шара. И это шар был, опять же, вокруг меня всегда. И я, опять же, об этом всегда знал…
И я, который я, и я, моё тело, и я, тот Мальчик, – они в этом шаре-пространстве, как в сосуде прозрачном и полном сока. Стенки сосуда-шара тонки, тягучи и податливы. Но никогда не прорываются. И даже если кто-то, посягая на меня, обнимает меня, то лишь продавливает шар. Но тонкая стенка между мною, телом моим, и грудью обнявшего меня всё-таки остается.
Да я, пожалуй, так бы и крикнул: знаю о себе всё!..
Ничего не понять, если…
Я – я. И должен беречь и тело, и Мальчика.
Брат! – О, младенец, я, с рук чьих-то, видел, как Брат мой, ребёнок, стриженный, большеголовый, с ушами оттопыренными, голову эту свою, его, сунул – ради вящего своего баловства – в спинку деревянного стула… И не смог вынуть обратно!.. Плач! Паника… Сестрёнка, тётка… Потом – Отец, Мать!..
Окружающие, окружающие…
Всего-навсего.
Зато – сны!.. Они же – мои. Они же – мне… Сны-полёты!..
В школьное моё время заставляли на уроке меня петь – и я услышал чей-то незнакомый, из себя, голос…
Со Времени Крика вдруг – наверстывая – стал смело себе: я – я, я – в моём, я – побывать… Со вчерашнего вечера, с Братнего, сразу, небось, себе: да, сон-тело, да, Мальчик, да, шар…
Встал, поднял лицо вверх – где он, верх… Покой уверенный: я видел землю не плоскою, а – овальною!..
Каждый вздох я помнил, что не забываю о том сне.
Я – просто я, а далеко, глубоко внизу – зелёно-голубая, травяная, лесная земля. Там, внизу, я уже был, бывал, ходил ребёнком, и знаю, что эти коробочки – дома, что эти ленточки – дороги. Я – я, а вокруг – тугой тёплый свободный ветер: свежит мои глаза, забивает мой рот, затекает в мою грудь – хоть я и не вижу своего тела. Я не знаю, как сюда, где высоко и ветренно, попал, не знаю, как тут держусь, не знаю, возвращусь ли на землю, не знаю даже – чего хочу, не знаю – надо ли хотеть, и – надо ли знать…
Пространство – и я: земля, овальная вдали по горизонту, ветер – и я.
Только я, только.
И всё это мне – далось.
Я смело, оказалось, шагал.
Вот спасение! Единственное спасение!.. Спасение и есть, когда – единственное.
Здание вдруг я увидел – и, забыв, что у меня есть тело, сделал два-три шага… на месте… Как же я иду? – Ведь – к восьми, к восьми!..
И уже шёл куда-то – лишь бы Здание не видело меня.
Утром – утром сегодня само собой было, что надо уходить из "общаги", как и всегда, перед восемью – до прихода комендантши. И я привык в "управу" к восьми; словно тоже само собой было – в Кабинете чистом, вымытом, проветренном легко постоять, посидеть, легко послушать по коридору другие шаги и другие ключи…
И всё равно мне было, знают ли об этом. До вчерашнего дня!.. И – поскольку я… этот и этот – в жизни есть жизнь, которая "до" и есть жизнь, которая "теперь".
Но ведь раз так, лучше – "лучше"! – тем более идти, как я всегда ходил!..
Но вдруг никто раньше и не замечал, что я каждый день к восьми!.. И скажут: известно, по какой причине!..
И я – куда бы от Здания подальше…
Как бывать? Как бывать?
Не так давно сказал мне "опер" один, как же – за рюмкой, что с самого с моего начала в "органах" за мной был "хвост"… И "опер" рассказал, и без смеха, – а я тогда явно вообразил навсегда, – как "хвост" тот выбился, на дожде-морозе, из сил и прозвал меня, для "оперов", Домоседом…
И чуть легко мне стало на миг: не один я других обзываю.
Ни "опер", ни "хвост" не знали, а я-то, небось, знал и знаю… что Папа – что Папа запомнил, запомнил, как я, трудоустраиваясь в Здание, сказал кому-то:
–– Я следователь, а не милиционер.
Ночь, ночь…
Я с тоской ощутил одну потребность: глянуть на часы… Но не глянул.
Развернулся в сторону в обратную.
Я признался себе, что я трус – не то чтобы трус, а не верю себе, мне, вполне – не то чтобы не верю, а не твёрд в своём виденьи – не то чтобы не твёрд, а – трудно, трудно!..
Признался, наконец, себе, что моя даже сама озабоченность малая – не нужна, не нужна…
Я даже и вовсе никакой покой-то…
А – страшно.
Крикнуть про "понял" ещё громче хочется!..
Летним ярким утром, ранним-ранним, шёл я, с гулянки, что ли, не заходя в "общагу", прямо в Здание – а старшина, завхоз, за сеткой у Здания, где угнанные и прочие мото разные, отвинчивает – в мире, где он знает, что все ещё спят, – с мопеда мотор… И я с ним, нос ведь к носу, поздоровался… И такая ли была в тот час спокойно красивая природа, что особенно явной ощутилась во мне всегдашняя обида, обида – за обман. – Что я на эту природно красивую природу не смотрю поминутно!..
Потому-то я и живу там, в том мире, где всё – красота, мечта о красоте и усилие для красоты!
Обида за обман и сейчас: не потому что рядом как-то не по мне – а потому что не живу в мире лишь моём.
Ночь, ночь…
Я, оказалось, опять стою…
Буду же видеть отныне!..
Ведь Колыбель и Полеты!.. Неужели этого – мало?
Почему и этого – мало?!..
Чего – боюсь?..
Почему и того, и того мало, чтобы не бояться?..
И никуда и ни во что не спрятаться… Даже в любовь… Даже – в первую, которая, как почему-то чудится, ещё – будет!..
…Слова большие не говорю если, ничего, ничего не понять, не понять.
…Я живу на своей, на моей, планете. Очевидно. И о другом живущем – если о другом – не могу, не умею не думать так же. Ко всякому другому я – как к инопланетянину. С вниманием! С восторгом… С осторожностью…
Но раньше не было страха!..
Задрожал вдруг ночною – той особенной – дрожью.
Скелет машины на крыше гаража, скелет машины на крыше гаража…
Брата посадили – пахнуть стал Город иначе.
Ведь я не хочу, не хочу не только быть в этом Здании, где та… камера – но даже и вообще об этом знать!..
–– Хочешь быть чистеньким и честненьким? – вдруг спросил горловой Дрожащий ночной…
Спросил он, чтоб я не забыл о нём…
Остановился я, промолчал громко:
–– Да! Хочу. Не хочу даже. А – есть!
И – пусть посягают, что мне.
Здание трёхэтажное – и я наклонил голову к плечу, чтоб, может, лучше или как-то ещё его увидеть…
Если те немногие, кто – вхож, настолько вхожи, что им, таковским, претит ходить в баню, то, быть стало, все другие суть вхожие в баню.
…"Скучно"… Где-то есть такое слово.
Где-то есть такое время и место, где есть такое слово.
…Близка уж была широкая многоступенчатая…
Жил – и ни разу не видывал где-нибудь доски: "Суд", "Прокуратура" – покуда не поступил на юрфак.
Вот зашёл ли бы я хоть раз в таковое здание… из простого любопытства?!..
Досада жизни, досада жизни…
А что? – Отомстить себе за незнание и есть – броситься в крайность. (Нагрубил, убил или… призвал убить…)
Впервые словно я шёл в Здание – в то, где будто бы и впрямь те, кто в том мире, где "не задумываясь кидаются" и где это похвально.
Вступив же моей ногой на первую ступень, испугался вопроса: частить ли, или – степенно, или, как всегда, через две ступени?..
На глазах у всех окон – и будто я несу сдавать мочу!
И "суточники" вымели ранней ранью эту лестницу не для меня, не для меня…
И не ощущал, как иду. Зато терпко отчётливо заметил: чуть я в Здание – думаю, небось, не так, как ночью, а – будто бы оправдываясь, и будто это слышно…
И – ощущение той обиды за тот обман!..
Такое – со Времени Крика.
Не то что хотели меня обмануть, не то что даже обманули – а то, что про меня наперёд подумали, что обман удастся!..
Вербин, Вербин…
Стараясь как обычно, перекивнулся с "дежуркой"… Знают?.. Из журнала-то…
В Кабинет вошёл – и, вмиг попав туда, где будто бы только "существо дела" и "существо заданных вопросов", сказал, и – вслух, то, о чём только и надо и думать и говорить:
–– Что-то было совершено. И почему-то показали на Брата.
К запаху этому коридорному, лестничному, кабинетному привык… Ни к чему я не привык!..
–– Но… но что там совершено и почему показали на Брата – этого я даже и знать не хочу!
Снимал, вешал, причесывался. Почувствовал, однако, что… стесняюсь громко ступать…
Под моими подошвами… под полом… под двумя этажами… там, "внизу" – Брат, Брат…
Ночь, ночь…
Запел вдруг кто-то на шифоньере удачливым голосом – там, где он удачлив и требуя от других признать эту удачу.
И затопать мне ногами захотелось: да не завидую я никому!
Чуть не уронил радио, выключая.
…Скуки – нет. Не бывает. Я и лежа за сутки совершаю окружность величиной, может случиться, с экватор.
А есть – грусть.
Так как думаю об этом.
…Странно даже, походя вспомнилось, что я – право-вед!.. Впрочем, будь я хоть кем… Всю жизнь мечтал работать, если работать, – в главном.
И вот вижу, что такого поприща нету – нет там, где нет… меня!..
Если я – я, это и есть главное.
По коридору уже шагали, звенели, хлопали…
Самое важное – понять самое важное.
Если б я считал более важным быть – ну, кем? – министром, миллионером… путешественником, академиком… лидером, ну, вождём – так я бы и был им!.. По крайней мере – стремился. По крайней мере – делал радио погромче.
А я – понять и быть в состоянии понявшего!
Зазвенели у кабинета напротив…
Как бывать? Как бывать? – Как мне тут – там, где не я, – побывать?..
Свежо-отчётливо подумал то, что часто нынче думаю из общезнаменательного:
Все – побывать.
Я – прислушиваюсь к себе.
А все – в затруднении.
Так как не знают, зачем они – побывать.
И – посягают на меня.
(Тайно обо мне догадываясь и тайно мне завидуя…)
Чтобы посягнуть – затруднить.
Чтобы затруднить – обвиноватить!..
Вспомнилось сказанное раз мне Папою:
–– Я за тобой третий год наблюдаю!
–– А я за собой – двадцать восьмой!
Сказал я ему или не сказал?..
Посмотрел в окно: в школе я, мальчишка, из запертого класса (так наказывал двадцать учеников один учитель) убегал в форточку…
…Все смотрят в окна.
А я – в благодать.
…Ключ от Комнаты, ключ от Кабинета – два щелчка эти словно бы меня сегодня особенно изобличают.
Да пусть подслушивают больше!..
Но – по-домашнему сел: будто стул этот принёс с собой.
Всему-то дал имена: городу Веременску – Город, кабинету № 209 – Кабинет…
Осмотрелся – тот ли же это самый?..
"Обвиниловки" сам барабаню, машинисткам не отдаю… Ночую, бывает заработаюсь, тут, на стульях…
Слёзы вдруг потекли легко – словно осмелели они за ночь.
Да пусть все всё знают и болтают!
Для Брата! Для Брата!..
Думалось, меж тем, походя: это ведь с угрозой сказано: мир – один и един. Мир один ежели – так только для космического тела: для жертвы температуры и гравитации.
Перед зеркалом утирался. Там, внутри его, не я, а пародия на меня… Костюм коричневый в полоску, свитер этот тонкий чёрный шерстяной, пальто ещё, шляпа – лишь это-то всем.
Меня Свищёв, приобщая к своему, к его, и уважая по-своему, по-евонному, назвал раз Дмитричем…
–– Петя я, Петя!
Теперь он меня – Петя, Пётр…
С омерзением вспомнилось – словно про чужой бинт на чужой ране:
–– Пусть молодые вкалывают! – старик следователь сказал начальству… промолчавшему в ответ на эту систему.
Не говорил я никогда и не стремился, и даже не мечтал себе однажды сказать так: ну, теперь я школу окончил… ну, теперь я армию отслужил… Ну, теперь я диплом получил… Ну, теперь я в партию вступил… или что-то в этом духе.
Видишь это? – Вижу.
Вот и все видят!.. Вот ты и… Митя…
Стыдно стало, что именно ко мне сейчас, может быть, придут за "ящиком"…
Стыдно, что ко мне, ко мне ходят, просят иной редкий бланк… Что у меня в календаре настольном: "9-00", "10-00", "11-00"…
Даже стыдно, что моё любимое занятие – прибираться, приводить всё в порядок…
И то, конечно, стыдно, что все тут теперь повторяют одну из моих нынешних триумфальных фраз:
–– Бездельник – следователь, у которого в производстве нет ни одного уголовного дела.
Стыдно, что теперь… коверкаю, само собою, слова…
Я – что, порядочный?..
Красиво как недавно ещё говорил себе, мне: человек – вообще существо с лишними движениями: спорт, война, преступность.
Это – так. Но и тут – недоговорённость какая-то…
И – догадка, что ли.
Подошвы мои горели – и думалось, конечно, – для спасения, для спасения…
Страшнее расщепления ядра атомного – приматовый скулёж: самая-де большая ценность мироздания!.. Если уж употреблять это – "человек" – слово, то в смысле – разве что на одном лужке!..
С другими-то живыми.
Шаги…
Посмотрел я на окно, на форточку…
Сказал шёпотом то, что сказалось:
–– Так не должно быть! Не может быть!.. Но – откуда я знаю, как я вообще мог узнать, что должно быть – иначе?..
Я, откровенно так сверившись, вздохнул:
–– Иначе – это я сам.
Шаги, шаги…
Взялся за карман, где часы… Вспомнилось, походя, забавное: "Сколько на ваших?" – смеялись мы, младшеклассники, этому, подслушанному, вопросу… А ведь это единственный возможный правдивый и честный – одного к другому – вопрос!
Уныло и обречённо я следил, как рука моя – делая это не для Брата, не для Брата! – в правом, со стороны сейфа, кармане пиджака под носовым платком, чтоб ключи не вывалились, нащупала, кончиком указательного пальца, из трёх, по привычке, ключей тот, что побольше и с одной бородкой… следил, как рука моя вытянула из кармана, как сунула сама, без моего глаза, без промаха, чуть пощупав лишь пальцем, как, по часовой, повернула два оборота… Уныло увидел аккуратную библиотечку аккуратно подшитых дел.
Покой порядка, покой порядка…
Так легче, что ли, перебывать?..
Из всех дел взял без промаха, по толщине корешка угадав, то дело, которое только и нужно было сию минуту.
И – сердце забилось, рот высох…
Я бегом – стакан, второй…
"За мной" был "человек" в камере, и… надо будет "спускаться"!..
Руки же мои сами вчерашнюю "обвиниловку" в машинку… пальцы зацепились, по краям машинки, за край стола…
Неужели я… умею печатать?..
"Малолетки"… пьяную тетку… не сымая с себя резиновых ихних сапог…
Хитрый – прочеловеческий призыв: "Мы живём в одном мире!" Он – призыв к войне каждого с каждым, точнее – всякого со всяким.
Ведь даже двоим не сесть на один стул, ложку одну сразу в два рта не сунуть, на берёзку не поглядеть абсолютно с одной точки…
Если – ежели все в одном мире, так одного, кто-то одного, каждого, всякого-то, любого каждого – и… нету!..
Зазвякал ключ… в соседней двери…
Если я не живу в мире, который – мой, то – вот что…
Стремиться – а без стремления что за жизнь! – я не могу к тому, к чему кто-то уже стремится, – разве не способен я видеть цели более достойной?.. И если мир один, то мне или ставить цели самые фантастические, или плюнуть на себя… ну и, конечно, обгадить другого.
Там, в его мире, он, Шуйцев, носит рукописи "обвиниловок" машинисткам и оттуда – от себя – косится, как я, там, где я, печатаю сразу набело и в шести или в скольких надо экземплярах.
И он, Шуйцев, сейчас, за стенкой, достал из сейфа… известно какое дело…
Стен – нет, есть кирпичи. А стен – нет, не бывает…
Он, Шуйцев, – там, где он – Шуйцев, – обсуждая "квалификацию", прилежно выговаривает так: пункт такой-то… части такой-то… статьи такой-то… И не нравится ему, заметил я, что я – наоборот: статья, часть, пункт…
Что я – начиная всегда с более общего.
Шаги, шаги…
А прокурорами, судьями назначают только женатых…
О, ведь сейчас… смотреть в глаза!..
Чего, единственного, боялся, решаясь в следователи – это и настигло меня однажды и притом, конечно, нечаянно: сидел, развалясь, читал, оперев на край стола, дело, в котором кто-то кого-то ударил… а глянул на сидящую передо мной (её муж ударил) – и вон из Кабинета!..
Глаза!..
В коридоре у окна стоя стоял, руки в бока, задыхаясь, промаргиваясь, ругая себя за неосторожность… Не собравшись, не посмотрев прежде мельком, не спросив прежде о чепухе – просто поднял свои, мои, глаза, да и посмотрел – её муж ударил – в глаза женщине!..
В глаза, да ещё и в глаза женщине, да ещё и… о-о!..
И даже не до того было, поняла ли она и стыдно ли мне перед собой, – предстояло ведь вернуться… сесть перед нею… спрашивать… слушать… смотреть… нет, не смогу!..
Глаза – в тех глазах (её муж сошёлся с другой) оголённая была решимость на самую оголённую решимость.
А я и всегда-то боялся людей как людей: прежде всего – женщин; мужчина – человек, а женщина – особенно.
Знакомые шаги в коридоре… знакомый непутёвый ключ поковырялся в отпертом замке…
В миг в единый, ещё ёжась напоследок в себе самом, вспомнил девочку-школьницу, целиком умненькую, всю голубоглазенькую: тихая и выспренная, смотрит на веселящихся подруг и с завистью, и со снисхождением.
Маня – вон какой он, вижу, худой, Маня, – в форме, небось, сегодня, – войдя откровенно нарочно, хоть и покраснев, сильно качнулся: мол, что вперёд – и сначала подал мне свою, его, кисть, а потом уж поставил к окну свой дипломат.
Я твёрдо сжал зубами своё, моё, ночное и утреннее: что у меня, чтоб меня защитить, нет никого, кроме меня…
С рождения там занимаюсь – прислушиваюсь к себе, а рядом все чем – посягают на меня.
Настырная память: раньше сидел в другом кабинете и с другим, с Матвеичем-то, теперь он в отставке, и женщина пожилая раз чуть заглянула в тот кабинет, поздоровалась же, видел я, лишь со мной, и Матвеич ей грубо, чего, дескать, тебе… Я тогда, вмиг всё поняв, кивнул уважительно ей, его жене: она ведь приходила просто на меня посмотреть…
Мне вдруг почудилось, как пахнет там, "внизу"…
Маня был чёткий, подтянутый, как бывало в дни построений.
Снял шинель, сел, попросил:
–– Посмотри, пожалуйста, на градусник.
Я глянул на стекло окна.
–– Ну, что?..
–– Я посмотрел.
Маня вздохнул глубоко и засобирался.
И лишь тут Маня… посмотрел на меня.
Он – я же видел! – вылез откуда-то, чтобы спросить, почему, зачем и для чего он живёт, но вместо того, но вместо того, чтоб сказать мне об этом – посмотрел!..
И ручка в двери – там, где эта ручка у этой двери, – медленно повернулась…
Там – в том мире, где Маня и все, пожалуй, из "управы", и где, как казалось, меня нет, – там, выходя из кабинета, не сразу от двери отходят, а полмгновения медлят у закрытой уже двери – услышать слова, что раздадутся преждевременно, а входя в кабинет – полмгновения у двери, ещё не открытой.
Прислушиваться ко мне – целый ведь арсенал манер и устройств!
Ну и, конечно и прежде всего, – не спросив меня!.. Ещё бы. Там, где эти устройства и манеры, только ведь думают, что ко мне прислушиваются!.. На самом же деле – поскольку прислушиваются не к себе, а ко мне – там, в том мире, всё оборудовано, чтобы… меня оскорбить!..
Оскорбить подозрением. И не в том, конечно, что мне есть, что таить, и я хочу утаить. А в том, что во мне есть забота кого-то заблудить!.. Что я тот, кто растрачивается на такое усилие.
С малых моих лет, вижу, во мне досада – на опасливость обо мне другого. И – от переборотого в себе желания крикнуть:
–– Не бойся! Зря!
И досада на хитрость другого: будто его хитрость мною не замечена, – от подавленного зуда крикнуть: