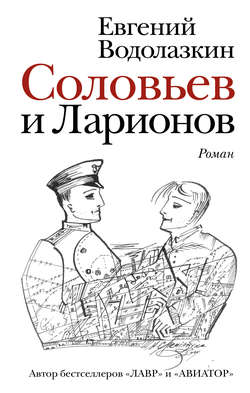Читать книгу Соловьев и Ларионов - Евгений Водолазкин, Jevgeni Vodolazkin - Страница 4
3
ОглавлениеПрисоединение Крыма к Украине произвело на генерала Ларионова не меньшее впечатление, чем пуск троллейбуса. Вместе с тем он был вовсе не склонен это обстоятельство драматизировать.
– Русские, не жалейте о Крыме, – заявил он, сидя на молу майским днем 1955 года.
Публичные высказывания генерала были большой редкостью, и вокруг него немедленно собралась толпа. Блеснув эрудицией, генерал напомнил о том, что в разное время Крым принадлежал грекам, генуэзцам, татарам, туркам и т. д. И хотя владычество их было по историческим меркам непродолжительным, все они оставили здесь свой культурный след. Касаясь русского следа, генерал короткими энергичными мазками обозначил впечатляющую панораму – от изысканных парков и дворцов до дамы с собачкой. Завершалось выступление по-военному четко:
– Как человек, оборонявший эти места, я говорю вам: удержаться здесь невозможно. Никому. Таково свойство полуострова.
Генерал знал, что говорит. В 1920 году оборону Крыма ему пришлось держать дважды – в январе и ноябре. События октября – ноября стали окончательным крахом Белого движения. Он не смог удержать Крым.
И все-таки первая, январская, оборона (никто тогда не считал ее возможной) оказалась успешной. Именно она отодвинула захват полуострова красными почти на год. Обстановку, сложившуюся к началу 1920-го, исследователи оценивают более или менее одинаково. Это было время, когда закат Белого движения становился всё очевиднее.
– Не на ярмарку ведь едем – с ярмарки, – так солнечным январским утром генерал Ларионов шепнул на ухо своему коню.
Для всех наблюдавших эту сцену сказанное генералом предстало в виде облачка пара. Остается загадкой, как в отсутствие свидетелей эта фраза смогла стать достоянием общественности. Спору нет, в исторической литературе неоднократно отмечались доверительные, почти человеческие отношения между лошадью и генералом Ларионовым, называвшим животное друг мой и обращавшим к нему отдельные свои реплики. Вместе с тем нелепо было бы представлять, что лошадь могла ответить генералу тем же, и уж тем более – болтать налево и направо о сказанном ей на ухо.
Впрочем, точно такие же слова были направлены генералом и английскому посланнику в ноябре того же года. Текст пришел по телеграфу, поскольку сам генерал, обеспечивая эвакуацию армии из Крыма, возглавлял последний рубеж обороны. Разумеется, в телеграмме английскому посланнику (она сохранилась) ни слова не сказано о том, что фраза адресовалась не ему одному. Как бы то ни было, в науке данный текст цитируется со ссылкой на январь[14], причем цитируется довольно часто, уступая в популярности лишь знаменитому определению причин поражения белых[15].
Итак, обстановка, сложившаяся к январю 1920 года, была непростой. Смертоносный ком, так изящно обрисованный генералом, перекатывался по Северной Таврии – преддверию Крыма, и не предвиделось силы, способной помешать ему туда вкатиться. Собственно говоря, верховное командование Белой армии и не собиралось Крым защищать. Основные силы белых отступали с боями по двум направлениям – Кавказ и Одесса, откуда впоследствии, после передышки и перегруппировки сил, планировалось начать контрнаступление. При благоприятном развитии событий предполагалось выдавить красных из Крыма самим фактом возвращения войск, обтеканием полуострова двумя стремящимися на север потоками. Но это могло произойти в будущем. В январе же 1920 года Крым молчаливо предназначался к сдаче. Количество брошенных на его оборону сил развеяло у всех последние сомнения. У всех, кроме генерала Ларионова.
Как известно, скрупулезный перечень войск, находившихся в распоряжении генерала при обороне Крыма, был дан всё той же А. Дюпон в статье Леонид и его дети[16]. Чтобы не заставлять читателя разыскивать эту труднодоступную, в общем-то, работу, повторим вкратце приведенные в ней данные:
13-я пехотная дивизия —800 штыков
34-я пехотная дивизия – 1200 штыков
1-й Кавказский стрелковый полк – 100 штыков
Славянский полк —100 штыков
Чеченский полк – 200 шашек
Донская конная бригада – 1000 шашек
Конвой Штаба корпуса – 100 шашек
Перечисленные войска располагали двадцатью четырьмя легкими и восемью конными орудиями. В ходе организации обороны генералу Ларионову удалось раздобыть также шесть танков (три тяжелых и три легких), а также восемь бронепоездов. Несмотря на то что все бронепоезда оказались неисправными, для сына директора департамента железных дорог они стали большой моральной поддержкой.
У всякого, кто хоть мало-мальски разбирался в военном деле, приведенный перечень не оставлял сомнений: высшее командование белых Крым решило оставить. На защиту фронта, растянувшегося на четыреста верст, было брошено всего 3500 бойцов. Генерал отдавал себе отчет в том, что в Северной Таврии Крым оборонять невозможно. И он не стал этого делать.
Вне всяких сомнений, генерала Ларионова вдохновила гениальная идея спартанского царя Леонида, решившего обороняться от персов в узком ущелье. Как известно, воинский контингент Леонида был весьма ограниченным (вдесятеро меньше того, чем располагал генерал Ларионов, не говоря уже о полном отсутствии бронепоездов), но это не помешало ему сражаться самым достойным образом. В свое время этот бой был подробно разобран на тактических занятиях во Втором кадетском корпусе, где учился будущий генерал. Подвиг царя Леонида произвел на кадета Ларионова неизгладимое впечатление.
Жизнь сложилась так, что сражения, в которых приходилось принимать участие генералу, разворачивались на подчеркнуто открытой местности. Это были поймы рек, бескрайние поля ржи или высохшие до растрескивания степи. Во время Первой мировой войны ему случилось было воевать в горах, но горами этими оказались Карпаты, к 1914 году порядком подвыветрившиеся и в оборонительном отношении никуда не годные. Генерал Ларионов мысленно благодарил судьбу за то, что в тактически невыгодной обстановке ему противостояли не персы. Лишь в январе 1920 года он почувствовал, что его час настал. Как и знаменитого спартанца, русского генерала посетило пронзительное осознание того, что единственным шансом для успешной обороны было сужение фронта. Он отказался от защиты Северной Таврии и двинул свои войска к Перекопу.
Перекопский перешеек был, наверное, самым безрадостным местом русского юга. В летнюю жару там было трудно дышать от испарений мертвой воды Сиваша. Время от времени, перекатывая высохшие водоросли по соляным разводам грунта, поднимался ветер, но это не приносило свежести. Сущим бедствием ветер становился зимой. По безлюдному заледеневшему пространству он гнал колючую, ни одним кустом не задерживаемую поземку. Ветер уносил с собой всякую надежду согреться. Он забирался за борта шинелей и примораживал к дулам пальцы, гасил разведенные из тележных обломков костры и присыпал пеплом лунный пейзаж Перекопа. Неудивительно, что подобная территория произвела на генерала Ларионова самое неблагоприятное впечатление. И он решил ее не защищать.
Ознакомившись с историей обороны Северного Крыма, военачальник обратил внимание на то, что общей ошибкой оборонявшихся всякий раз было стремление непременно удержаться на Перекопском валу. Между тем ввиду описанных климатических условий одно лишь пребывание на Перекопском перешейке отнимало огромное количество сил, средств и боевого духа, потому что нет ничего более пагубного для армии, чем сидение в окопах на морозе. После того как защитников сбрасывали с Перекопского вала, дорога на Крым была открыта. Чтобы не повторять опыт своих предшественников, хитроумный генерал поступил иначе. Заметаемое снегом и лишенное всякого жилья пространство он решил предоставить своему противнику. Красных ждали не на Перекопском перешейке (там было оставлено лишь небольшое охранение, роль которого сводилась к уведомлению основных сил об атаке). Их ждали у выхода с перешейка.
Красные оправдали надежды генерала. Конница, усиленная пехотой, втянулась в перешеек сразу же вслед за оставлением его белыми войсками. Пройдя по ледяной пустыне целый день и не встретив никого, с кем можно было бы всерьез сразиться, на закате дня красные почувствовали тревогу. Двигаться вперед на ночь глядя им представлялось опасным. Решив заночевать в морозной степи, они выбирали, как им казалось, меньшее зло.
Многие исследователи считают, что уже в январе 1920 года красными войсками на крымском участке командовал Дмитрий Петрович Жлоба (1887–1938), сын крестьянина, окончивший Московскую авиационную школу (1917). Существует и противоположное мнение, согласно которому к январю 1920-го Д. П. Жлоба всё еще продолжал учебные полеты в связи с невыполнением им школьной программы по летным часам[17].
Все, кому знакома история этого авиатора, знают, очевидно, и о непростых отношениях, сложившихся между ним и остальными учениками авиационной школы. Будучи в массе своей гораздо младше Д. П. Жлобы, они позволяли себе насмехаться над особенностями его внешности (почти полное отсутствие лба плюс наличие двух лишних зубов в верхнем ряду) и всячески оттирали его от летательных аппаратов. Затравленный младшими товарищами, учащийся авиационной школы имел возможность летать только по ночам, что сделало его квалификацию односторонней. Ночные полеты не были засчитаны Жлобе в качестве летного времени. В итоге ему было предложено еще раз налетать необходимое количество часов – уже днем, – чем он с переменным успехом занимался до 1920 года. В конце концов его назначили командиром Первого конного корпуса, и он прекратил свои опасные опыты в воздушном пространстве.
Жлоба-кавалерист оказался удачливее Жлобы-авиатора. Он умел оказывать влияние на личный состав своего корпуса, в особенности на лошадей. Животные беспрекословно слушались зычного, на близком расстоянии непереносимого голоса крестьянского сына и с первого окрика устремлялись в атаку. Бросаясь на врага с оголенной шашкой, Д. П. Жлоба представлял перед собой бывших соучеников по Московской авиационной школе. Проявляемая им в бою неистовость производила впечатление не только на противника. С определенного времени она стала вызывать настороженность даже в подчиненном ему корпусе.
Когда Жлоба объявил о ночевке на Перекопе, никто не возразил. Даже если бы существовал какой-то более приемлемый план, вряд ли кто-либо осмелился противоречить командиру. Но такого плана не было и не могло быть. Всё, что с этого часа происходило с войсками Жлобы, было воплощением плана генерала Ларионова. Красные провели ночь под морозным небом Перекопа. Потом еще одну. Их подавляющий численный перевес оставался нереализованным. Не имея возможности развернуть свои боевые порядки, они не решались напасть на белых первыми. Казалось, желанный бой приводил Д. П. Жлобу в недоумение.
После третьей проведенной на Перекопе ночи половина личного состава корпуса заболела, и выпускник авиационной школы понял, что рискует потерять свои войска без боя. Он решил действовать. На рассвете четвертого дня красные двинулись к выходу из Перекопского перешейка и попали под жесточайший фланговый огонь со стороны Юшуня. Их атака закончилась беспорядочным бегством и пленением. Следует отметить, что пленные были основным источником пополнения Белой армии. Взятые в плен снова ставились под ружье и начинали двигаться в прямо противоположном направлении. Они дрались с той же непреклонностью, что и до своего пленения. Такой была эта война.
Д. П. Жлоба ушел, чтобы вернуться. Собрав силы, он вновь попытался прорваться в Крым, но, как и в первый раз, дальше Перекопа ему пройти не удалось. Выстроенные белым генералом защитные линии казались непреодолимыми. Однако Ларионову было известно, что уязвимы и они. Генерал Винтер, оказавший, по словам русского полководца, неоценимую услугу при замораживании красного наступления, грозил переметнуться на вражескую сторону. Зима 1920 года была настолько сурова, что произошло неожиданное: соленый, как бочка с огурцами, Сиваш начал замерзать. В те дни, когда Жлоба упрямо бился в закупоренном выходе из перешейка, генерал Ларионов посылал на Сиваш следить за образованием льда.
Сначала это были тонкие, наподобие стекла пластинки, покрывавшие воду залива по утрам. Когда под дневным солнцем они перестали таять, генерал встревожился. Уже через несколько дней лед был настолько прочен, что мог выдерживать легковооруженного пехотинца. Ночью, чтобы не выдать предмета своих опасений, генерал стал направлять на Сиваш груженые подводы с тем, чтобы они проверяли лед на прочность. Ведь замерзни лед чуть крепче, фермопильский план генерала рухнул бы в одночасье. По льду Сиваша прошли бы и пехота, и кавалерия, и все имевшиеся у красных тяжелые орудия. Кажется, он даже замерз так на несколько дней, но Жлоба, увлеченный очередным штурмом Перекопа, на это не обратил никакого внимания.
Паника, поднявшаяся было в Крыму после занятия красными перешейка, постепенно улеглась. Учреждения распаковали свои бумаги, наскоро сброшенные в фанерные ящики. В те дни всё уже было готово к эвакуации. Вместе с армией эвакуироваться собирались и тысячи беженцев из Центральной России, вырвавшихся из рук большевиков и до смерти боявшихся попасть в них снова. Они так и говорили – до смерти, и были недалеки от истины. Лишь немногие из тех, кто впоследствии не сумел эвакуироваться в Константинополь, остались в живых.
Интересно, что установление советской власти в Крыму стало темой, данной Соловьеву проф. Никольским на четвертом курсе. Тогда Соловьев еще не знал, что будет заниматься судьбой генерала, но начиная с этого времени темы, им разрабатываемые, всё ближе смыкались с будущим его главным исследованием. Соловьев подошел к делу со всей тщательностью и нашел в архивах несколько неопубликованных воспоминаний. Это и послужило основой его курсовой.
Речь шла преимущественно о Севастополе, который оказался первой ласточкой коммунистической весны. Соловьев описал, как в городе были развешены объявления, приглашавшие всех бывших собраться в городском цирке для трудоустройства. Несмотря на предпринятые усилия, исследователю так и не удалось выяснить, почему был выбран именно цирк. Стало ли это предвестием побеждавшего абсурда, содержался ли в месте собрания намек на античное растерзание зверями или цирк был попросту единственным известным большевикам залом – только никто из бывших не почувствовал подвоха. Это были невоевавшие бывшие, потому что те, кто воевал, находились уже в Константинополе. Бывшие бухгалтеры, секретарши, гувернантки – все они послушно пришли на площадь перед цирком. Когда площадь наполнилась, ее окружили войсками и натянули колючую проволоку. Пришедших было так много, что они не могли даже сесть. Несколько тысяч бывших простояли на площади двое суток. На третий день их вывезли за город и расстреляли[18].
И это было только начало. Собрав данные по всем городам Крыма, Соловьев пришел к выводу, что за первые месяцы советской власти на полуострове было казнено около 120 000 человек. Это на 15 000 превышало данные, приводимые в энциклопедии И. А. Рацимора[19]. Серьезно – в сторону увеличения – расходились данные по расстрелянным старикам, женщинам, детям и раненым.
Курсовая была написана вполне квалифицированно, с привлечением обильного фактического материала, удостоверявшегося 102 сносками. К минусам работы проф. Никольский отнес манеру изложения, показавшуюся ему излишне эмоциональной. Он попросил Соловьева убрать риторические вопросы, а также пассажи, выражающие отношение исследователя к действиям красных. Самым красноречивым в работе были, с точки зрения профессора, цифры. По большому счету, они не нуждались в подробных комментариях.
На пятом курсе Соловьев написал дипломную работу на тему Роль латышских стрелков в Октябрьском перевороте и потеря независимости Латвией в 1939 г., где два отраженных в заглавии события оказались у него в причинно-следственной, но главным образом – морально-этической связи. Воюя на стороне путчистов, латышские стрелки, по мысли Соловьева, поддержали режим, проглотивший впоследствии и Латвию, и ее независимость, и самих стрелков. В этот раз риторическими вопросами работа не сопровождалась. Комментарии были минимальны.
Несмотря на парадоксальность мышления юного историка (а может быть – именно благодаря ей), проф. Никольский эту работу опубликовал[20]. Несколько месяцев спустя на статью Соловьева в популярном рижском издании вышла небольшая, но энергичная рецензия за подписью Совет ветеранов. Ее авторы не видели никакой связи между указанными событиями и, в свою очередь, рассматривали возможность альтернативного хода истории в 1939 году. Гипотетическое будущее Латвии им виделось в самых радужных тонах.
Проф. Никольский, который в этих обстоятельствах счел необходимым вступиться за своего ученика, опубликовал свой Ответ рижским ветеранам[21]. Начал он с теоретического введения, в котором обосновывал важность в истории нравственного фактора. По мнению исследователя, нравственная ущербность лишала государства энергии, необходимой для их благополучного существования. Профессор показывал, как она опустошала их изнутри и превращала в пустую оболочку, сминаемую первым же ветром. В этом контексте им было рассмотрено падение великих государств Древнего мира (Греция, Рим) и Нового времени (СССР, США). Касаясь других государств, проф. Никольский привел пример Польши, договорившейся с большевиками в 1920 году и поглощенной ими же в 1945-м.
Вместе с тем, верный своей теории об отсутствии исчерпывающих научных истин, профессор указывал, что говорить можно лишь о тенденции, но не о правиле. В качестве исключения он приводил в пример англичан и американцев, ведших в том же 1920 году за спиной у генерала Ларионова сепаратные переговоры с большевиками и нимало впоследствии не пострадавших. В счастливом для англичан и американцев исходе дела решающим, по мнению петербургского профессора, оказался фактор расстояния и окруженность обоих англосаксонских государств водой. Географический же фактор позволил этим государствам повременить со вступлением во Вторую мировую войну до примерного выяснения обстановки. В этих случаях – и здесь Никольский шел навстречу Соловьеву – вода играла решающую роль.
Впрочем, признавался, подводя итоги, профессор, возможно, его взгляд на вещи излишне мрачен. С точки зрения проф. Никольского, скепсис его мог объясняться тем, что историки в большинстве своем – пессимисты, поскольку имеют дело преимущественно с покойниками. История – наука о мертвых, неожиданно заключал свое эссе русский профессор, в ней очень мало места для живых.
Разумеется, афористическая форма высказывания прежде всего была призвана подчеркнуть необходимость определенной дистанции по отношению к исследуемому материалу. И все-таки замечание руководителя произвело на Соловьева неизгладимое впечатление. В аспирантуру Института русской истории он поступал в довольно угнетенном состоянии. Мрамор Большого конференц-зала, где он сдавал вступительные экзамены, напоминал ему анатомический театр. С историческими лицами, которыми предстояло заниматься Соловьеву, его примиряло только то, что в период своей деятельности они были еще живы.
От мировоззренческого кризиса Соловьева окончательно спас отъезд аспиранта Калюжного. Помимо научной темы, от меланхолического поклонника генерала Соловьеву достался основной вопрос исследования (почему генерал остался жив?) и одна-единственная библиографическая карточка. Эта карточка содержала – конечно же! – данные книги А. Дюпон. Прочитав книгу, Соловьев нашел тему интересной и мало исследованной. Кроме всего прочего, генерал Ларионов был абсолютно мертв и являлся, таким образом, законным объектом научного исследования. Даже по самым строгим историческим меркам с ним уже можно было работать.
Но генерал был не просто мертв. Еще будучи жив, он, в отличие от многих исторических деятелей, рассматривал смерть как непременный факт жизни.
– Посмотрите на них, – говорил он об этих деятелях, – они действуют так, будто не знают, что их ждет смерть.
Генерал знал, что его ждет смерть. Он готовился к ней, маршируя в предгорьях Карпат и проверяя посты на Перекопе. Уже впоследствии, когда поздно вечером кто-то стучал в его дверь, у него всякий раз мелькала мысль, что это стучит смерть. И уж конечно, он ожидал ее стариком, сидя на молу в своем складном кресле. Он удивлялся, что она так долго не идет, но никогда не жалел об этом.
Однажды генерал сфотографировался в гробу. Взяв с собой фотографа, он зашел в бюро ритуальных услуг и попросил разрешения кратко воспользоваться гробом. Ему не смогли в этом отказать. Генерал оправил складки слежавшегося мундира, лег в гроб и, сложив на груди руки, закрыл глаза. Среди тревожного молчания ритуальных агентов фотограф сделал несколько снимков. Самый удачный из них известен почти так же, как знаменитое фото на молу. Он сопровождает большинство публикаций о генерале. Мало кто знает, что снимок был сделан при жизни этого выдающегося человека. Не подозревая о степени своей проницательности, некоторые исследователи отмечали отсутствие в снимке черт смерти. Более того, используя традиционную для таких случаев образность, они выражались в том смысле, что генерал на фотографии словно спит. На самом деле генерал не спал. Из-под прищуренных век он наблюдал за реакцией собравшихся и представлял, что они могли бы говорить о нем в случае его действительной смерти.
Возможно, ему было обидно, что он не увидит собственных похорон, и он решил устроить своего рода репетицию. Не исключается, что такого рода поступок был попыткой то ли обмануть смерть (я умер давно, чего меня искать?), то ли спрятаться от нее. Да, генерал не прятался от смерти в молодые годы, но ведь в старости люди меняются…
Впрочем, более уместным представляется другое объяснение, исходящее из давних и почти интимных отношений генерала со смертью. Не было ли произошедшее родом любовной игры с ней или – что также вполне допустимо – проявлением особого старческого кокетства? В точности ответить на эти вопросы сейчас уже невозможно, как невозможно сколько-нибудь достоверно рассуждать о взаимоотношениях жизни и смерти в чьей-то судьбе. Можно лишь констатировать, что в конце концов генерал встретился со своей смертью. Когда понадобилось, она нашла его без особых усилий.
Задумываясь о теме смерти в истории генерала Ларионова, Соловьев стремился понять психологию того, в чьей профессии готовность умереть являлась первым и главным требованием. Он пытался прочувствовать состояние человека накануне боя, когда всякое его действие, мысль и воспоминание могут быть последними. Можно ли к этому привыкнуть? Известно, что вечерами накануне боя генерал подолгу гляделся в походное зеркало, словно пытаясь себя запомнить напоследок. Медленно поворачивая кисть руки, он как бы представлял ее лежащей в соседнем окопе. Неразделимость членов человеческого тела казалась ему в такие вечера преувеличенной.
Имел ли человек в таких обстоятельствах право на привязанности? Военная дружба – пронзительна, как пронзительна и военная любовь: в них всё как в последний раз. Это повод переживать их с предельной остротой или, наоборот, отказаться от них совершенно. Что выбрал тогда генерал?
Он выбрал воспоминания. На случай возможного отсутствия будущего он продлевал свою жизнь многократным переживанием прошлого. Генерал почти физически ощущал шелк обоев гостиной, по которым он скользил плечом, спасаясь от внимания гостей, кем-то из прислуги – по родительскому, очевидно, распоряжению – неожиданно внесенный сюда, в царство десятков свечей, звенящей посуды, сигар и огромных, до потолка, окон, беспечно распахнутых в рождественский полумрак Петербурга. Генерал твердо помнил, что, вопреки обычным зимним правилам, окна были открыты – помнил потому, что еще долгое время продолжал считать Рождество днем наступления тепла. Вспоминая это, он уже знал, что ошибался.
Но для вечеров перед боем у генерала было еще кое-что: первое посещение ялтинского пляжа. Оно подробно описано в опубликованной части генеральских воспоминаний[22], что позволяет, опустив ряд подробностей, остановиться на ключевых моментах этого события. Прежде всего ребенка поразила спокойная сила моря, мощь клочковатой пенистой волны, сбившей его с ног и увлекшей за собой при первом же приближении к воде. В отличие от своих домашних, он не испугался. Выскочив на берег, он уже нарочно падал на самой кромке прибоя, позволяя стихии перекатывать свое маленькое розовое тело. От избытка чувств он прыгал, кричал и даже слегка помочился, наблюдая, как никому не заметная струйка исчезала в накатившей волне образца 1887 года.
С тех пор пляж занял в жизни ребенка особое место. Даже в 1890-е годы, когда обстоятельства не всегда позволяли ему появляться на пляже нагишом, радость будущего военачальника от встречи с морем не уменьшилась. Он по-прежнему встречал волны победным возгласом, хотя и не допускал уже тех самозабвенных поступков, которые отметили его первое свидание со стихией.
Несмотря на церемонность XIX века, эта эпоха имела свои очевидные отдушины. В те годы, когда платье только-только поднялось над щиколотками, а об открытых коленях даже не мечталось, раздеться полностью было в определенном смысле проще, чем сейчас. Нагое купание крестьян и крестьянок и, более того, помещиков и помещиц не было в русской деревне чем-то из ряда вон выходящим и уж ни в коем случае не рассматривалось в качестве оргии[23]. Эта простота нравов порой касалась и пляжа. По воспоминаниям князя П. Урусова, еще в начале двадцатого века «было принято плавать и сидеть на пляже обнаженным, во всяком случае, в частном имении»[24].
И все-таки пляж пришел как явление западноевропейское, принеся с собой ряд принятых там правил игры. На пляже требовалось одеваться, но одеваться особым образом: не в привычное исподнее, а в специального фасона трико – полосатое и интересно облегавшее фигуру. Недостатком пляжной экипировки был, однако, общий недостаток одежды того времени: на теле купальщика она почти не оставляла открытых мест.
Воюя в континентальных частях Европы, генерал неизменно вспоминал пляж – влажную солоноватость ветра, едва различимый запах кустов кизила и ритмичное качание водорослей на прибрежных камнях. С уходом волны водоросли послушно повторяли форму камней, подобно тому как волосы ныряльщика, сверкая в стекающей воде, ложатся на его голове на манер плавательной шапочки. Генерал вспоминал запах раскаленной гальки, когда на нее упали первые капли дождя; он слышал особый пляжный шум – приглушенный и как бы далекий, состоящий из детских криков, ударов по мячу и шуршащего накатывания волн на берег.
Пляж для генерала был местом торжества жизни в том, пожалуй, смысле, в каком поле боя является местом торжества смерти. Не исключено, что возможностью (пусть издали) обозревать пляж и было вызвано его многолетнее сидение на молу – нога на ногу, в неизменном складном кресле, под дрожащим кремовым зонтом. На пляж он смотрел лишь время от времени, вполоборота, но получал от этого неописуемое удовольствие. Радость генерала омрачалась только двумя обстоятельствами.
Первым из них было предчувствие зимы, когда заносимый снегом пляж превращался в воплощение сиротства, становясь чем-то противоположным по отношению к своей изначальной предназначенности. Вторым обстоятельством было то, что все, с кем он когда-либо оказывался на пляже, были давно мертвы. Загипнотизированный жизнеутверждающей аурой пляжа, генерал в свое время не допускал самой возможности смерти тех, рядом с кем он сидел в шезлонге, открывал лимонад или двигал шахматные фигуры. К большому разочарованию генерала, никого из них уже не было в живых. Да, они умерли не на пляже (и это их отчасти извиняло), но ведь умерли. Думая об этом, генерал сокрушенно качал головой. Сейчас, спустя время, можно констатировать, что он тоже умер.
14
См., например: Романчук В. На закате // Материалы к истории Гражданской войны. Т. 21. М., 1996. С. 578.
15
Причины поражения сформулированы генералом в предисловии к обнаруженным А. Дюпон воспоминаниям. Формулировка дана с обескураживающей прямотой и звучит следующим образом: «По России покатился средней величины ком дерьма. С невероятной скоростью он разрастался за счет налипания родственного материала, которого в России оказалось, увы, очень много. Мы были раздавлены этим комом» (см.: Генерал Ларионов. Наброски к автобиографии. С. 41.).
16
Dupon A. Léonide et ses enfants // Revue des études slaves. V. 57. Paris, 1987. P. 35–59.
17
См.: Вугмейстер Е. Ц. Дмитрий Петрович Жлоба. М., 1954. С. 87–88. (Серия «Жизнь замечательных людей».) Ср.: В мире Жлобы: межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 1948. С. 17.
18
Ср.: Сапожников А. Крым осенью 1920 г. // Исход русской армии генерала Врангеля из Крыма / составление, науч. редакция, предисловие и комментарии С. В. Волкова. М., 2003. С. 605.
19
Рацимор И. А. Энциклопедия Гражданской войны. А – К. С. 590. Впоследствии выяснилось, что в статье Казни, на которую ссылается Соловьев, И. А. Рацимором рассматривались только расстрелянные (ок. 110 000 чел.). Утопленных, задушенных и разрубленных на части (ок. 15 000 чел.) исследователь учитывает в статье Зверства.
20
Прошлое и настоящее. 1996. № 1. С. 35–78.
21
Прошлое и настоящее. 1997. № 3. С. 55–96.
22
Генерал Ларионов. Наброски к автобиографии. С. 52–58.
23
См.: Волков-Муромцев Н. Юность. От Вязьмы до Феодосии. М., 1997. С. 88.
24
Урусов П. Из воспоминаний исчезнувшего времени // Крымский альбом. Феодосия; М., 2002. С. 59.