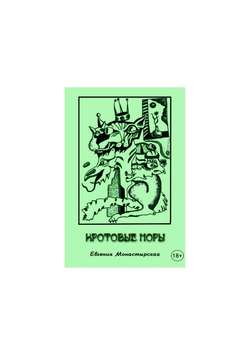Читать книгу Кротовые норы. Рассказы - Евгения Монастырская - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
КРОТОВЫЕ НОРЫ
КАК ЭТО БУДЕТ У ТЕБЯ? ЛЕТО 2010
Оглавление«Я делаю свое дело, а ты делаешь свое дело. Я живу в этом мире не для того, чтобы оправдывать твои ожидания,
ты живешь не для того, чтобы оправдывать – мои.
Ты – это ты. А я – это я.
И если нам случится найти друг друга – это прекрасно.
Если нет, – этому нельзя помочь».
Фридрих Перлз
основоположник гештальт терапии
Возвращаюсь, маниакально возвращаюсь к тому дню – знойному, потному, душному – перечеркнувшему нашу историю так безжалостно, бестактно, грубо.
Фотограф поставил Надю и отца ее ребенка, с крохотным живым кульком на руках, перед входом в роддом.
– А теперь целуйтесь, – и нацелил камеру.
Они застыли как на плохой рекламной картинке – в слащаво-вычурных позах и, вытянув губы трубочкой, зависли в миллиметре друг от друга.
– Нет, целуйтесь в контакте, – фотограф настаивал.
– Лучше не надо, – Надя шарахнулась, досадливо скривилась, но все-таки сотворила мимолетный поцелуй.
Фотограф остался недоволен. Откуда знать ему было, наивному, что из роддома вышли отец-гей и мать-лесбиянка.
В малогабаритку ввалились большой компанией родственников и друзей. Наступали друг другу на ноги, возбужденно ходили взад-вперед, обмахивались платками. На кухне обмывали шампанским новорожденного, пихали куски в рот, вставали в очередь потискать младенца.
По комнате вальяжно курсирует новоиспеченный отец – Миша. Довольный, полноватый, огромный. Потеет, розовеет упитанными щеками, улыбается, и улыбка его похожа на растаявшее кремовое пирожное – липкое, приторное. Невыносимо хочется поставить ее в холодильник – заморозить. Заслышав кряканье младенца, несется в детскую, игриво приплясывая, щелкая толстыми пальцами. И повторяет:
– О! Опять заверещал!
Чудовищно ревную к нему. Он допущен, принят в семейный клан, я – мимо. Он ответственный, заботливый, большой, объемный, внушающий доверие, ощущение надежности, постоянства…
Семье нужен – он. Не я – потерявшаяся в жизни, не знающая, чего хочу, без денег, работы, машины и стойких железобетонных планов.
Надя вынимает из бюстгальтера белую грудь, неловко предлагает малышу розовый сосок. Пальцы ее чуть дрожат.
– Выйдите из комнаты, – говорит Надина мать, глядит с укором, оттопырив нижнюю губу, – не надо смотреть, как она кормит.
Осторожно опускаюсь в кресло в соседней комнате, глупо улыбаюсь. Тело стало чужим, не знаю, куда деть его, спрятать от этих людей, так неожиданно, внезапно, странно пересекшихся с моей жизнью. Беру персик, неприязненно мну его в пальцах, бормочу:
– Почему не смотреть?..
Отзывается Надин отец. Он взволнован, глаза сияют, он много, часто говорит сегодня, заикается от волнения и крутит седовласой головой. Его белая рубашка расстегнута на потной волосатой груди – похож на симпатичного стареющего мачо. На счастливого мачо, обретшего, наконец, внука.
– Понимаешь, – тряхнул остатками волос, – когда мать кормит, от нее к ребенку идет энергия. Нельзя нарушать этот поток. На это могут смотреть только самые близкие люди.
Стискиваю зубы, утыкаюсь в персик.
А я, наивная, думала, что вхожу в этот сакральный круг самых близких… Разве не я была с ней эти девять месяцев, не я прислушивалась к первым шевелениям плода, не я разговаривала с зарождающимся человечком через тонкую кожаную стенку. И целовала, бесконечно целовала нежный выпуклый живот в голубых прожилках и прикасалась к пупку кончиком языка.
Толпимся в тесной прихожей. Пора уходить.
Миша подвозит меня до метро.
Вальяжный, довольный, скосив глазки, как бы жалея меня, сочувственно произносит:
– Ну что… Надя теперь вся уйдет в ребенка.
Ты хочешь сказать, милый, – думаю я, развалившись на заднем сиденье его бесшумной тойоты, – что у вас теперь семья, и нечего мне отвлекать Надю от ее прямых обязанностей? Она теперь не женщина, прежде всего – мать.
Он переводит разговор на своего парня – поймал его на измене, взломав почту. Возмущен.
– А ты сам изменял ему? – спрашиваю.
Хмыкнул сквозь зубы:
– Это вопрос, конечно, интересный…
И продолжает размеренно, с наслаждением и полуулыбкой, смакуя каждое слово:
– Но Игорь понес за это наказание… по полной программе. Я водил его проверяться в вендиспансер. К моему другу врачу. И все это было демонстративно. Ходил с ним по кабинетам.
Невыносимо захотелось дать ему по физиономии. Расквасить сахарное личико.
Вместо этого говорю сквозь зубы:
– Если бы он был сильной личностью, он бы тебя послал.
Миша молчит. У метро вылезаю из машины.
Около года назад мы сидели с Надей в кафе. Она нервничала, смотрела в тарелку, на подходящего официанта, в окно, на суетливую, мелькающую телами улицу, на свои пальцы. Вдруг уставилась в упор:
– Я хочу что-то сказать.
– И?
– Через неделю мы с Мишей сдаем анализы… и начнутся попытки забеременеть.
– А-а… понятно, – сохраняю спокойствие, мышцы лица не дрогнули, но в голове что-то дернулось, болезненно, резко – будто рыба заглотнула наживку, и ее подсекли за губу. Она упоминала о ребенке, но я не знала, что это будет так скоро.
Надя не сводит с меня глаз, пытаясь вычислить, выудить из черепной коробки мои подлинные мысли. Тщетно – искусно маскируюсь. Она не увидит моего страха.
Чуть наклонив голову, она говорит глухо:
– Ели ты не готова к этому, если считаешь, что пока не нужно… можно отложить.
Принимаю благородную осанку и важно:
– Я не имею право препятствовать твоим планам.
Она комкает салфетку. Чуть наклоняется вперед, в огромных глазах вызревают слезы, шепчет:
– Я не знаю, как всё будет. Сможешь ли ты это принять. Ты не раз говорила, что семья, ребенок – это не твое… Я боюсь потерять тебя.
Порывисто встает, задев ногой стол. Скрывается в уборной.
Я запаниковала неделю спустя. Злилась, не понимая на что. Издевалась над собой – вляпалась в ситуацию. Не впишусь в Надино будущее, повторяла себе, ей. С Мишей они делают большое важное дело. Как и кем я буду в этом тандеме?
Однажды, лежа в кровати, сказала ей:
– Ты всё равно будешь в выигрыше. Если мы расстанемся, у тебя будет маленький человечек. А у меня никого не будет.
Она прижалась ко мне:
– Хочешь, я буду твоим человечком?
Обняла мою голову, покрыла поцелуями щеки, глаза, нос. Отчаянно горячо зашептала:
– Я буду твоим человечком!
Эхом долго звучали ее слова в моем сознании, отползающем в сон.
Она давно мечтала о ребенке. На сайтах искала геев, жаждущих реализоваться в отцовстве. Наконец, выудила высокого симпатичного рекламщика Мишу. Он был помешан на отдыхе в Таиланде, здоровом образе жизни и имел, казалось бы, взаимоисключающие музыкальные вкусы – питал нежную страсть к опере и ходил на выступления «Виагры». Три года жил со своим парнем.
Она познакомила нас и вчетвером мы выбирались на выставки, зависали в кафе и улыбались друг другу, стараясь нравиться. После этих встреч у меня болели мышцы лица, так долго приходилось удерживать на физиономии противоестественную улыбку.
Они нашли клинику. Две попытки оказались неудачными. На третий раз я поехала с ними. Плавно покачивалась на заднем сидении машины, обнимала Наташу за плечи и внутренне хохотала – симпатичная семейка – сообразим детеныша на троих!
Подъехали к клинике с пафосным названием «Мать и дитя».
Миша ушел сдавать свою драгоценную сперму врачам. Вернулся веселый, довольный, подмигнул:
– Заводят в комнатку, выдают пробирку. На стене экран. Я перещелкал весь запас их возбуждающих видеороликов. Нет там гейского порно! Под конец наткнулся на ролик с двумя лесбиянками!
Смеемся.
– Никогда не буду говорить своему ребенку, каким экстравагантным способом он был зачат, – тихо замечает Надя.
Теперь ее очередь идти.
Провожаем до дверей клиники. Она стоит между нами, медлит, слегка опустив голову, прислушивается к чему-то внутри себя – будто готовясь к рывку, как бегун на старте в ожидании выстрела. Кончиками пальцев трогает наши руки. Оборачивается ко мне – огромные глаза расширены. Целую ее в губы. Слегка оттолкнувшись от наших рук, тел, глаз, скрывается в дверях.
Не спеша возвращаемся к машине. Испытываю неловкость, не понимая о чем говорить с Мишей, напрягаюсь. Он ставит оперу Чайковского «Евгений Онегин». Становится легче.
В это время Надя ложится на кушетку, готовясь принять, впустить в глубины своего организма подготовленную очищенную сперму.
Миша выуживает из оперы лакомые кусочки, ставит их отдельно. Прикрывает глаза и улыбается, сладко причмокивая губами, будто смакуя ароматный кусочек рахат-лукума. Слушаем Чайковского, замерев, боясь шевельнуться, нарушить волшебство.
В это время сперматозоиды движутся по маточным трубам Нади, стремясь внедриться в маточное яйцо.
Через сорок минут она возвращается.
– О, мать идет! – Миша машет рукой.
Она осторожно садится в машину, прижимается ко мне. Глажу ее по голове. Утыкается лицом в шею – чувствую кожей ее горячее дыхание. В этот миг думаю – буду любить ее вечно, в этот же миг знаю – это ложь.
Через день от нее пришла sms: «Я верю, в этот раз получится, ибо ребенок зачат в любви – пусть это и глупо звучит. Но ты поцеловала меня и обожгла мои губы».
Действительно… получилось.
Позже Надя решила – после рождения ребенка она поживет у матери. Я буду приезжать в гости. Она привыкнет к своему новому положению, и через полгода вернется с малышом в нашу квартиру.
Поживет у матери… Теперь мне кажется, это было нашей главной ошибкой.
А потом пришел тот день – день выписки из роддома. Перечеркнувший.
С тех пор я не вижу ее.
Лето 2010. Мгла окутала город. Москва задыхалась, корчилась, глотала дым, плавилась телами, мозгами, тротуарами, растекалась в сорокоградусной жаре. Горели леса, торфяники. Люди сталкивались лбами в тумане-смоге, скрывали лица под мокрыми масками. Этим летом богатели продавцы кондиционеров и религиозные мистики. А церковь призывала к всеобщему покаянию. Земля трескалась, на выжженной траве корчились желтые трупики опавших листьев. Птицы сыпались с неба, собаки шалели, шатались, падали на тротуар, высунув длинные розовые языки. Солнце пялилось сквозь дым жутким оранжевым глазом – глазом серийного маньяка-убийцы. Вода в озерах была уже не теплой – местами откровенно горячей. И дохлая рыба плавала вверх брюхом, испуская зловоние.
Выйдя из роддома, Надя не спала ночами – комната раскалялась до 35 градусов. Мальчик не спал. Не кричал – не было сил. Лежал красноватый, вяло шевелил ручками, кряхтел, помаргивал мутными глазками. Надя прикладывала к родничку малыша мокрую тряпочку. Чтобы не было перегрева мозга.
Через пару дней переехала на квартиру к Мише под спасительный кондиционер.
А я скрылась на даче. И каждый день перечитывала ее последнее письмо.
Она писала, что найдет выход, найдет вход. Говорила, мы умные люди и можем быть счастливы вместе. Рисовала в воображении картины: вот мы везем годовалого малыша на море, вот едем на музыкальный фестиваль в лес. И я учу его ставить палатку, разжигать костер. «Только представь и поверь в наше будущее – две красивые девушки, любящие друг друга, и рядом с нами маленький симпатичный мальчик, для которого мы – целый мир».
Она верит, надеется, хочет.
Я держу ее мыслеобразы в ладонях. Разглядываю с интересом, с грустью. Стоит сделать шаг – и этот мир станет мой.
Но не создана я для семейной жизни. Ведь бродяга я, скиталец, временщик, путешественник за тридевять земель. Держу ее мечты в ладонях – они медленно тают, отпускаю их – растворяются в воздухе, причудливо переливаясь, взывая, агонизируя.
Этим летом солнце-мутант превратилось в серийного убийцу – выжгло землю, мозг, глаза, озера, любовь, надежду. У меня обожжены ладони – не удержать в них то, что было моим.
Я не знаю, куда плыть, не знаю. Где мои ориентиры, пристанище? Может быть, просто нет их? Меня шатает как надравшегося матроса на палубе ветхого суденышка, попавшего в шторм. Но я держусь на ногах, держусь. Я улыбаюсь загадочно, дико. Я хохочу так, что рыба всплывает вверх брюхом, а чайки с криками улетают прочь.
Не могу прислушаться к своему сердцу – каждый раз оно выстукивает новый ритм, импровизирует, как джазовый музыкант, играющий без нот. Стонет, жалуется, бормочет, как бродяга, забившийся в вонючее логово под мостом. Тычется слепым котенком средь мусорных баков, призывая мать, которую в безлунной ночи растерзала, выпотрошила стая диких псов.
Я не знаю, не вижу, не узнаю себя. Теряюсь среди сотен своих разноцветных масок, восхитительных или безобразных игр, надуманных или реальных трагедий. Я устроила карнавал, театр, шоу – я режиссер, актер, зритель в одном лице.
Это моя реальность.
Никогда не знала, как объяснить Наде, что происходит со мной.
– Ты просто не понимаешь, в каком мире я живу, – сказала однажды.
Она взяла мои ладони в свои:
– Но я пыталась забрать тебя в свой мир. Показать тебе другое.
В этот момент я почувствовала себя беззащитной, слабой, совсем маленькой. Шепнула:
– Забери меня к себе.
– Я заберу тебя куда угодно.
Я сижу на даче. Не хочу видеть ее, нет. Представляю, как они с Мишей гуляют с коляской – счастливая семья, в которой мне нет места. В журнальчике для новоявленных мам вычитала – в животе ребенок уже различает голоса своих близких. И родившись, узнает их. Но мой голос будет вытравлен из его памяти, померкнет, растает, исчезнет.
Злюсь, ревную, задыхаюсь. Свернувшись, лежу в кровати, крепко зажмурив глаза.
Я вновь буду учиться искусству выживать. У меня есть музыка, которую мы слушали вместе. И есть водка – правда, она никогда ее не любила. И есть крепкий Эл-Грей с бергамотом. И поэтому я смогу выжить, зашторившись от мира, здесь, на даче. Наблюдая, как скачет белка по старым яблоням, а по небу несутся рваные осенние облака, и увядают цветы на участке – молча, медленно, без упреков и стонов.
Интересно наблюдать, как уходит чувство, не правда ли? С профессиональным любопытством ученого, глядящего в микроскоп, фиксировать, как по капле каждый день утекает нечто, казавшееся раньше важным.
Эмоции тускнеют, подергиваются дымкой воспоминания, кончики пальцев забывают прикосновения к любимой коже, а в замороженном теле уже не вспыхивает острой пульсацией желание.
Наши фотографии в ноутбуке, письма, скоро станут историей – как засохшие, аккуратно пришпиленные бабочки из школьной коллекции, снабженные пометками, датами. Мертвые бабочки. На крыльях причудливым узором застыла так и не разгаданная тайна, когда-то чарующая, волшебная, притягательная, теперь она стала скучным, не нужным, лишним прахом.
Иногда буду заглядывать в гербарий, осторожно сдувать пыль. Временами грустить. И собирать новые коллекции.
А почему бы снова не влюбиться? И чтобы идти на свидание с бьющимся сердцем, отчаянно чеканя каблуками по асфальту. Вдыхать, улыбаясь, смрад столицы – смог автомобилей, прогорклый дух беляшей-чебуреков, шарахаться от взбесившихся иномарок. И нести в сердце надежду. Что увижу вновь глаза. И в глазах этих узнаю свою родину – пусть не вечную, временную. Свое пристанище – пусть иллюзорное, зыбкое. Свой островок – неважно, что скоро смоет огромной волной. Свое спасение – через время оно обернется истерикой, судорогой, расплатой.
Скоро будет месяц, как родился малыш. Скоро будет месяц, как мы не видимся. Не шлем sms, не пишем письма, не звоним. Замуровались в своих мирах. Ощетинились.
Уже не хочу физической близости с тобой, Надя. Нет. Просто буду ждать, милая. Ждать, когда умрет наша любовь. Стиснув зубы – ждать. Каждый день, выполняя движения – ждать. Встречая звенящее утро, с благодарностью провожая догорающий день. И однажды наступит вечер. Я лягу в шезлонг, запрокину голову, сумерки зальют пространство, померкнут краски. Ветер, нежный, теплый, всё понимающий ветер будет играть над моей головой листьями старого клена. Ласкать обнаженные мои руки. Далеко в небе увижу крошечные робко встающие звезды. Наступит ночь. Заснут птицы, звуки, мысли. Что-то изменится в мире – неуловимо, необратимо. Будто тихо прикрыли дверь, заперли навсегда, унесли ключ в далекую страну. Проглочу комок грусти. В этот миг умрет наша любовь.
И я почувствую в сердце пустоту – желанную, освобождающую. И судорога, так долго и жестко выкручивающая тело, мозг, наконец, отпустит. Отпустит…
А как это будет у тебя, милая? Я хочу знать, я невыносимо хочу знать, как… это… у тебя?..
Август 2010