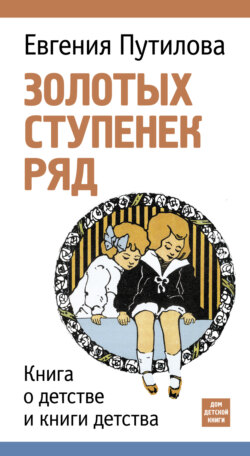Читать книгу Золотых ступенек ряд - Евгения Путилова - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть 1
Для сердца и разума
«Гордые мои мечты об этой “Азбуке”…»
Лев Толстой
ОглавлениеБольше пятнадцати лет в общей сложности работал Лев Николаевич Толстой над созданием «Азбуки» для детей. Родным и друзьям его казалось, что за это время он мог бы написать большие книги. Сам Толстой относился к этому труду иначе: «Я уверен, что я памятник воздвиг (курсив Толстого – Е. П.) этой “Азбукой”»; «Я же положил на неё труда и любви больше, чем на всё, что делал, и знаю, что это – одно дело моей жизни важное» [5].
Толстой отдал школе много. Но, может быть, ещё больше получил от неё сам. Подспудно, незаметно для него, его размышления, уроки и прогулки с детьми становились частью его художественного мира, давали богатый материал для сюжетов, эпизодов его будущих книг.
Так, например, если события его личной жизни тех лет нашли глубокое выражение в истории Кити и Левина, то, конечно же, влиянием яснополянской школы во многом окрашены поведение и чувства девятилетнего Серёжи Каренина. Сомнения Толстого-учителя, нужно ли на уроке грамматики требовать от детей «механического разложения» живой речи на всякие определения, полностью подтвердились Серёжей Карениным, который решительно не мог «понять, как коротенькое и такое понятное слово “вдруг” есть обстоятельство образа действия».
Всем своим поведением Серёжа выразил самые глубинные педагогические рассуждения Толстого, в частности, о двух типах учеников, где один – способный, но учится плохо, потому что его натуре чужды принципы схоластического воспитания, а другой – куда менее способный и без труда заучивающий всё, что требует учитель. Отец и педагог были оба недовольны Серёжей: по их мнению, он не хотел учиться. Однако душа его «была переполнена жаждой познания. И он учился у Капитоныча, у няни, у Наденьки, у Василия Лукича, а не у учителей. Та вода, которую отец и педагог ждали на свои колёса, давно уже просочилась и работала в другом месте». Серёжа с удовольствием слушал рассказы из Библии (которую Толстой больше всего пересказывал ученикам и считал лучшей книгой для первоначального детского чтения, образцом «как по форме, так и по содержанию»).
Общение Толстого с детьми помогло ему в те годы проверить и разрешить многие его сомнения и вопросы: как объяснять историю и как писать о ней? Нужно ли человеку искусство? В чём заключается сила художественного слова?
Незабываемым для Толстого и для детей, может быть, «самым памятным» часом стал урок истории о войне с Наполеоном. События пятидесятилетней давности вызывали у слушателей бурную реакцию: отступление наших войск мучило слушателей, они требовали объяснений, спорили о Кутузове и Барклае. Но как только дошло до прихода Наполеона в Москву, ожидания ключей и поклонов, – «всё загрохотало от сознания непокоримости». Наконец наступило торжество – отступление.
«“Как он вышел из Москвы, тут Кутузов погнал его бить», – сказал я. «Окарячил его!” – поправил меня Федька, который весь красный сидел против меня и от волнения корчил свои тоненькие чёрные пальцы. Как только он сказал это, как вся комната застонала от гордого восторга».
Восторг был так силён, что переход к воспоминаниям Крымской войны заставил чувства ребят вспыхнуть ещё сильнее. «Попался бы нам теперь Шевардинский редут или Малахов курган, мы бы его отбили» [6]. Этот пример и многие ему подобные привели писателя к выводу: для того, чтобы возбудить интерес к истории, необходимы два элемента – художественное чувство поэзии и патриотизм.
Невольно вспоминается здесь сон Николеньки Болконского после того, как Пьер рассказал в его присутствии о делах в Петербурге. Этот сон, завершающий сюжетное развитие всего романа и в какой-то мере пророческий, не мог ещё дать воображению Николеньки ничего хоть сколько-нибудь определенного… Он увидел себя и Пьера в касках – «таких, которые были нарисованы в издании Плутарха». Не зная ещё, что это будет, он хотел бы, чтобы с ним было то, «что было с людьми Плутарха», и он сделает то же, что они, и «сделает ещё лучше». Плутарх здесь не случаен. Толстой любил его, и, что было для него тогда важным, Плутарх был одной из немногих книг, включённых Руссо в круг чтения Эмиля.
Не меньшее значение для Толстого имела ночная прогулка с детьми по зимнему лесу [7], когда «конца не было этому белому, в котором только мы одни хрустели по снегу», и возникли из глубины души ребят вопросы самые сокровенные и для учителя.
Настойчиво спрашивая, зачем рисование, зачем пение, зачем растёт и цветёт липа, Федька, по существу, задавал самый главный вопрос: зачем искусство? Объяснения Сёмки, видевшего во всём в первую очередь пользу, не могли удовлетворить Федьку, и учитель, и они поняли друг друга, они поняли, что «не всё есть польза, а есть красота» и что искусство есть красота.
Именно этот разговор и вся открытая искусству, художественно одарённая натура Федьки становится для Толстого самым главным аргументом в его споре с противниками народного образования.
В ряду детских героев Толстого и Федька, и Сёмка должны занять своё место как два замечательных художественных типа, выражающих два разных подхода к жизни и поэзии.
И, наконец, самое яркое впечатление – совместное сочинение с учениками двух рассказов – «Ложкой кормит, стеблем глаз колет» и «Солдаткино житьё» [8] – вызвало к жизни статью «Кому у кого учиться писать: крестьянским детям у нас или нам у крестьянских ребят?» Собственно, это и не статья, а необыкновенный по силе рассказ о том, как под влиянием великого художника происходит процесс «заражения» его учеников искусством. Но ещё полнее воспроизвел Толстой здесь самого себя, с возбуждением, доходящим до той степени, что он кажется заболевшим.
В этом необыкновенном, исполненном высшей художественности пересказе, что и как Толстой увидел за строчками сочинений ребят, он изобразил себя в общей с детьми «заражённости» одними и теми же чувствами и убеждениями, испытанные им чувства – из тех, что «заставляют отрешаться от старого и вполне предаваться новому». Он был полон ошеломившим его радостным ощущением, что он открыл тот «философский камень, который тщетно искал два года, – искусству учить выражению мыслей» [9].
С конца 60-х годов Толстой задумывал и осуществлял новую огромную работу – «Азбуку», которая служила бы материалом чтения и образования для тысяч детей. Записные книжки и письма 1871–1872 годов передают предельную увлечённость Толстого новым трудом. «Что из этого выйдет, не знаю, а положил я в него всю душу»; «Всё время и силы мои заняты „Азбукой”»; «Эта “Азбука” одна может дать работы на 100 лет».
Ради чего хотел учить он крестьянских детей? Он писал:
«Как только дело касается живой души человеческой и можно полюбить тех, для кого трудишься, то уж бесёнку не убедить нас, что любовь – пустяк. <…> Я теперь весь из отвлечённой педагогики перескочил в практическую <…> и полюбил опять, как четырнадцать лет тому назад, эти тысячи ребятишек, с которыми опять имею дело. <…> Я не рассуждаю, но когда я вхожу в школу и вижу эту толпу оборванных, грязных, худых детей, с их светлыми глазами и так часто ангельскими выражениями, на меня находит тревога, ужас, вроде того, который испытывал бы при виде тонущих людей. Ах, батюшки, как бы вытащить <…> И тонет тут самое дорогое, именно то духовное, которое так очевидно бросается в глаза в детях. Я хочу образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там Пушкиных, Филаретов, Ломоносовых. А они кишат в каждой школе» [10].
В поисках материала он обращается к разным источникам – и в первую очередь к самому бесспорному: русскому народному творчеству. Второй источник – древнегреческая литература, ради которой он изучил древнегреческий язык; параллельно шло внимательное чтение литературы арабской, индийской, французской, немецкой. И не менее увлечённо он занимался геометрией, физикой, химией, астрономией, зоологией. Толстой хотел создать совершенно новую книгу, которая ответила бы ученику на множество вопросов из явлений окружающей жизни и стала бы для него источником художественного и нравственного воспитания. «Азбуки, арифметики, грамматики поглотили его всего настолько, что он перестал писать романы» [11].
Первое издание «Азбуки» (1872) вызвало, в общем, отрицательное отношение. Обычно равнодушный к критике Толстой на этот раз «почувствовал огорчение и уныние». Но неодобрительные отзывы не поколебали уверенности в необходимости и ценности работы:
«Если б мой роман потерпел такой неуспех, я бы легко поверил и помирился, что он не хорош. А это я вполне убежден, что “Азбука” моя есть необыкновенно хороша и её не поняли» [12].
Однако отстаивая и защищая свой метод обучения грамоте и арифметике, Толстой многое пересмотрел заново. Рождались новые сюжеты, уточнялись методы первоначального обучения, менялся план построения всей огромной книги, и когда в 1875 году вышла «Новая азбука», она сразу же получила широкое распространение. Её рассматривали как лучшую из существовавших книг для образования детей «и по форме, и по содержанию». Видный профессор-естественник и педагог С. А. Рачинский высказал уверенность, что своей работой Толстой оказал «величайшую услугу… русскому школьному делу» и что «нет в мире литературы, которая могла бы похвалиться чем-либо подобным» [13]. Он писал:
«Знаете ли Вы, какое сокровище Ваша азбука, Ваши книги для чтения? <…> Поверьте, что в Ваших школьных книгах есть та же доля сверхъестественного, то есть творчество par la grace de Dieu (Божьей милостью), как и в лучших Ваших романах».
Первым произведением из «Азбуки», опубликованным отдельной книжкой в 1872 году, была повесть «Кавказский пленник», особенно важная для Толстого: именно её он рассматривал как «образец тех приёмов и языка», которым он теперь пишет и «будет писать для больших».
Б. Эйхенбаум увидел в этой повести действительное воплощение «красоты и ясности рисунка и штриха», к которому стремился Толстой. Ничто в этом простом сюжете не напоминает романтическую поэму:
«Нет никаких психологических раскрасок, никаких отступлений в сторону. В основу положены простые, первобытные, «натуральные» отношения и чувства… всё действие построено на борьбе за жизнь» [14].
Это замечательно верно, если иметь в виду фабулу повести и двух героев – Жилина и Костылина. Но в повести есть и другая линия – лирическая и психологическая, и героиня её – тринадцатилетняя Дина. Повесть не случайно носит пушкинское название; не случайно русского офицера спасает девочка. Толстой подчёркивает красоту Дины, её чёрные ясные глаза, нарядную одежду, весёлый смех.
В жизни Дины не происходит никаких внешних событий, но происходят перемены внутренние, и причина их – её большая детская любовь к Жилину. Вначале он не вызывает у Дины симпатии: «Подала воду… Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он воду пьёт, – как на зверя какого». Но через некоторое время в душе девочки рождается сочувствие к пленнику, и совсем не за сделанные ей игрушки: её детское тонкое чутьё подсказывает ей, что Жилин – хороший человек. Чувство её становится деятельным: как пушкинская черкешенка, она носит ему молоко, лепёшки, мясо.
Перемена в судьбе Жилина после неудачного побега делает Дину взрослее. Полон истинного драматизма эпизод спасения Диной Жилина: она бежит до последней возможности, чтобы помочь ему сбить колодки. Горе и отчаяние переполняют её в минуту прощания с ним: «Спасибо, – говорит, – умница, – и погладил её по голове. Как заплачет Дина, закрылась руками, побежала на гору…». В изображении Толстого детская любовь оказалась не менее способной на решимость и сострадание, чем любовь взрослая.
Столь же многозначны десятки других детских рассказов, они вобрали в себя огромный мир размышлений, моральных и художественных представлений Толстого. Но здесь, в рассказах для детей, многое звучит в ещё более открытой, более обнажённой, лишенной каких бы то ни было условностей форме. Только в детских рассказах можно было сказать так: «мать сочла сливы и видит, одной нет.
Она сказала отцу» («Косточка»); «Отец спросил: “Кто разбил?” Мальчик затрясся от страха и сказал: “Я”. Отец сказал: “Спасибо, что правду сказал”» («Мальчик играл и нечаянно разбил дорогую чашку»).
Рассказ Платона Каратаева, так подействовавший на Пьера, – о несправедливо осуждённом купце Аксёнове, нашёл отражение в были «Бог правду видит, да не скоро скажет». Все те представления об отношениях между людьми, которые позднее легли в основу многих народных рассказов, с кристальной чистотой воплотились в сюжеты о крестьянской девочке, принесшей в дом найденного ребёночка, и о её матери, которая не хотела брать его, потому что они бедны, но доброта девочки и собственная жалость оказались сильнее («Подкидыш»); о мальчике, укорившем отца и мать за бессердечное отношение к немощи, и их раскаянии («Старый дед и внучек»).
В этом ряду детских рассказов особенно выделяется миниатюра «Старик сажал яблони…». В рассказе «Три смерти», как писал Толстой, только «дерево умирает спокойно, честно и красиво». Но в этой притче о старике человек оказывается выше природы: высшую красоту обретает нравственный поступок, старик сознательно оставляет плоды своего труда тем, кто будет жить после него. Так Толстой осуществляет давнишнюю мечту: «… воспитывая, образовывая, развивая… достигнуть наибольшей гармонии в смысле правды, красоты, добра» [15].
Но не менее важным было найти путь к чуду «заражения» ребёнка искусством слова. «Надо, чтобы все было красиво, просто и, главное, ясно» – так определил для себя Толстой главный и единственный принцип в этой работе. Умение писать коротко и просто давалось нелегко. «Рассказы, басни… есть просеянное в 20 раз большего количества приготовленных рассказов, и каждый из них был переделыван по 10 раз и стоил мне большего труда, чем какое бы то ни было место из всех моих сочинений» [16]. Самой трудной, «ужасной», оказалась работа над языком, неузнаваемо, по сравнению с «взрослыми» произведениями, менялись лексика, синтаксис. Если выписать одну фразу из романа Толстого, то в её объём уложится несколько детских рассказов с законченным сюжетом, ясно очерченными героями и событиями. В рассказах для детей Толстой стремился строить фразу из нескольких только слов, избегая обстоятельств образа действия, дополнений, причастных и деепричастных оборотов, описаний, эпитетов, метафор.
Если он и прибегает к сравнениям, то берёт их из мира обжитого, предельно знакомого ребёнку: «Вода эта горячая, как кипяток… и над местом, где идёт вода из горы, всегда стоит пар, как над самоваром» («Что случилось с Булькой в Пятигорске»).
Толстой видел в детях «черты сметливости, огромного запаса сведений из практической жизни, шутливости, простоты, отвращения от всего фальшивого». Он и стремился вызвать, возбудить интерес у детей к тысячам вопросов: куда девается вода из моря, отчего в мороз трещат деревья, отчего бывает ветер. Отвечая на эти вопросы, Толстой выступает замечательным мастером живого увлекательного общения с ребёнком. Объяснения Толстого (за которыми чувствуется его огромная работа) достаточно просты, но без упрощения. Он отбирает яркие, близкие и понятные читателю примеры, а затем от простого, знакомого ребёнку понятия и ощущения ведёт его к большим, интересным обобщениям и знаниям. Ответ, например, про ветер начинается с описания бумажного змея, которого ветер подхватывает и уносит высоко в небо, и если бы не было ветра, нельзя было бы запускать змея. Потом идёт описание такого близкого и знакомого ребёнку предмета, как мельница, и тоже, если бы ветра не было, нельзя было бы молоть зерно на ветряных мельницах. Потом так же интересно будет рассказано о парусной лодке, и в результате ещё многих примеров – огромный обобщающий вывод: «Если бы ветра не было, то где вода, там было бы больше воды, а земля вся бы пересохла» («Для чего ветер?»).
Особенного искусства Толстой достигает в рассказах для самого первоначального чтения. Рассказы эти, занимающие всего три-четыре строчки, необычайно насыщенны. Всё сразу начинается с действия: «Пошли дети на гумно…», «Была драка между Жучкой и кошкой». Всё ощутимо и наглядно, мир приближен, как будто смотришь на него сквозь увеличительное стекло: «Спала кошка на крыше, сжала лапки. Села подле кошки птичка» – и кошка, кажется, здесь как будто совсем рядом, настолько близко, что можно увидеть эти сжатые лапки и почувствовать угрозу, нависшую над птичкой. Каждая фраза в таком рассказе вырастает в отдельную картину, одна картина следует за другой, и все вместе они создают ощущение немаловажного и достаточно протяжённого во времени события.
В рассказах для старших детей Толстой вводит читателя в гораздо более сложный эмоциональный мир, но и тут тоже всё сдержанно и экономно. Одной-двумя деталями Толстой даёт почувствовать ощущение мальчиком всей меры своей вины: ведь из-за него погибла корова. «Миша… не слезал с печи, когда ели студень из коровьей головы»; как много скажет одно движение, одна фраза матери, когда после долгой нужды в семье снова появляется корова. Мать «села под корову, обтёрла вымя. Господи благослови! Стала доить корову, а дети сели кругом и смотрели…» («Корова»). Более старшим Толстой предлагает рассказы с острым драматическим и психологическим сюжетом («Прыжок», «Акула»).
Всю книгу Толстой разделил на четыре части: его читатели проходят как бы четыре ступени развития, каждая последующая книга содержит материал гораздо более сложный и по сюжету, и по языку, и по объёму, и в жанровом отношении. Жанровое разнообразие «Книг для чтения» чрезвычайно широко: басни, сказки, рассказы, истории, рассуждения, описания, сказки-стихи. Такое богатство форм родилось от потребности ввести в круг детского чтения обширный материал из жизни детей и взрослых, из мира природы и знаний, познакомить ребёнка с литературой других народов.
Толстой часто обращался к басням Эзопа, он любил его и видел в его баснях выражение веры в «вечно действующий и бодрствующий закон» морального правосудия. Передавая энергию и внутренний динамизм басен, Толстой почти всегда выпускал заканчивающие их поучения. И не потому, что Толстой был противником морального поучения. Он был уверен, что дети «любят мораль, но только умную, а не глупую». Просто Толстой считал, что поучительнее тот вывод, к которому ребёнок придёт самостоятельно.
Толстого привлекала бытовая и сатирическая сказка, она давала возможность полнее раскрыть народную жизнь, особенно народный характер. Некоторые сказки создавал он сам, используя народные предания («Волга и Вазуза», «Шат и Дон»), и придавал им явно поучительный характер: «Шат Иванович не послушался отца, сбился с пути и пропал. А Дон Иванович слушал отца… Зато он прошёл всю Россию и стал славен». Рассказы и были открывали повседневную, будничную и трудовую жизнь деревни, обстановку дома, деревенской школы. Но в повседневную жизнь врываются события необычайные, запоминающиеся, волнующие. Старший брат, пожалев младшего, уходит вместо него в солдаты («Рассказ мужика о том, за что он старшего брата своего любит»). Былью оказывается случай, когда мужик сумел решить задачу, с которой не могли справиться разные учёные люди («Как мужик убрал камень»). И ещё более необыкновенной былью оборачивается история встречи и свободного, весёлого, умного общения мужика с царём («Пётр I и мужик»). Былью оказывается и редкое по спокойствию, находчивости и мужеству поведение детей в минуту отчаянной опасности («Пожар», «Девочка и грибы», «Котёнок»).
В «Книгах для чтения» отсутствуют стихи. Но каждая часть заканчивается былиной с подзаголовком «стихи-сказка». Самое интересное здесь – обработка Толстого. Он бережно сохраняет во всех случаях народно-поэтическое начало и лишь заменяет одни народные формы другими. Фольклорная форма органично сохраняется. В то время, когда Толстой создавал свои книги, не существовало ещё инерции отбора былинных сюжетов для широкого читателя. Любимыми героями для Толстого оказываются Микула Селянинович, олицетворяющий любовь к земле, и Сухман: былина о нём связана с драматическим остросоциальным конфликтом.
Свыше шестисот названий содержат «Книги для чтения», но Толстой задумывал продолжение «Азбуки», мечтал расширить её исторический и былинный разделы, разработать новые научные статьи и дать статьи по новой истории. Уже намечались названия: «Фигнер», «Мазепа», «Ермак», «Пугачёв», уже подбирался новый раздел – из русской художественной литературы (А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский).
Приступая к работе над «Азбукой», Толстой писал в 1872 году:
«Гордые мечты мои об этой азбуке вот какие: по этой азбуке только будут учиться два поколения всех детей – от царских до мужицких – и первые впечатления поэтические получат из неё» [17]
5
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М.: Л., 1928–1958. Т. 60. С. 308.
6
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 102.
7
Об этом эпизоде см.: Гусев Н. Н. Л. Н. Толстой. Материалы к биографии. 1855–1869. М., 1957. С. 517.
8
Рассказ «Ложкой кормит…» помещён в «Книжке Ясной Поляны», 1962, № 4; «Солдаткино житье» – № 9.
9
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 306.
10
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. С. 130.
11
Дневники С. А. Толстой. 1860–1891. М., 1928. С. 33.
12
Там же. С. 34.
13
Письма Толстого и к Толстому. М.; Л., 1928. С. 216.
14
Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960. С. 83–84.
15
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 21. С. 321.
16
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. С. 250.
17
Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 61. С. 269.